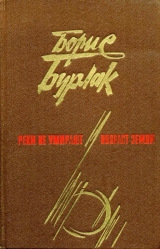
Текст книги "Реки не умирают. Возраст земли"
Автор книги: Борис Бурлак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 39 страниц)
12
Долгая, затяжная осень, прихватившая добрую половину декабря, закончилась. К утру выпал обильный снег. Морозы стояли и раньше довольно крепкие, да какая же это зима без снега. И вот она припожаловала к выходному дню.
Георгий затемно отправился на лыжную прогулку в рощу, за Урал. Но его уже опередили, он шел по торной лыжне, до восхода солнца проложенной через поляны, которые скоро затянет каленый наст. Шел мерно, не торопясь, хотя финские лыжи, почувствовав сухой снежок, опаленный жгучим утренником, скользили легко, подгоняя, подзадоривая. Тем и хороши лыжи, что, встав на них, ты незаметно для себя ускоряешь ходкий шаг. Именно бег в характере лыж. След вывел на берег реки в том месте, где она, огибая рощу, круто поворачивала на запад. Георгий остановился на самом острие излучины, возле подмытой с двух сторон ветлы, на которую он с сожалением смотрел в мае с городского берега. Выдюжила! Розовый иней опушил всю ее крону: он был до того ажурным, невесомым, что и непонятно, почему его называют таким тяжелым словом – куржак.
Урал давно оделся в ледяной панцирь, только под высоким обрывом одна-единственная полынья: ее так и не смогла одолеть декабрьская стужа. Георгий пристально вгляделся в полынью: какая страсть в этой вечной коловерти, если мороз не может справиться с ней даже на исходе года. Под козырьком обрыва, вершиной против течения, лежал великан-осокорь – он рухнул, защитив собой ветлу. И не о нем ли поет вода у берега?
Кто-то успел обозначить полынью лозовыми вешками на тот случай, если январь застеклит ее молодым ледком. Но вряд ли. Она – пульс Урала: пока он жив-здоров, пока стремится к морю подо льдом, толчки упругих родничков всю зиму будут напоминать о его казацкой силушке.
На обратном пути Георгий опять задержался на минуту близ обрыва. А куда же девалась перемычка в самом узком месте полыньи, где ночной буран пытался намертво перехватить ее, чтобы потом осилить по частям? Как не бывало перемычки. Тугой жгут речного стрежня калмыцким узлом соединил две половины незамерзающей луки, и вода еще веселее закипала под обрывом. Какая завидная неукротимость!
Он возвращался в город вместе с шумной ватагой студентов-медиков. Устал с непривычки, но то была целительная усталость. Только вошел в свою холостяцкую квартиру, как чуть ли не следом за ним явилась Павла.
– Почему меня не взяли? – громко сказала она с порога, увидев его в лыжном одеянии.
– Побоялся отстать от комсомолки.
– Не отделывайтесь шуточками.
Но Павла и в самом деле еще моложе выглядела сегодня. Яркий румянец заливал все ее смуглое лицо; большие темные глаза светились глубинным светом. «Вот когда разница в годах начинает наводить тебя на грустные раздумья», – не впервые отметил Георгий.
– Помните, я говорила вам о Сольцевой? Вчера опубликовали очерк после долгих проволочек. Нате, почитайте.
– Они, что же, не хотели печатать?
– Не то чтобы не хотели, но в общем не торопились. В редакции любой газеты подолгу лежат такие материалы – до случая. Тема не ко дню. Если бы Настасья Дмитриевна участвовала в разведке газового в а л а, тогда другое дело. Согласитесь, газете следует в первую очередь показывать героев нашего газового месторождения. Каждое время имеет свои акценты.
– Акценты... Но акцент на слове «человек», наверное, во все времена будет главным. Не понимаю, почему люди должны цениться по характеру того или иного дела, а не по отношению к делу.
– Не будем спорить, все имеет свое значение. Однако мы, газетчики, обязаны идти в ногу со временем.
– Шагайте, шагайте!.. Ну-ка, посмотрим, что ты сочинила...
«Настасья Сольцева права: геологи ревниво относятся к удачам своих коллег, – думала Павла. Дело всей жизни отца Георгия Леонтьевича и дело его собственное – твердые ископаемые. А газ его интересует постольку, поскольку он работает вместе с Шумским».
– Ты бросила камешек и в мой огород, – сказал Георгий, отложив газету.
– Обиделись?
– Нет-нет. Наше управление действительно ослабило разведку твердых ископаемых, того же никеля, не говоря о железе. Только медь и ищем. Все ходим по старому следу. Оно, конечно, вольготнее, чем прокладывать свой собственный первопуток.
– Я не думала, что очерк вызовет у вас приступ самокритики.
– Видишь ли, у тебя здесь выдвинуты проблемы: о поиске на старых месторождениях «золотого ключика» к новым месторождениям, о прямой, из рук в руки, преемственности в геологической службе. Ты начинаешь нравиться мне, Павла.
– Вот как...
Он внимательно посмотрел на Павлу. Его взгляд был по-прежнему горьковатым, но в глазах прибавилось света.
– Извини, я переоденусь. – И он ушел в соседнюю комнату.
Павла бесцельно оглядывала его рабочий стол, заваленный всякими папками и бумагами. Рядом с перекидным календарем стояла в рамке Шурочкина фотография. Она достала из кармашка вязаного жакета свои очки, без которых уже не обходилась в таких случаях (при всей нелюбви к очкам). Долго рассматривала Шуру, очень похожую на мать: светлые, ясные глаза, открытый лоб и затаенная улыбка в уголках пухлых губ – «а меня все равно не проведешь!» Эта карточка, наверное, всегда напоминает ему покойную Зою Александровну. Надо ведь так повторить каждую черточку, даже склад ее губ... Она хотела поставить фотографию на место, но опоздала – вернулся Георгий Леонтьевич.
– Просто не верится, что Шура уже невеста.
– Сам не знаю, когда выросла. Уезжал на Кубу, была совсем подростком, а вернулся – пожалуйста: дочь – комсомольский секретарь.
– Расскажите мне о Кубе, Георгий Леонтьевич.
– Как-нибудь под настроение, чтобы не сбиться на казенный слог. О ней нельзя говорить на этаком у с р е д н е н н о м языке. Что Куба, если я сегодня был заворожен знакомыми с детства картинами зимы. Стоял над кипящей полыньей, смотрел на опушенный лес, удивлялся необыкновенной чистоте вокруг и невольно вспоминал, как сухо рассказывал Ольгите о прелести нашей северной природы.
– Кто такая Ольгита?
– Моя переводчица из Кубинского института минеральных ресурсов.
– Видите, я ничего о вас не знаю.
– Ну-ну! Как же ты объяснялась двадцать лет назад?
– Ах, Георгий Леонтьевич, Георгий Леонтьевич, вы заставляете меня краснеть, право.
– Что было, то было. Не жалеешь?.. Зато я до сих пор жалею, что прошел мимо одной девушки.
«Правда?» – чуть было не вырвалось у Павлы.
Но для нее этой мимолетной фразы было слишком мало. Он же посчитал, что вот и объяснился, наконец, без лишних в его возрасте громких слов.
Он встал, включил приемник. Москва передавала сцены из чеховского «Дяди Вани». С первых слов доктора Астрова о редеющих лесах повеяло чем-то необъяснимо близким. Павла тоже поняла, что это Чехов. Какая загадочная простота; ни одного эффектного слова, но оторваться невозможно. Через несколько минут и она сама, и Георгий находились в полной власти чужих чувств, которые всегда кажутся сильнее собственных.
Георгий ходил по комнате, курил сигарету за сигаретой. Павла сидела около стола, на котором стояла фотография Шуры, но ей виделась уже не Шура, а бедная Соня, произносящая с горьким умилением под занавес:
«Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров... будем трудиться для других и теперь и в старости, не зная покоя...»
Когда передача кончилась, Павла сказала:
– Чехов, может быть, самый грустный из наших классиков. Однако удивительно: его вещи вызывают каждый раз не только грусть, но и робкие ощущения ранней весны.
Георгий остановился у порога, издалека посмотрел на Павлу.
– И это тем более странно, что почти в любой чеховской пьесе гремят выстрелы на сцене и за сценой, – добавила она.
Он подошел к ней, наклонившись, одной рукой обнял ее за плечи и поцеловал в сомкнутые губы. Она и отстраниться не успела. Он тут же отошел, взял очередную сигарету.
Павла проводила его растерянным взглядом. Она так долго ждала этого, что теперь, когда это случилось, она не могла поверить этому.
– Надо бы угостить тебя чайком, – вдруг спохватился он.
– Спасибо, мне пора идти.
Она не могла оставаться здесь ни одной минуты, чтобы как-нибудь случайно не разрушить хрупкого впечатления от его порыва.
Дома Павла обнаружила в почтовом ящичке письмо Олега, Мельком пробежала начальную страницу и огорчилась. Раньше она просто не отвечала ему на письма, думая, что все пройдет у парня. Ну, увлекся ни с того ни с сего, переболеет и забудется. Это бывает.
Однако дальше нельзя отмалчиваться. Она наспех набросала короткую записку. Прочла вслух дважды. Получилось что-то очень уж сердито. Так тоже нельзя отвечать на молодое чувство.
Она разорвала свою не в меру строгую записку-отповедь и принялась тщательно обдумывать другую. И кажется, перестаралась, вторая записка получилась слишком мягкой, оставляющей какие-то смутные надежды. И поэтому в конце добавила, чтобы он оставил ее в покое. Все-таки хлопнула дверью напоследок. Но что поделаешь? Безответная любовь – мука мученическая, и подогревать ее даже нечаянным кокетством грешно, право, хотя кому из женщин не льстят увлечения молодых людей... Ну о чем он думает? Разве не догадывается, что Георгий Леонтьевич – давняя судьба ее, Павлы? Или считает, что время сожгло все мосты? Но время умеет и наводить мосты...
Павла стояла у окна, смотрела на зимний притихший город. Крупные снежинки лениво роились у фонарей, точно поденки. Она думала о том, что вот сегодня и начался новый отсчет времени. Как ни мало живет человек на свете, однако ради будущего готов потерять целые десятилетия, чтобы поскорее одолеть «ничейную» полосу в жизни.
Павла верила в синхронную связь настроений: Георгий тоже, конечно, думает сейчас о ней. Но как? Отрывочно, между прочим, или сосредоточенно? Быть может, ему труднее подвести красную черту под колонкой минувших лет: у него взрослая дочь – трепетная память о прошлом. Тут не легко перейти к новому отсчету времени. Недаром он долго странствовал по свету, похоронив свою Зою Александровну. Второй брак, вторая жена – не любой и каждый способен сохранить свежесть чувств после пережитого. Единственное, на что надежда, – это эхо молодости.
А Георгий в тот вечер уснул сразу, едва прилег. Что значит весь день провести за городом, на лыжах. Спал крепко и поднялся бодрым, в отличном расположении духа, будто сбросил с плеч десяток лет.
Георгий пришел на работу, как обычно, раньше всех и позвонил Павле, чтобы просто услышать ее звучный, грудной голос. Не ответила.
Он взглянул на себя глазами Павлы: как он неумело обнял ее, торопливо поцеловал и отошел в сторонку, испугавшись своей дерзости. Они вроде бы поменялись теперь местами: она выглядит спокойной, равнодушной, а он позволяет себе такие штучки. Надо бы поговорить, что называется, солидно, так нет, он отделывается всякими иносказаниями. До сих пор подумывал лишь о том, что к кому-то придется, рано или поздно, приклонить голову, не веря уже в чувства, которые с годами становятся до того рассудочными, что сама логика может позавидовать им; Но, выходит, песенка твоя еще не спета, товарищ Каменицкий?
Он снова позвонил ей на квартиру. И снова одни протяжные гудки. Да что с тобой в конце концов? Что за странное желание – сию минуту услышать ее голос? Э-э, друг Георгий, ты и в самом деле теряешь равновесие. Негоже, негоже на исходе пятого десятилетия.
Как раз тут и вызвал его к себе начальник управления.
– А я считал, что вы еще в командировке, – сказал Георгий, пожимая руку Илье Михайловичу.
– Еле добрался.
– Выпало столько снега, что немудрено было застрять.
– Добирался на всех видах транспорта, включая л у н о х о д.
– Что за луноход?
– Не знаете, Георгий Леонтьевич? Я тоже удивился, когда мне сказали, что повезут меня на луноходе. Да вам приходилось пользоваться его услугами.
– Нет, не догадываюсь, Илья Михайлович.
– Обыкновенный гусеничный трактор с санями на прицепе и дощатой халупкой на санях.
– Оригинально! – рассмеялся Георгий, – И кто же его так метко окрестил?
– Нашелся остряк-самоучка. Довольно тонкий намек на лунное бездорожье на земле.
Илья Михайлович выглядел молодцом. Комиссия по запасам утвердила еще триста миллиардов кубометров разведанного газа – неплохой прирост за год. Словом, дела у него шли в гору. Несколько дней назад в газетах был напечатан список лиц, выдвинутых на соискание Государственных премий, и в том списке значилась группа Шумского. Георгий поздравил с успехом.
– Мне, знаете ли, везет. В Татарии была удача, теперь здесь, – сказал Илья Михайлович таким тоном, будто речь шла действительно о простой удаче.
Они просидели вдвоем больше часа. Георгий обстоятельно доложил начальнику управления о ходе разведки на медь. Шумский остался доволен. Как бы размышляя вслух, он заговорил вполне уже доверительно:
– Боюсь, что теперь не дадут работать. Слава, Георгий Леонтьевич, всегда меняет отношения между людьми. Кого ты считал всю жизнь другом, тот совершенно неожиданно становится твоим противником.
– Зависть – неизбежная тень славы.
– Соавторов много развелось, вот в чем беда.
– Ну, к вашему открытию не присоединишься.
– Вы думаете, Георгий Леонтьевич? Могут найтись ловкие. К тому же эти соавторы – люди злопамятные. Не пойдешь на компромисс, они не пожалеют сил, чтобы и тебя лишить всех лавров. Конечно, дело не в лаврах, а в справедливости. И поверьте, я беспокоюсь главным образом о своих товарищах.
Георгий вспомнил Голосова, вечного с о а в т о р а отца, и не мог не согласиться с Шумским.
13
Кто бы ни приезжал в столицу с Южного Урала – начальник стройки, или главный инженер, или директор завода, – почти все каждый раз наведывались к Метелеву. И он охотно принимал всех. Больше того, сердился, когда его обходили. Эта привязанность Метелева к землякам сохранилась с той поры, когда он был секретарем обкома. Уральцы в шутку называли Прокофия Нилыча своим п о с т п р е д о м (постоянным представителем) в Москве.
Зашел <к нему сегодня и Ян Плесум. Хозяин обрадовался гостю, провел в свою рабочую комнату, усадил в кресло и сам сел напротив.
– Что новенького, Иван Иванович, на земле уральской?
– Вот новый титул утвердили, будем строить четвертую домну.
– Знаю. Ты расскажи, как вы там поживаете?
– Вашими молитвами живем, Прокофий Нилыч. Домна – это уже шаг вперед.
– Не Такими шагами должен был шагать Молодогорск.
– Что ж, у каждого города своя судьба. Иные города слишком преуспевают, хотя мало что дают взамен за госплановскую щедрость. Наш городок не из таких.
– Полагаю, что скоро выйдете на широкую дорогу.
Метелев с любопытством приглядывался к Яну Плесуму: рост гвардейский, косая сажень в плечах, а глаза девичьи, светло-голубые. Он еще с гражданской войны проникся уважением к латышам, которые взяли тогда его, парнишку, в свой конноартиллерийский дивизион.
– Как там старик Каменицкий, все воюет?
– Недавно заговорил о новой находке. Один колхозник рыл колодец и наткнулся на руду. Оказывается, Леонтий Иванович пробовал искать в тех же местах сорок лет назад, но в то время Самара не помогла ему довести дело до конца. Теперь он вдобавок раскопал книжки в архиве казачьего войска, из которых явствует, что об этой руде знали еще сто лет назад.
– Любопытно.
– И опять нашлись скептики, на сей раз молодые.
– Но у старика теперь сын – главный геолог управления.
– Этому управлению хватает дел с газом.
– Да, кстати, Иван Иванович, твоего генподрядчика хотели перевести на газохимический комплекс. Пришлось заступаться.
– Ак, та![2] 2
Ах, так (латышск.).
[Закрыть] Спасибо. Прокофий Нилыч. Я слыхал краешком уха. Нет уж, Петр Ефимович Дробот тяжеловат стал на подъем. Укатали сивку крутые пятилетки. На обжитой стройплощадке, конечно, поработает еще, но с колышка начинать такую махину – не по его годам. Здесь нужно потягаться не с одним министром. Недавно я сказал областным начальникам: если уж всерьез браться за наш газ, то в первую очередь надо построить общежитие для министров...
– Общежитие министров?! – Прокофий Нилыч хохотал до слез, не обращая внимания на Плесума, который с лукавой добротой посматривал на него, моложавого, всегда подтянутого столичного инженера.
– Ты скажешь, Иван Иванович!.. Так, значит, говоришь, общежитие для министров? Пожалуй, тут есть рациональное зерно. Одни вы не осилите миллиардную стройку.
– Бог с ним, с газом. Нам бы с Дроботом вывести в люди свой комбинат.
– Говорят, что вы занялись экспериментами на комбинате?
Плесум насторожился.
– Кто говорит?
– Да ты не бойся, это мне сказала моя дочь, она тоже сейчас в Москве.
– А я ничего и не боюсь. Но то, что мы делаем, делаем без ведома министерства. Нашелся один энтузиаст, недавно защитивший диссертацию...
– Инженер Войновский?
– Вы, оказывается, все знаете, Прокофий Нилыч.
– Не все, но кое-что знаю. Ты, пожалуйста, не сердись на Павлу. Она не собирается писать о ваших экспериментах до той поры, пока вы не решите проблему обогащения руды. Если уверены в успехе, продолжайте свои опыты. В конце концов, без риска нельзя работать в век технической революции.
– Мы не рискуем ни одним процентом государственного плана и ни одной народной копейкой.
– Тем более.
– А что касается экономического эффекта, то он может быть самым неожиданным, особенно для профессора Голосова.
– Семен Захарович не металлург.
– Но с ним считаются в Министерстве черной металлургии. С виду человек без власти, а по существу диктатор. Весьма удобная должность – консультант, позволяющая бить противников чужими руками.
– Напрасно ты, Иван Иванович.
– Здесь у вас другие масштабы, вам иногда может показаться, что какой-нибудь провинциал наивно преувеличивает тот или иной факт. Но поверьте, Прокофий Нилыч, если внизу поу́же кругозор, то пошире основание для некоторых выводов.
– Возможно, возможно... – уклончиво отозвался Метелев, не желая спорить. – Ну-ка, расскажи мне подробнее, за что воюет твой Войновский.
– Пожалуйста, – охотно согласился Плесум.
Инженер Войновский, по его словам, принадлежал к тем людям, которые защищают не столько сами диссертации, сколько интересы дела. Он убежден, что комбинат стоит на такой руде, о которой может мечтать, любой металлург, а работает комбинат на привозных рудах. Все дело в том, что местная руда до сих пор идет в домны в сыром виде. Во время плавки происходит окисление хрома и угар железа, образуются хромистые вязкие шлаки. Металл как бы «связывается» и химически и физически. Выход один: надо искать эффективный метод обогащения руды. Но министерство абсолютно равнодушно к молодогорскому чугуну и стали, хотя они и долговечны, и меньше поддаются коррозии, и содержат вдобавок к никелю еще и микролегирующие элементы – титан, ванадий, молибден. На комбинате уже доказано опытным путем, что обогащение руды можно довести до 47, даже до 55 процентов, что агломерат получается не хуже, чем из обычных руд, что производительность доменных печей при этом нисколько не снижается. Но воз и ныне там. Словно бы никого и не интересует, что общая стоимость никеля и кобальта, содержащихся в тонне молодогорского чугуна, окупает все затраты на одну тонну, и сам чугун, таким образом, обходится бесплатно. Почему же лидеры черной металлургии уклоняются от решения проблемы? Отчего и некоторые уважаемые доктора наук, как черт ладана, боятся этой стали, которая идет нарасхват? Говорят, что некий американец Томсон пытался в 1871 году получить природнолегированную сталь, но безуспешно. Наконец, утверждают, что в той же Америке с 1906 года проводятся различные опыты с хромом: как сделать так, чтобы сохранить его в стали и одновременно избежать угара железа. Да всякое говорят и утверждают, только бы не заниматься поисками инженерного решения. Не потому ли ярские руды – настоящий дар земли – по вине ученых-рутинеров давно отнесены чуть ли не к бросовым...
– А ваш Войновский – дельный мужик, – заметил Прокофий Нилыч. – И как у него там называлась диссертация?
– «Исследование особенностей производства природнолегированной стали на базе ярских руд».
– С такой темой не уклонишься от встречного боя.
– Он и принял бой.
– Как защитил диссертацию-то?
– Противники его не ожидали, что он встретит их во всеоружии...
– Значит, бойцовская натура.
– Среди его оппонентов неожиданно нашелся один неофициальный, который сам на заре туманной юности защищал диссертацию на материалах Ярского полиметаллического месторождения. Своего рода двойник Голосова, только металлург. Так вот этот Иван, не помнящий родства, видимо, рассчитывал на то, что Войновский молод и не знает в деталях всей ярской проблемы, поэтому и начал слишком самоуверенно, безапелляционно. Ну, тогда Войновский процитировал ему давно забытое его сочиненьице. Как сей важный оппонент ловко изворачивался, чтобы хоть немного сгладить неприятное впечатление присутствовавших! Откуда, Прокофий Нилыч, берутся такие в нашем-то обществе?
В передней прозвучал громкий, требовательный звонок. Хозяин пошел открыть дверь, сказав на ходу: «Павла, наверное, явилась».
Но это явился нежданно-негаданно сам Голосов. Обычно он звонил по телефону, прежде чем зайти, а сегодня приехал без всяких предупреждений.
«Легок на помине», – с досадой отметил Плесум, сразу же узнав его по внушительному баритону с этаким раскатцем.
– Ты прости, Проша, я к тебе по пути, – рокотал он в передней. – Завтра у нас семейное торжество по случаю дня рождения твоего покорного слуги, вот я и решил уведомить тебя загодя, чтобы ты не втянулся в какое-нибудь совещание.
«Они наверняка закадычные приятели, а я тут замахиваюсь на дружка Прокофия Нилыча», – подумал Плесум.
– И хорошо, что заглянул, – пропуская вперед нового гостя, сказал хозяин.
Голосов приостановился в проеме распахнутой двери, – высокий, сухой, прямой, – и, увидев Плесума, молодцеватым шагом направился к нему.
– Ба-а, кого я вижу!...
Плесум встал, поклонился, подал руку.
– Не ожидал встретить вас, Ян Янович, у Прокофия, не ожидал. А впрочем, он же постпред Урала в стольном граде! Как здоровьице ваше?
– Креплюсь.
– Ты смотри, Проша, он крепится! – живо оглянулся на Метелева Голосов. – Нам с тобой полным ходом идет седьмой десяток – и ничего, не собираемся уходить на пенсию, а ему нет и шестидесяти. Да вам, дорогой Ян Янович, надо, как минимум, с полдюжины доменных печей в ход пустить.
– Если так строить, то для меня и четырех будет много.
– Сами виноваты, батенька мой. Вернее, виноват и ваш предшественник. Выбираете руду для комбината, как невесту для жениха: эта не хороша собой, к этой слишком далеко ехать...
– Нам вовсе не нужно выбирать на стороне. За нас выбирает министерство.
– Но в данное время вопрос, кажется, решен наилучшим образом. В районе Соколовско-Сарбайской аномалии открыто новое крупное месторождение – Лисаковское. Теперь богатой руды хватит на десятки лет. Только стройте, расширяйтесь.
– Нам вовсе не нужно очень расширяться. Мы со временем станем комбинатом спецсталей.
– Блажен, кто верует!
– Товарищи, может быть, поговорим на другую тему? – предложил хозяин.
Голосов привычно огладил серую прядь реденьких волос, которая едва прикрывала лысину.
– А никакой другой темы у нас с Яном Яновичем и нет. – Он упорно называл его по-латышски. – У кого что болит, тот о том и говорит. Я не раз уже советовал вам, Ян Янович, оставить всю эту затею с природнолегированной сталью. Никому пока не удавалось наладить ее производство в заводских масштабах. Американцы пробовали еще в прошлом веке – не получилось.
– Мало ли кто что пробовал в прошлом веке.
– Дорогое, дорогое удовольствие. Не стоит овчинка выделки.
– Если уж вы, Семен Захарович, заговорили на экономическом языке, то приведу вам характерный случай. Однажды у моего предшественника явно не сходились концы с концами, чтобы выполнить план по валу. Собрал он весь синклит и заявил: «Не хватает двух миллионов рублей. Где взять?» Долго думали-гадали. Казалось, выхода нет. И тогда кто-то из инженеров посоветовал резко увеличить выпуск природнолегированной стали. И что же вы думаете? Два миллиона целковых были найдены, точно валялись под ногами.
– Случай забавный. Но я имел в виду совсем другое. Не частный выигрыш в деньгах, а совершенно неминуемый проигрыш в общем уровне технической культуры. Вы же никуда не денетесь от того, что производительность доменных печей падает при работе на местных рудах.
Плесум хотел было сказать под горячую руку, что он, Голосов, рассуждает как дилетант в металлургии, но пощадил профессорское самолюбие.
– Извините, я пойду, меня ждут в главке, – сказал Плесум.
– Ладно, ноль-ноль, ничья! – мило улыбаясь, заключил Голосов. – Как-нибудь продолжим.
– Голкипер вы искусный, уважаемый Семен Захарович, но мы постараемся найти неотразимых нападающих, – заметил Плесум, направляясь к выходу.
– Каков, а? – сказал Голосов, когда Прокофий Нилыч, проводив директора комбината, вернулся в комнату.
– Нехорошо, даже не остался на обед.
– Это я вечно лезу в драку. Он задел меня сегодня за живое. Вообще-то Плесум – человек осмотрительный, а сегодня и латышская выдержка подвела его.
– Напрасно ты, Семен, горячишься. Им там виднее. Ты же не доменщик, не сталеплавильщик.
– Но по долгу службы я отстаивал и буду отстаивать более перспективные руды. Самое живучее местничество – в геологии: откроют что-нибудь и шумят, шумят годами, ничего другого уже не видя.
– Так-так. Вот узнаешь? – Метелев взял с книжной полки и положил на стол тоненькую брошюру в линялой розовой обложке.
– Моя. Не отказываюсь. Была зачтена мне при защите кандидатской диссертации.
– Вот еще.
На стол лег объемистый том в черном ледериновом переплете.
– Тоже мой. Докторская диссертация. Ну и что?
– Кандидатом ты стал перед войной, доктором после войны. У тебя было время для переоценки своих взглядов. Но ты и несколько лет назад строго придерживался их в газетах и журналах.
– Проша, дорогой, да разве я начисто отрекаюсь от прежней точки зрения? Дойдет очередь и до ярской руды, когда металлурги подберут к ней ключи. Но пойми: нельзя превращать целый комбинат в лабораторию! Государству нужен металл, много металла, и лишние три-четыре миллиона тонн будут очень кстати.
– Никто не спорит против азбучных истин.
– Я к тому, что защитники молодогорской стали уже проиграли бой.
– Однако случается, что в проигранных сражениях героев бывает больше.
– Куда махнул!
– Возможно, что Каменицкий и Плесум как раз и являются проводниками технической революции, а кое-кто считает их местниками. Наконец, возможно, что те, кто выступает под флагом государственных интересов, на поверку окажутся людьми, которые давно работают по инерции, с выключенной скоростью.
– Ну, знаешь, батенька мой, от кого, от кого, но от Метелева я не ожидал такого флангового захода!
– А я не о тебе, я о некоторых руководителях ЦНИИчермета. Они же делают техническую политику.
– Брось хитрить! Ты великолепно знаешь, что твой покорный слуга, в контакте с бардинским институтом.
– Тебе-то простительно, ты геолог.
Семен Захарович сердито мотнул головой, и прядка волос упала на его высокий лоб, обнажив продолговатую лысинку. Он поспешно поправил волосы скользящим движением руки.
– Что же, металлургия для меня вроде художественной самодеятельности, что ли?
– Не знаю уж. Я говорю о металлургах. Практики ставят смелые инженерные вопросы, а ученые-металлурги отмалчиваются.
– Вопросы, вопросы! Вся жизнь состоит из вопросов. Недавно мне пришлось волей-неволей срезать одного толкового практика, сочинившего диссертацию. Вопросов навыдвигал целую уйму, да толку что. Разведчик дельный, открыл интересное месторождение, вопросы из него так и прут, но обобщений никаких.
– Полагаю, что за каждый принципиально новый вопрос уже причитается степень кандидата. Что же касается обобщений, то вам, докторам наук, и карты в руки. Ты ведь, Семен, мастер обобщать.
– Нет, с тобой сегодня, Проша, невозможно разговаривать – какой-то дух противоречия вселился. Я лучше, батенька мой, пойду, пока мы не поругались. Зашел на минутку, прости. Жду вас с Ольгой Николаевной завтра, к семи вечера...
Метелев закрыл дверь и остался, наконец, один. Нехорошо получилось. В таком регистре они с Семеном, кажется, никогда еще не говорили. Нашел чем хвастаться: он, видите ли, срезал опытного геолога. Дело не хитрое, когда язык хорошо подвешен. Тот, практик, возможно, располагает богатым фактическим материалом. У геологов чуть ли не любая серьезная находка – готовая диссертация, однако в степени кандидатов и докторов, часто возводятся не первооткрыватели, а их первотолкователи. Ценится вроде бы не сам факт, ценится умение погромче сказать о нем. В конце концов Семен Голосов ничего не открыл за свою жизнь, на счету же Каменицкого полдюжины открытий. Но Леонтий Иванович так и остался рядовым инженером, и если заслуги его теперь отмечены, то государством, а не наукой. Это как у медиков: лечат одни, в профессорах ходят другие. Анна, бывало, гордилась тем, что она просто лечащий врач, которому надо спасать больного человека... Неожиданно вспомнив первую жену, Метелев надолго задумался о ней.
Павла стряхнула варежками чистый снег с полированного камня на могиле матери и устало выпрямилась. Она ходила по кладбищу целый час. Отец прав, говоря, что теперь здесь у него друзей больше, чем среди живых. (Что отец, если даже она сама знает тут многих.) Когда в сорок первом году хоронили Анну Метелеву, майора медицинской службы, то могила ее была крайней. Но со Временем Анна Михайловна оказалась в тесном окружении героев Отечественной войны, которые прошли огонь и воду, а в мирные годы замертво падали, один за другим, на минных полях инфаркта...
Она пошла к выходу через новую часть кладбища, где памятников было меньше и оттого казалось просторнее. На западе, за Москва-рекой, светилось вполнакала занавешенное дымкой солнце. Было совсем безветренно. Воздух искрился от мелких снежинок-блесток, которые подолгу не опускались на землю. С большого портрета, установленного на ближнем холмике, на Павлу глянул что-то очень уж знакомый, широколицый мужчина. Она приостановилась от внезапности встречи. Да это же Марк Бернес... Он улыбался весело, утаивая печаль в глазах. Павла постояла несколько минут, осматривая его последнее пристанище. Выйдя за ворота, она услышала на редкость грустную, щемящую музыку. Осмотрелась. Поодаль стоял туристский автобус, и музыка доносилась, конечно, оттуда.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Невероятное было в том, что человека нет в живых, а его знакомый, глуховатый голос продолжал звучать и останавливать людей.
И еще невероятнее было то, что эта песня оказалась лебединой для самого певца.







