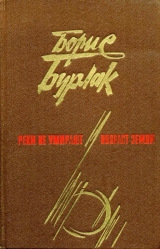
Текст книги "Реки не умирают. Возраст земли"
Автор книги: Борис Бурлак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 39 страниц)
20
Внизу, под обрывом, весело бежала лесная речка, нестерпимо отсвечивая зеркальными бликами, и высоко над ней был переброшен зыбкий мостик – поваленное, дерево. Все тут играло, переливалось одной зеленой краской – от густо-темной в черемуховой чащобе до пронзительно-ясной на гребне откоса. А вокруг, кажется, звенели от полуденного солнца медные стволы сосен.
И Георгию Каменицкому стало жаль, что кто-то никогда не увидит всей этой прелести. Он долго стоял на откосе, веря и не веря тому, что окрест заповедного бора на сотни километров, особенно на восток да и на юг, протянулись выжженные степи Предуралья. Илья Михайлович Шумский сидел на пне в сторонке и с наслаждением курил, пользуясь остановкой. Они с утра сегодня странствовали по бору вместе с ученым лесоводом Данилевичем. Когда Илья Михайлович собрался в командировку, чтобы посмотреть, как идут дела в Западной экспедиции, Георгий напросился ехать с ним. Он немало слышал об этом сосновом чуде в степи, но все проезжал мимо него на скорых поездах. Все спешил куда-то. Все не хватало времени пересесть на более почтительный к рядовым станциям местный поезд.
Яков Николаевич Данилевич встретил геологов настороженно, но они рассеяли его тревогу: нет-нет, никто и не думает возобновлять разведку в лесу, просто хочется взглянуть на заповедное хозяйство. Тогда интеллигентный Данилевич успокоился и решил лично показать, на что же замахивались нефтяники.
Они побывали в нескольких лесничествах: осмотрели питомники, любовно ухоженные старые гари, целые делянки сосняка, который пережил не одно поколение людей, даже поднимались на пожарные наблюдательные вышки. Бор был полон жизни: еще не отпели свое залетные соловьи, отстукивали «морзянку» «дежурные» дятлы, парили над лесными прогалинами беркуты, и через узкие просеки кое-где пробегали косули, белки, а в одном месте повстречался и редкий обитатель бора – пятнистый олень. Потом Данилевич привез гостей к бобрам. Конечно, самих четвероногих гидротехников Шумский и Каменицкий так и не смогли понаблюдать, но зато уж вдоволь потоптались на их плотине, над таинственной запрудой, отливающей коричневым глянцем. Что ж, плотина как плотина: хворост в наброс заменяет стальную арматуру, а вместо бетона идет в дело речной ил.
На восточной опушке Илья Михайлович остановил машину.
– Вот она, наша счастливая буровая!
Они втроем подошли к старой, наглухо заделанной скважине.
– До тысячи тонн давала в сутки, – сказал Илья Михайлович с таким сожалением, что Георгий улыбнулся: «Сколько ты ни показывай геологу-нефтянику дивные красоты леса, а ему все не дают покоя брошенные скважины».
Чуткий Данилевич поторопил ехать дальше: к чему разжигать профессиональную страсть разведчиков.
На западном окоеме бора, на территории уже соседней области, до сих пор шла добыча нефти и горели факелы попутного газа. Данилевич сам попросил шофера остановиться.
– Как видите, зрелище не из приятных, – живо повернулся он к Илье Михайловичу. Лес и факелы. Бор и нефть. Нет, это абсолютно несовместимо, товарищ Шумский.
Рядом асфальтированная дорога была перехвачена длинными переметами песка, ветер гонял за кюветом ржавый катун, похожий на мотки негодной проволоки. Заволжские суховеи наступали на лес, и сторожевые сосны, в окружении подлеска едва противостояли их натиску. Теперь уже Илья Михайлович, в свою очередь, поспешил обратно в лес.
Ничего, не скажешь, в лесу была райская благодать. Лучшие свои годы Шумский провел на буровых и в дальних странствиях на вездеходах. Судьба не очень-то баловала его, хотя он и был отмечен Государственной премией. Он работал не на судьбу, а на страну, которая всегда очень нуждалась в нефти. Потому и так рьяно защищал он это месторождение в реликтовом бору посреди заволжской выжженной степи. Но вот, оказывается, действительно слишком переусердствовал. Кто-кто, а уж геолог никак не может быть временщиком. Легче всего погубить этот лес, под которым искусная природа тщательно собирала свое редкое сокровище долгими-долгими веками. Кому-кому, а уж геологу, привыкшему измерять время эпохами в десятки и сотни миллионов лет, следует, конечно, первому задуматься о том, как разумно поделиться земными богатствами с грядущими поколениями.
На кордоне они тепло поблагодарили Данилевича и отправились на базу экспедиции, оставив ученого-лесовода в бору, где у него были неотложные дела.
Через каких-нибудь полчаса езды они уже оказались на южной границе бора, откуда начинали свое путешествие. И снова пахнуло зноем, обдало пылью, точно и не было лесной прохлады. Из рая да в степное пекло! Шофер остановил машину, опустил ветровое стекло.
– Ну и пыльно, как на Луне! – сказал Георгий.
Илья Михайлович промолчал.
– Так сколько здесь нефти? – спросил Георгий.
– Всего наберется до сорока миллионов тонн.
– Да, заманчиво взять ее, черт побери. Но бор! Что станет с бором? И что станет с окрестной, степью? Немедленно изменится микроклимат. Лесистые холмы снова превратятся в кочующие дюны, песчаные реки потекут по чернозему, намертво затягивая хлеба. И это еще не все. Кто знает, где зарождаются летние дожди, что и без того так скупо орошают поднятую за Ярском целину? Ну, конечно, скажут, над морями. Но и над лесами. Не этот ли чудо-бор, являясь полустанком на их пути, помогает им добираться до самого восточного края нашей области, что граничит с Притобольем? Вот о чем надо крепко подумать, решая судьбу леса. Не обернутся ли миллионы тонн легко добытой нефти десятками миллионов пудов безвозвратно потерянной южноуральской пшеницы, которой нет цены...
– Мрачную картину нарисовали вы, Георгий Леонтьевич, – нехотя отозвался Шумский.
– Вообще-то, конечно, заманчиво, весьма заманчиво добывать нефть в обжитом районе, где неподалеку готовый нефтепровод, – словно бы подзадоривая своего начальника, добавил Георгий.
– Это мы вгорячах врезались в бор. Сам вижу теперь, что не надо было его трогать.
– Ваша гражданская позиция, Илья Михайлович, заслуживает уважения. Лес, в котором и в годы войны не рубили лучшие сосны, все-таки дороже нефти, тем паче, что мы стоим накануне новых, куда более крупных открытий. А вот профессор Голосов не прочь помахать топориком в своих статьях.
– Читал я вашего Голосова.
– Моего Голосова? А впрочем, у каждого из нас есть свой Голосов. Он ведь мало чем отличается от вашего Аюпова.
Каменицкий пожалел, что нечаянно заговорил об этом. Но Илья Михайлович пропустил мимо ушей – он, как видно, уже пережил недавнюю острую обиду, когда ему не присудили премию – и как ни в чем не бывало стал рассуждать о Данилевиче, о лесниках. Георгий слушал, не прерывая. Он был доволен поездкой с Шумским по лесу, даже его раненая рука, болевшая всю неделю, перестала ныть. Главное – он ближе узнал Илью Михайловича на путевом досуге, где человек познается в житейских обстоятельствах.
Они вернулись домой в субботу: можно еще было отдохнуть денек с дороги, чтобы со свежими силами начать новую рабочую неделю...
По воскресеньям, чуть свет, Георгий обычно уходил за город, в рощу. Отправился он и сегодня, тем более, что в городе стояла невыносимая жара. Среди ветелок и осокорей дышалось легче и думалось тоже легко и о разном.
Он бродил по некоей глухих полян, среди желтых куртин медвяного донника с белым крапом отцветающих ромашек. Потом вышел на берег. Стояла самая середина лета, пора межени на Урале и его притоках. Еще несколько знойных дней – и река, кажется, совсем распадется на отдельные плесы. Георгий облюбовал одно такое местечко за дальним перекатом и подолгу, с ребячьим удивлением приглядывался к тому, как нежится на верховой струе косячок голавлей-подростков. В милые детские годы он, конечно, с утра до вечера просиживал с удочкой, но потом жизнь сложилась так, что было не до рыбалки.
Сегодня он неторопливо обошел всю рощу, пока горожане не явились сюда целыми семьями, и возвращался окольными путями, вдоль Урала, который храбрился на виду у города – бежал быстрее, готовясь с ходу взять самый шумливый перекат у деревянного ж и в о г о мостика для пешеходов. Близ него работал миниатюрный земснаряд, хватко зацепившись за левый берег пульпопроводом. И где только раздобыли городские власти такой крошечный снарядик, чтобы хоть малость углубить реку в черте набережной, а заодно и намыть пляж.
Георгий вспомнил, как еще задолго до войны ходили среди ребят всякие слухи о том, что будто американцы не раз предлагали очистить Урал, сделать его судоходным, и совершенно якобы бесплатно, но с одним условием, что все, что они найдут при этом, должно пойти в их пользу. Легенда о золотом уральском дне жила многие годы, пока геологи действительно не раскопали в районе Ярска настоящие клады. Вскоре поднялись там новые города, а река так и осталась прежней, если не считать Магнитогорского водохранилища да Березовского моря, созданных для комбинатов черной металлургии. Пора бы уж перекрыть Яик в верхнем течении бетонными плотинами, зарегулировать его буйный весенний сток и, наконец, пустить небольшие пароходы от самой Магнитки и до Каспия. Яик давно, конечно, заслужил, чтобы детские сказки превратились в быль.
Он поднялся по каменной лестнице на правый берег – с него открывается вид на дальнюю, в слоистой дымке, степь. В двадцати километрах отсюда и начинался газовый вал: шутка ли, без малого три триллиона кубометров! Какая же вулканическая сила таится в недрах пшеничного края! Молодец все-таки Шумский: как он дерзко и точно провел успешную разведку.
Георгий насмотрелся вдоволь на утреннюю степь, в которой уже начинали возникать на горизонте, в мареве, текучие видения минаретов, замков, крепостей, и пошел к троллейбусной остановке. Проходя мимо памятника Чкалову, невольно замедлил шаг. Мальчик лет пяти спрашивал свою маму:
– А кто это Чекалов?
– Не Чекалов, а Чкалов, – тоном учительницы объясняла молодая мать. – Это был храбрый летчик.
– Летчик-космонавт?
– Нет, просто летчик.
– Как так просто летчик? – удивился мальчуган, запрокинув головенку.
Георгий тихо рассмеялся: этому ровеснику космического века и в самом деле нелегко понять, что были на свете просто летчики, которым ставили памятники.
На главной улице он встретил Павлу. Она шла, о чем-то глубоко задумавшись, никого не видя. Он окликнул ее. Павла нерешительно остановилась.
– Куда ты собралась?
– На пляж.
– Идем-ка лучше ко мне. На Урале сейчас кубинское пекло.
Она искоса взглянула на него. Любое мимолетное напоминание о Кубе – точно ожог ревности: да неужели он до сих пор забыть не может свою Ольгиту?
– Идем, идем, послушайся меня.
И Павла покорно, как в юности, повернула обратно: она уже не могла не повиноваться его воле. Ему же теперь доставляло удовольствие на виду у всех пройтись рядом с такой женщиной: высокая, с горделивым поставом головы, она, кажется, и не чувствовала своих лет, что, по народному счету, будто заключает бабий век.
– Ну что, объяснилась с моим отцом по телефону?
– Да. Начал было выговаривать, но потом, в заключение, добавил миролюбиво: «Ладно, сударыня, не огорчайтесь. С вашего брата, журналиста, все равно все взятки гладки...»
– Ну и печет сегодня! Прямо как в Ля Гаване...
Да что он дразнит ее своей Гаваной? Теперь, после того, что случилось между ними во время поездки в степь, думалось, что он, конечно, далеко не все поведал об отношениях с Ольгитой и определенно что-то утаил, как любой мужчина, и тогда она начинала фантазировать. Может, никакое другое чувство не способно так тщательно рисовать картину за картиной, как ревность. Павла отчетливо представляла себе и роскошный туристский центр Варадеро, и океанский пляж, и антильскую мулатку – красавицу Ольгиту. Но Георгий прервал тайную работу ее воображения, сказав, что они уже добрались до дома.
Павла хотела было отказаться от его гостеприимства. Он понял это раньше, чем она нашла убедительную причину, и взял под руку.
– Идем, идем, угощу свежей рыбкой, мои ребята привезли вчера.
Нет, видно, безвольная ты, Павла. Только что думала бог знает что и вот идешь безропотно за ним.
В комнате гремела музыка: Георгий, уходя в рощу, позабыл выключить приемник. Москва передавала авторский концерт Пахмутовой. Он подошел к приемнику, убавил громкость.
– Такая маленькая женщина, а вытянула на песенных салазках двух мужиков на Олимп.
Павла, занятая своими мыслями, не поняла его шутки. Тогда он объяснил, что пахмутовская музыка сделала популярными коллективные стихи двух поэтов. Она скупо улыбнулась.
– Талантливая женщина все может, – сказал он, приглашая к столу.
– У тебя сегодня хорошее настроение.
– От лесной прогулки. Ну, а что там любопытного в твоем досье?
И Павла, невольно поддавшись его настроению, коротко рассказала о Войновском.
– Слыхал о нем краешком уха, – заметил Георгий. – Неровен час, он тоже вытянет на кандидатских салазках целую кучу проблем!.. Академик Иван Павлович Бардин еще пятнадцать лет назад советовал дать нашему комбинату «зеленую улицу». Но воз и ныне там. Так что, Павлуша, не торопись, подумай. Иные выступления в печати оказывают медвежью услугу энтузиастам.
– Согласитесь, я же не могу спокойно наблюдать...
– Ну-ну, смотри сама. Я хотел лишь предупредить, что голосовы могут помешать Войновскому довести дело до конца.
– Что же ему в наше время подпольно работать, что ли?
– Да чуть ли не каждый новатор до поры до времени подпольщик.
– Этого я не понимаю. Газетчики должны смело расчищать дорогу бойцам технической революции.
– Ах, Павла, не говори красиво! Сейчас не те времена, когда мы щеголяли высокими сравнениями, вроде «Магнитострой литературы», или «фруктовый Донбасс», или «молочные реки Кубани».
– Но и приземленность ни к чему.
– Только не спеши ты, пожалуйста. – Он взял ее за руку, близко заглянул в темные глубокие глаза. – А вообще ты молодец, умеешь отыскивать людей ураганной пробы.
– То остерегаешь, то расхваливаешь.
– Остерегаю потому, что нужна обстоятельность. Нынче и рядовой рабочий мыслит инженерными категориями.
– Однако согласись, газетчик не может быть и геологом, и металлургом, и строителем.
– Верно. Но знать основы дела, о котором пишешь, надо.
– Твой Голосов тоже не металлург.
– О-о, «мой» Голосов все может, он профессор демагогии! Да речь не о Голосове, речь о том, чтобы серьезно помочь Войновскому решить проблему обогащения руды... Ладно, хватит о делах. Поделись-ка лучше, что у тебя на сердце...
Павла начала убирать посуду, недовольная, что Георгий заговорил о личном. Он закурил, молча наблюдая за легкими, изящными движениями рук Павлы, которая быстро, умело привела в порядок стол, накрыв свежей скатертью, сменила воду в стеклянной вазе и снова поставила цветы – полевую кремовую кашку – на середину круглого стола.
– Спасибо за обед.
Он так и знал, что она поспешит уйти, а ему уже не хотелось оставаться одному; тем паче в мажорном настроении.
– Ну посиди еще, выпьем по бокалу сухого.
Он загородил ей дорогу, бесцеремонно обнял за неподатливую талию.
– Георгий Леонтьевич!..
Целуя ее в глаза, он чувствовал, как словно бы пытаются взлететь ее длинные ресницы. Она откинулась назад – верхние кнопки на платье расстегнулись, и он снова, как на Тоболе, подивился этим снежным крутеньким распадком ее груди.
Внутреннее сопротивление Павлы вдруг заставило его одуматься, тем более, что из соседней комнаты с громким лаем влетел белый пудель. (О-о, пудель терпеть не может таких сцен в доме!)
– Какой ты, право, Георгий... – сказала Павла.
– Ну, извини, извини.
– Да сколько можно извиняться?
– Ладно, я провожу тебя.
– Не надо.
– Не надо так не надо...
Он закрыл дверь, сел в низенькое кресло, положил руки на полированные подлокотники, с удовольствием вытянул ноги. «Ну и ну!.. Павла все еще ведет счет прошлых огорчений. А впрочем, женская месть – просверк молнии: жгуче, немилосердно ослепит и тут же погаснет. Нельзя без конца ревновать к прошлому. И неизвестно, что бы получилось из того молодого счастья, которое не сбылось по его вине. Может быть, им с Павлой и нужно было вдосталь хлебнуть всего, прежде чем выйти на общую дорожку. Кто знает, где оно, счастье-то, в самом начале или в середине жизни? Но должен быть какой-никакой баланс печалей и радостей: они, как ненастные и погожие дни в году, в конечном итоге уравновешиваются».
Он встал, позвонил ей, чтобы сказать об этом, не откладывая. Но она была еще, наверное, в пути.
«Однако характерец», – думала Павла, возвращаясь домой. Не легко, ох, не легко будет с ним. Да поздно теперь рассуждать о том, что будет. Она стыдливо припомнила вновь, что произошло весной на Тоболе, и выругала себя за бабью жалость к Георгию и за уступчивость. Юная безрассудность не к лицу женщине в годах. Как могло случиться, что все старые обиды оказались перечеркнутыми в одну минуту? Георгий грубо не дал тебе собраться с мыслями, понять и принять внезапную перемену в жизни. Видно, прошлое в таких случаях на стороне мужчин, если они могут оправдывать прошлым любую свою дерзость. Иначе Георгий не поступил бы так.
А она не может наказать его. Правда, старается избегать лишних встреч, заставляет вовремя остепениться или демонстративно уходит, как сегодня, но все это игра в самолюбие, не больше. И он, конечно, понимает ее отлично. Быть может, тайно посмеивается над ней. Ну зачем она опять зашла к нему, хотя собралась на пляж? Так вот и чередуются уступки и раскаяния. Но кому ты уступаешь? Георгию или самой себе? В том-то и беда, что люди чаще всего уступают своим слабостям.
Да полно, Павла, чего ты хочешь? Нельзя же в сорок лет выглядеть кисейной недотрогой. С поздней судьбой легко и разминуться.
Она вошла в квартиру в тот момент, когда звонили по телефону – долго, терпеливо. Нет, это не Москва, это он. Взяла трубку на исходе последнего звонка и, конечно, опоздала. Ну да позвонит еще, если нужно. А если не позвонит? Что тогда?..
Она присела к столу и машинально набрала семизначный номер его телефона.
– Я слушаю, – немедленно ответил он. – Где ты ходишь, Павлуша? Смотри, не попади под машину!
– Ты злопамятный, Георгий.
– Ладно. Не дуйся. Я вот что хотел сказать. – И он полушутя-полусерьезно начал говорить ей о каком-то балансе радостей и печалей в жизни.
– Хорошо, я прощаю тебя, Георгий.
– За что? Я не прошу никакого прощения.
– Ты привык обижать прямо, грубо, а извиняться иносказательно.
– Побойся бога! Чем я тебя обидел?
– Ах, ты даже не знаешь...
Она опустила трубку и, довольная собой, прошлась по комнате. Все уже было если не решено, то, во всяком случае, предрешено между ними, но пусть он хоть немного помучается оттого, что слишком самоуверен. Нет-нет, это не слепая месть, это восстановление равенства чувств, нарушенного в далекой молодости.
21
Делегация за делегацией... Ничего не поделаешь, надо принимать. Хорошо еще, что не иностранцы, а свои. Иностранцы едут в Ярск, там есть что посмотреть у никельщиков; молодогорский же комбинат, по мнению начальства, не представляет интереса для зарубежных металлургов.
На прошлой неделе Плесум водил по цехам латышских сталеваров. Их все тут удивляло и поражало. Вполне естественно: Лиепая дает металла во много раз меньше Молодогорска, который после войны сгоряча называли второй Магниткой. Ну, пусть Магнитки из него не получилось, однако комбинат есть комбинат, – это не игрушечный Лиепайский заводик, что целых десять лет переплавлял остатки «курляндского котла», – пушки, танки и прочий немецкий металлолом. Ян Янович показывал своим землякам домны, мартены, прокатные станы и, увлекаясь, охотно рисовал им самую радужную перспективу. Земляки гордились, что таким предприятием руководит латыш, сын латышского стрелка. На прощальном обеде они даже спели народную песню «Вей, ветерок»; ну и, конечно, Плесум и лучшие рабочие были приглашены в Лиепаю, на берег Янтарного моря. (Все как полагается при встречах «на высоком уровне».)
А через несколько дней пожаловала делегация уральского тракторного завода. Опять пришлось отложить все дела и ходить по цехам в качестве гида. Но эти гости из соседней области больше всего интересовались не комбинатом, – у них свой куда мощнее, – а тем, как налаживается выплавка природнолегированного чугуна и стали. Тут уж Плесум отвел душу и поговорил начистоту. Инженер Игорь Петрович Ломтев, возглавлявший делегацию, только покачивал головой в знак сочувствия. А когда Плесум доверительно сказал, что выплавка металла из местных руд, возможно, будет и дальше сокращаться, Ломтев прервал его:
– Что же это за техническая политика? Мы там у себя ждем не дождемся вашей стали. Нет, мы этого так не оставим.
– Спасибо за поддержку. Если бы все наши потребители объединились в один прекрасный день, то, пожалуй, и министерство пошло бы на уступки.
– Какие уступки? О чем вы говорите? В конце концов любой металл производится для машиностроителей.
– Всем и все кажется ясно. Но с меня требуют самую рядовую сталь.
Ломтев неожиданно сбавил тон. А вечером, перед отъездом, когда остался наедине с директором, сам научал жаловаться Плесуму:
– У нас тоже есть свои «контрасты». Мы ведем реконструкцию завода, на пятилетку ассигнованы сотни миллионов. Уже возвели несколько цехов. Отличные корпуса, выполненные в железобетоне. Высокие, просторные, светлые. Ну просто сердце радуется. Но плохо с оборудованием: то не хватает станков, то прессов. И волей-неволей приходится волочить в новые цеха кое-что из старого оборудования довоенной поры. Или вот еще. В конце года мы запускаем в производство новую машину. По радио и в печати нашумели, красочные проспекты отпечатали, а недавно выясняется, что модель устарела, пока мы ее готовили. Здесь уже нечего винить министерство: на заводе головное конструкторское бюро по тракторостроению, и мы сами, не кто иной, обязаны задавать тон в технической политике.
– Понимаю, все понимаю, Игорь Петрович. Мне довелось в прошлом году побывать в Японии.
– Ну-ка, ну-ка, расскажите, как они там безо всяких БРИЗов действуют.
– Наши БРИЗы, конечно, не даром едят хлеб. У нас нет недостатка в инженерных идеях, порою очень смелых, оригинальных. Беда в неоперативности, как только дело доходит до реализации какой-нибудь идеи...
И остаток времени они проговорили о том, что бы нужно сделать для ускоренного освоения новой техники.
– Завидую вам, – сказал на прощанье Плесум. – Вы молоды и наверняка доживете до того времени, когда мы оставим позади всех и вся. Ничему я теперь не завидую, кроме молодости.
– Да мы с вами, Иван Иванович, еще встретимся на баррикадах технической революции! – весело ответил Ломтев.
– Скажете тоже – на баррикадах. Во всяком случае, буду подносить «патроны», если спишут в нестроевые...
Поезд ушел на восток, где за Ковыльным увалом, над Ярском, полнеба охватило ровное высокое сияние, на фоне которого четко рисовалась целая роща заводских дымов. Утром Плесум, не заезжая в управление комбината, отправился на строительную площадку, к Дроботу.
– Как поживаешь, генеральный подрядчик?
– Генеральный! Меня давно превратили в захудалого субподрядчика, никто со мной не считается, хожу, уговариваю всех.
– Непохоже на тебя, Петр Ефимович.
– Повеселел. Делегации принимаешь, банкеты устраиваешь! А ко мне посылают одних контролеров. Всяк хочет знать, почему туго растет домна.
– В самом деле, почему?
– Все лыбишься! Мне бы твой латышский характер, твое железобетонное спокойствие!.. – Он медвежковато переминался с ноги на ногу, как боксер перед схваткой.
Но Плесум и не думал принимать бой.
– Александр Николаевич Светлов, мой предшественник, отгрохал вторую домну в считанные месяцы, получил высокую премию. Ты думаешь, Иван Иванович, мы не сумели бы так? Сумели! Дай только деньги и материалы. А мы вынуждены отступать от достигнутого Светловым. Нам растянули график чуть ли не на целый год. Вот и к о в ы л я е м по графику.
– Знаю, Ефимыч, знаю.
– Который месяц тащусь с твоей печуркой и все притормаживаю, как шофер на похоронах. Была бы еще печка мощная, куда ни шло, а то ведь средняя по нынешним временам.
– Ты же помнишь, как я воевал за большегрузную домну.
– Плохо воевал, раз не добился. И теперь вяло воюешь, если план не обеспечен материалами.
– Говорят, что других забот много.
– Слыхал, слыхал, что не хватает утюгов, никелированных кроватей и еще чего-то там. Эх, проутюжить бы наших экономистов!
– Что у тебя такое приключилось? Говори толком.
– Нестандартное оборудование держит Ярский завод.
– Лаби, позвоню в горком, нажмут.
– Вербованных рабочих негде расселять.
– Отдам тебе до осени новое общежитие, которое ты наконец достроил. Мы всегда можем договориться по всем вопросам, – миролюбиво заметил Ян Янович.
– Уволь, уволь от такого мирного сосуществования! Подрядчики с заказчиками будут схватываться даже при коммунизме...
Они вдвоем обошли стройку. Четвертая домна уже поднялась в полный рост. Те, первые три, были одна другой меньше и стояли точно по ранжиру. С виду это было красиво. Но в этом их ранжире как бы отразилась нелегкая судьба всего комбината. Плесум тронул своего спутника за локоть.
– А на пуск-то, конечно, пожалует сам товарищ Голосов.
– И еще речь закатит.
– На пуск домны съезжаются, как на свадьбу, все дальние родственники.
– Он-то считает себя крестным отцом.
– Да, пожалуй.
– Лучше уж быть круглой сиротой, чем иметь такого крестного. Ну, ладно, Иван Иванович, я поехал в трест.
Плесум тоже отправился в заводоуправление. Он был доволен, что комбинат постепенно выходит в люди, начал давать прибыль. В текущем году выплавка стали достигнет без малого четырех миллионов тонн. И доменный цех становится на ноги. Жаль, новая печь маловата... Чугун все равно придется завозить. Хвост выдернешь, нос увязнет... Как его сегодня подковырнул Ефимыч, что плохо воевал за большую домну. Нужно было действовать через голову министра. Так духу не хватило. Сначала обрадовался, что решили строить какую-никакую печь, а потом было уже поздно. Эх, Ян, Ян, сговорчивый ты слишком.
Его с утра ждал инженер Войновский.
– А-а, Николай Михайлович! Проходите.
Войновский доложил, что все готово к опытной плавке природнолегированной стали в конвертере, с продувкой кислородом.
Плесум поколебался две-три минуты, но сказал твердо:
– Лаби, я согласен.
Войновский медлил, не уходил, Ян Янович обратил внимание, как он изменился: похудел, глаза ввалились.
– Вы здоровы, Николай Михайлович?
– Вполне.
– Тогда действуйте.
Войновский аккуратно сложил свои бумаги в кожаную папку, нехотя поднялся и пошел к выходу.
– Вы что-то еще хотели сказать? – спросил его вдогонку Плесум.
– Да. – Он остановился на середине комнаты. – На днях у меня была Метелева, и я под настроение, понимаете, открыл ей нашу козырную карту.
– Это вы напрасно сделали.
– Сам теперь жалею.
– Не надо было этого делать. Ну да шила в мешке не утаишь, тем более конвертера в цеху. Лаби, идите.
«Тоже мне заговорщик технической революции», – с некоторой досадой, но и с уважением подумал Ян Янович.
Строительный трест находился на другом конце города, в длинном приземистом доме, похожем на самый обыкновенный барак довоенного образца. Если Дробота упрекал кто-нибудь, он говорил: «Сапожник без сапог». Ему не раз давали деньги, но Петр Ефимович до сих пор не построил капитального здания для треста. «Все руки не доходят», – оправдывался он. Лично его такая «резиденция» нисколько не смущала: он привык работать в бараках смолоду. Вот было время!..И, подъезжая сейчас к тресту, Петр Ефимович ясно представил себе Франкфурта Сергея Мироновича, который начинал в Ярском промышленном районе строить первые заводы. Совсем немного пробыл здесь уполномоченный Наркомтяжа, но оставил добрую память. Он быстро выдвигал людей: грамотные десятники при нем становились прорабами, дельные прорабы – начальниками участков. Умел видеть в людях дар божий. Иные его выдвиженцы дотянулись теперь до министерств, заворачивают главками, ходят в героях. Сделать много Франкфурт не успел, но люди, обласканные им, горы сдвинули. Разве лишь в одном человеке ошибся он – именно в тебе, Петро Дробот: так и не поехал ты вовремя учиться. Вот и остался техником, да еще вечерней, скороспелой выучки. Нет, не похвалил бы за это Франкфурт. Вон Голосов стал доктором наук, консультантом самого Госплана, хотя вместе начинали. Эка, куда заносит тебя, Петро, на склоне лет! Кому-то надо же было строить, пока другие грызли гранит науки. Твоя диссертация, вот она – комбинат, обросший городом. И если ты долгонько, целую четверть века защищал эту диссертацию, то виноват не ты. А кто же? Нехорошо, друг, оставлять себе одни заслуги. Нечего все валить на дядей, утверждающих титульные списки. Ты сам уже четырнадцатый год «титулованный» управляющий трестом, а не зам какой-нибудь на побегушках. Как напал сегодня на Плесума за домну! Но где ты-то был, генеральный подрядчик? Мол, что дают, то мы и строим. Ты же не купчик, ждущий выгодного подряда. Назвался строителем – лезь в драку...
Шофер лихо притормозил машину у входа в трест. Очнувшись от своих раздумий, Петр Ефимович постоял, оглядывая приземистый барак из конца в конец, неодобрительно качнул головой и направился к дверям. По обе стороны возвышались щиты с фотографиями ударников коммунистического труда. Каждый раз, проходя мимо, он ловил их зоркие, пристальные взгляды. Они будто спрашивали его: «Ну как, д е с я т н и к первой пятилетки, чувствуешь себя на посту начальника строительства?» Он готов был поделиться с ними, но все недосуг да некогда. В былые времена и его портрет красовался у входа в управление полномочного представителя Наркомтяжа, и Франкфурт находил минуту, чтобы спросить его о чем-нибудь, иной раз даже пустяковом. А вот он, Дробот, очень занят, видите ли, неотложными делами. Хорош выдвиженец: за деревьями не видит леса.
Только он расположился за столом, как позвонили из горкома и напомнили, что сегодня бюро и на повестке дня – трудоустройство женщин.
Новый секретарь слишком увлекается модной наукой – социологией. По его расчетам выходит, что население города не растет вовсе не потому, что медленно строится комбинат, а просто-напросто в городе негде работать женщинам. Придумал «женский вопрос», доказывает, что он для Молодогорска не менее важен, чем для города Иваново «мужской вопрос». Предлагает строить швейную фабрику, точно все металлурги должны непременно жениться на портнихах.
Ничего не поделаешь, придется ехать и отчитываться. У него-то, Дробота, как раз немало женщин на стройке. Это пусть ломает голову Иван Иванович Плесум. На комбинате есть кого трудоустраивать: доменщики и сталевары любят, чтобы их жены сидели дома и встречали мужей готовым ужином. Строители попроще, подемократичнее, не избалованы ни высокими заработками, ни домашним уютом.







