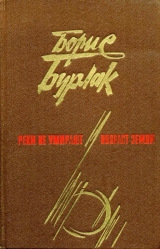
Текст книги "Реки не умирают. Возраст земли"
Автор книги: Борис Бурлак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 39 страниц)
– Заезжай-ай!.. – крикнул старик вдогонку.
Нашелся «друг-приятель». Но Марат все-таки оглянулся напоследок, чтобы запомнить над глинистым яром эту ветхую пятистенку из мира потустороннего.
До Сакмары оставалось каких-нибудь двадцать километров. «Газик» натужно карабкался по горному каменистому проселку. Если бы не Губерлинские горы, то Сакмара соединилась бы с Уралом уже здесь – за Орском. Но диабазовые неспокойные отроги надежно преградили ей путь на юг, и Сакмара, в точности подражая Уралу – вольт направо! – так же круто повернула вслед за ним, огибая шиханы. Разделенные дальше узкой полосой ковыльной всхолмленной степи, обе реки устремились на запад, соперничая в беге на этом вольном казачьем ипподроме. Кажется, Сакмара бежит резвее, понимая, что вырвалась на финишную прямую.
Марат долго стоял на ее левом берегу. Позади грохотали тяжеловесные поезда с нефтью, рудой, лесом-кругляком. А внизу, под железнодорожным откосом, не признавая светофоров на соседних полустанках, не сбавляя хода и у паромных переправ, мчит на красный свет быстроногая река, взявшая разбег в горах.
Как нельзя представить Волгу без Камы, так и Урал без Сакмары. Еще неизвестно, кто из них многоводнее – сам батюшка Яик или его спутница. На Сакмаре удобно построить водохранилище для крупных заводов, но для орошения полей такая река с холмистыми берегами вряд ли подойдет. Можно было бы установить разделение труда между ними: пусть бы Урал в среднем течении поработал в полную силу на пшеничные поля, а Сакмара – на Южно-Уральский промышленный район. В самом деле, сколько бы ни говорили о комплексном использовании водных ресурсов, все-таки одни реки будто специально созданы для энергетиков, другие, же – для земледельцев. Только бы достройка оросительных систем хронически не отставала от сооружения гидроузлов, не растягивалась на десятки лет, как, скажем, на Волге или на Дону.
Наметанным взглядом Марат видел, что сакмарскую плотину нелегко будет возводить. Еще на Куйбышевской ГЭС паводок называли главным инспектором гидротехников. Конечно, Волга есть Волга, однако и буйные разливы уральских рек доставят немало забот весной, когда их сток буквально удесятеряется. Впрочем, и это в конце концов не проблема при современном техническом опыте. Разве еще геологи могут притормозить дело: говорят, где-то здесь прощупываются новые залежи, медного колчедана. Тоже пора бы выяснить до конца. Нефть берут и со дна морей, а медь не станешь добывать со дна водохранилища. Выходит, что на Южном Урале не семь, восемь раз надо отмерить, прежде чем отрезать.
На исходе четвертых суток, побывав во всех местах, которые его живо интересовали, наглядевшись на в общем-то средненькое по масштабам половодье, Марат усталый возвращался домой.
Когда-то Алексей Толстой записал в дневник, путешествуя на лодке по Уралу:
«Оранжевое солнце уходит вдалеке за ивы. Потянули поодиночке утки. Иные садятся... охорашиваются, нежатся на теплых бликах воды... Просвистели низко кулички – стайкой. Пулей, вытянув шею, несется чирок, над ним, не отставая, падая, примеряясь, проворный хищный сокол... Тишина, безлюдье, трещат кузнечики... Глушь, ни огонька, только далеко где-то скрипит воз, степенно стонет верблюд».
Как все переменилось за полвека! Давно уже ветер напевает свои песни не в сухой полыни, а в звонких проводах высоковольтных передач. Нет здесь ни огромного покоя, ни безлюдья, ни тишины, ни верблюжьего стона. Уральские полудикие берега почти сплошь застроены молодыми городами, комбинатами, совхозами. Правда, заметно поубавилось диких уток, гусей, редко увидишь и стайку куличков или пролетающего над головой чирка, тем более кроншнепа; да и рыбка не часто плещется на утренней заре. Можно ли вернуть былую прелесть в этот шумный индустриальный край? Можно. И нужно. Еще наступит «речной ренессанс» и на Урале, стоит только помочь ему. Помогли ведь тихому Дону и западным рекам, тоже не имевшим крупного энергетического заряда. Настало время оценивать реки не только по тому, какие турбины они могут двигать, но и сколько хлеба могут дать в обмен на цемент для гидроузлов.
Этот его затянувшийся монолог иногда казался Марату никому не нужным. С кем он спорит? Не ломится ли в открытые двери? Алексей Алексеевич Ходоковский прав, рассуждая куда проще: начнет одно поколение, закончит другое. И все-таки ему, Марату, надо покрепче утвердиться в собственном решении – посвятить зрелую часть жизни дальней перспективе. Хватит ли у него терпения, чтобы до старости работать в задел будущих лет? Не подведут ли нервы в единоборстве с каким-нибудь властным двойником Верховцева? Да теперь поздно отступать. Жребий брошен. Для Енисея ты не велика потеря, а на Урале можешь пригодиться. Назвался добровольцем, так действуй без оглядки на прожитые годы. Следуй, примеру Ходоковского, который мог блистать в академическом кругу, но предпочел мотаться по степному Зауралью.
8После дальней дороги Марат спал тяжелым сном землекопа. Лишь под утро, ему приснился дикий сон: каким-то чудом он оказался с бабушкой Верой на уральской круче, где против них лежали казаки-пластуны и Михаила Поминов. Старик целился прямо в него, Марата, и он был рад, что в него, хотя зажмурился от мальчишеского страха. Когда же эхо выстрела погасло, никого вокруг уже не было. Только бухали, словно пушки, отвалы глины, падающие в реку, которая несла на мутных волнах пятистенку дутовца... И вслед за этим он увидел вполне реальное детство: как старшие ребята брали его с собой, отправляясь к придорожному кресту за форштадтом. Именно там разыгрывались их шумные баталии. Приходилось конаться на палочке: кому быть красным, кому – белым. Однажды Марат расплакался, когда ему досталось воевать на стороне казаков. Заводилы назвали его люсой, а он все равно отказался наступать на этот крест, где нынче установлен обелиск в память о последнем рубеже оренбургской обороны... Потом кинолента отрывочных сновидений по какой-то странной ассоциации перенесла его на то памятное собрание, где ему объявили строгий выговор «за нездоровую обстановку, созданную в коллективе». Вячеслав Верховцев берет слово в третий раз, чтобы перетянуть на свою сторону колеблющихся. Говорит с неподдельным жаром, логично, доказательно. Иные уже поглядывают на Карташева как на человека беспартийного. Но голоса разделились, и это была пиррова победа Верховцева, не чета первой – в институте, когда Марата исключали из комсомола. На улице Вячеслав, как ни в чем не бывало, взял его под руку и стал успокаивать. Он отстранился, набавил шаг. Отойдя немного, инстинктивно обернулся: позади ковылял старик Поминов с шашкой наголо. Да что за фантасмагория? Откуда взялся опять сумасшедший дутовец?..
Марат очнулся наконец от дьявольского наваждения и, осмотревшись, вздохнул с облегчением.
На тумбочке лежали письма. Он вскрыл наугад первое. От Озолиня. Юлий Андреевич с латышской обстоятельностью писал, что́ ему понравилось, а что́ выглядит мало обоснованным в присланных материалах по Уралу.
«Побольше инженерной методичности, – советовал Озолинь. – Никогда не знаешь, с какой стороны зайдет на тебя твой противник. Лучше быть готовым к круговой обороне, тогда и наступать полегче».
Второе письмо было от Ольги Садовской и Галины Мелешко. Они просили его, сына капитана Карташевой, поделиться воспоминаниями о матери, выслать ее довоенную фотографию и заодно свою. Марата тронула сердечность этих женщин.
А на почте его ждало письмецо до востребования – от Аллы. Переписка обычно располагает к свободному откровению и сближает людей сильнее, чем даже встречи с глазу на глаз... Алла писала, что начинает постепенно приходить в себя и вот уже собирается в Москву, чтобы там решить, куда поехать на работу. В молодости ей довелось побывать на Волге, на Дону, в Сибири. К сожалению, Верховцев зачеркнул немало дорогих сердцу мест. Да, будет у нее своя река, которая, может, станет главной рекой в ее жизни.
Марат был и доволен, что Алла воспрянула духом, и боялся, как бы она снова не отдалилась от него на многие годы.
Он отложил ответы на вечер, когда ему никто, не помешает поговорить с Аллой по душам. Однако в полдень захворала тетя Вася.
Она никогда не болела. Во всяком случае, Марат не помнил, чтобы она обращалась к медикам. Если и нездоровилось, то малую хворь переносила на ногах. А тут слегла в постель. Марат вызвал врача.
– Обыкновенная гипертония, – заключила молоденькая врачиха, измерив давление крови. – Сейчас мы сделаем укол, выпишем лекарство. Надо полежать с недельку.
– Ой, лежать целую неделю! – огорчилась тетя Вася. – У меня дела по дому.
– Дела от вас никуда не уйдут, – ласково говорила эта хрупкая медичка, которую можно было принять за юную студентку.
Когда она уехала, тетя Вася сказала Марату:
– Если что случится, береги девочек...
– Да что вы в самом деле? Нынче редко у кого нет гипертонии. Болезнь века...
– Ты уж поступись, сердечный, ради Тони с Зиной чем угодно. За тебя не беспокоюсь, не пропадешь, хотя на вид и тихий ты, Марат. А девочки не стали еще на ноги. Не тот первый шаг, который делают, цепляясь за юбку матери, а тот, который выводит в люди...
Он видел, что тетя Вася говорит с трудом, но, превозмогая упадок сил, все наставляла его, как надобно жить на белом свете. Дородная величавость ее пропала вовсе. Перед ним лежала слабая старушка с нездоровым, пылающим румянцем на озабоченном лице. Ее васильковые глаза горели сейчас тревожным блеском. Марату стало пронзительно жаль тетю Васю. Он сказал:
– Я вызову «скорую помощь».
– Ни в коем случае. Мне, кажется, полегче малость.
И он покорно повиновался, зная ее характер.
Она достала из-под подушки маленький сверточек.
– Возьми себе.
– Что это?
– Мои сберкнижки. Я откладывала понемножку, а набралось пять тысяч.
Марат едва не застонал от боли, не решаясь взять в руки это ее наследство, собранное за долгие десятилетия...
– Ну кому нужны ваши деньги? Как вы могли?..
– Бери, бери. Не для тебя, для Тони с Зиной. Да еще на похороны... Дай-ка мне карточки Веры и Поленьки.
Он сходил в свою комнату, принес фотографии.
– Вы уж не судите меня, голубушки, если я в чем виновата, – заговорила она поспешно. – Время наше никого не баловало. Нет, я не сетую на время, нет, мы его выбрали сами, по доброй воле. Одно жаль, что вы сложили крылья слишком рано. Судьба...
Тетя Вася хотела что-то еще сказать, да заплакала, беззвучно, сдержанно. Ее детски-крупные слезы медленно скатывались по щекам. Она закрыла глаза, чтобы одолеть прихлынувшее волнение.
Марат отошел к окну: он ни разу не видел тетю Васю плачущей.
Вернулись из школы девочки. Ни о чем не догадываясь, они шумно раздевались в полутемном коридоре.
– Позови-ка их, – сказала тетя Вася.
Но они уже сами влетели к ней со своими школьными новостями, довольные, веселые, и, увидев ее в постели, сразу сникли.
– Что с вами? – испуганно отступила младшая, Зина.
– Подойдите ко мне.
Тоня опустилась на колени у изголовья кровати, а Зина вопросительно посмотрела на отца, стараясь прочесть в его глазах, что же тут могло случиться с тетей Васей. И, почувствовав недоброе, кинулась вслед за Зиной.
– Ненаглядные мои... – тихо заговорила тетя Вася и неловко осеклась, глотая слезы.
Теперь заплакали и девочки, целуя ее большие натруженные руки, покойно лежавшие на ватном одеяле. Марат вышел, чтобы все-таки вызвать «скорую помощь». В передней столкнулся лицом к лицу с Мариной, сказал ей о беде и принялся звонить.
Лишь через час к дому подкатил весь замызганный, старенький «рафик» с поблекшими красными крестами. На этот раз пожилая, усталая, малоразговорчивая докторша внимательно осмотрела больную, ослушала, измерила давление и тоже сделала укол.
– Очередной криз, – коротко объяснила она Марату, проводившему ее до автомобиля. – Если к утру не станет лучше, увезем в стационар.
Вскоре тетя Вася оживилась. Выходит, новый укол подействовал и этот проклятый криз миновал. Она даже съела бутерброд с сыром, выпила стакан чаю.
– Тоня, Зина, ступайте, готовьте уроки, – сказала она девочкам.
Марина начала разогревать ужин. Только Марат не отходил от больной ни на шаг.
– А тебе, сердечный мой, делать, что ли, нечего? – спросила она.
Он смущенно пожал плечами: да разве можно сейчас заниматься каким-то делом?
– Что же не рассказал, как съездил?
И он с готовностью ухватился за это. Во всех подробностях описал случайную встречу с бывшим дутовцем, доживающим свой век на окраине станицы. Тетя Вася слушала с неподдельным интересом.
– Встречала их после гражданской, – усмехнулась она, когда Марат закончил. И, глянув на карточку Веры, приютившуюся на тумбочке, вдруг заговорила жестко: – Но меня не больно разжалобишь. Видела казаков на коне. Рубили всех, кто попадет под руку, точно лозу какую... Ты их не знаешь. Потому и размяк с этим стариком...
– Успокойтесь, пожалуйста, вам нельзя волноваться.
Марат выругал себя, что растревожил тетю Васю. Ей сделалось хуже. Он принес лекарства. Она охотно приняла таблетки. И вскоре забылась в полусне.
Ночью он каждые полчаса заглядывал в ее комнату, радуясь, что она спит. Уже под утро Даниловна сама позвала его.
– Прощай, сердечный мой, – сказала она так убежденно, что он не мог произнести ни слова.
Вбежала Марина.
– Не будите девочек, не надо... – еще успела добавить тетя Вася и потеряла сознание.
Та же усталая докторша, что приезжала вечером, явилась немедленно, как только Марат позвонил на станцию «Скорой помощи». Но было уже поздно. Непоправимо. Непростительно.
Она умерла в тот ранний час, когда макушки черных тополей-осокорей, стоявших в полой воде на левом берегу весеннего Урала, едва тронула слабая позолота наступающего дня. Она умерла от жестокого инсульта. Сердце бы еще поработало, но смерть внезапно и трусливо ударила в затылок.
Марат долго не мог двинуться с места, оглядывая тетю Васю с тайной надеждой на какое-нибудь чудо. Смерть вернула ей в последнюю минуту и русскую величавость, и гордую женскую осанку. Широколицая, чуть курносая, она устало прикрыла свои васильковые глаза и лежала будто живая – будто вздремнула на часок, проводив кого в школу, кого на работу. Ни боли, ни горечи, ни сожаления на лице.
Кто-то подошел к Марату, тронул его за плечо. Да, нужно было выполнять сыновьи обязанности перед этой женщиной, у которой он теперь в долгу поистине уж неоплатном.
Тетю Васю хоронили в погожий апрельский день, когда небо и над городом звенело от прилетевших птиц. Накануне местная газета напечатала короткий, в сорок строчек, некролог, подписанный из-за экономии места одной строкой – «Группа товарищей». Но у Василисы Даниловны обнаружилось в городе столько давних знакомых и друзей, что к выносу гроба из нового большого дома на уральской набережной весь двор заполнили старые ее знакомые. До сих пор Марат и не догадывался, что тетю Васю помнят даже в Москве, откуда пришли телеграммы ее товарищей по оренбургской обороне.
Марат с детства привык видеть в своей тете Васе щедрую душой, отзывчивую женщину, которая воспитала его мать, потом самого его, и как-то мало задумывался о том, что значила она для других людей. Только теперь, когда смерть всколыхнула память ее сверстников, он понял до конца, под крылом какого человека вырос, поднялся на ноги.
Кладбище было за городом, в открытой степи, которую так любила Даниловна. Может быть, и здесь ей приходилось рыть окопы в девятнадцатом. И сюда же привел ее последний путь. Машины остановились у молодой лесной посадки, окаймлявшей кладбище с востока. Мужчины взяли гроб на плечи. Заводской оркестр неожиданно заиграл «Вы жертвою пали». Ничто, наверное, не сжимает сердце с такой силой, даже гениальная шопеновская скорбь, как этот баррикадный марш, в котором не одна глубокая печаль, а и гневная решимость. Всего-то с десяток труб рабочего оркестра звучали над синей степью мощно, слитно, никого не оставляя равнодушным.
Марат стоял над разверстой могилой, переминаясь в зыбкой, рыхлой глине, которая не успела зачерстветь от низового сухого ветра. Он рассеянно слушал горькие, сбивчивые речи незнакомых ему людей и смотрел в сияющее небо, где переливчато звенели жаворонки. Рядом с ним плакала Марина. Девочки жались к матери, пораженные происходящим.
Марат опустился на колено последним, когда все уже простились с тетей Васей. И никак не мог оторваться от нее: он прощался сейчас и с мамой, и с бабушкой, которых заменяла эта женщина. С ее кончиной обрывалась живая связь времен – и те, ранние потери, давно пережитые и отдалившиеся, новой нестерпимой болью отозвались в душе Марата.
Наконец он выпрямился. Взял из чьих-то рук длинное полотенце и вместе с другими мужчинами стал опускать гроб в могилу. Покачиваясь на упругом весу между глянцевитых могильных стенок, Василиса Даниловна навеки уходила в глубь родной степи.
Марат кинул вниз слепым броском полную горсть земли. Тоня с Зиной последовали его примеру. С минуту еще слышались мягкие земляные всплески, а потом и они стихли...
Люди молча побрели к автобусам. Марат остался один у подножия холмика, укрытого венками. Немного не дожила тетя Вася до цветения тюльпанов, за которыми, бывало, сама ходила в свое облюбованное местечко, где сохранились именно красные тюльпаны.
Какая пустота в душе: Марат чувствовал себя кругом одиноким. Тетя Вася умела заслонять собой минувшее, и вот оно внезапно обнажилось глубоким, зияющим провалом – и одиночество твое кажется неодолимым.
Он нечаянно подумал о деньгах тети Васи, сбереженных про черный день. Ему сделалось совсем не по себе. Неужели она могла тревожиться, что ей не к кому будет приклонить голову в старости? Да разве он чем обидел ее хоть раз? Кто теперь скажет тебе всю правду? Только совесть. Да, совесть всегда мучает живых, пусть живые и не виноваты перед мертвыми.
Дома, когда все разошлись с поминального обеда. Марат снова ощутил такой сильный накат тоски, что места не находил в пустой квартире. Он позвал Марину, дочерей.
– Пожалуйста, в ее комнате ничего не трогайте.
Девочки опустили головы. Они повзрослели за эти дни, и он, думая о том, как Тоня с Зиной были трогательно привязаны к тете Васе, полушепотом добавил:
– Никогда не забывайте ее.
– Что ты, папа, милый? – печально отозвалась старшая.
– Нет-нет, – клятвенно отозвалась младшая.
– Сам-то не убивайся очень, – заметила Марина. – На кладбище некоторые посчитали тебя сыном Даниловны.
– Ты даже не знаешь, как она по-матерински заботилась и о тебе.
– Я знаю все, Марат.
– Ладно, идите, я поработаю.
– Какая работа, опомнись, – сказала Марина и вышла за девочками.
Работать он, конечно, не мог. Однако сидеть без дела вовсе тягостно. И он взялся за ответы Богачеву, Озолиню, фронтовым подругам мамы. Стало полегче оттого, что живут на свете такие люди. Алла тоже, наверное, ждет письма. Но отвечать ей сегодня, как-то сразу, было бы жестоко для них обоих: смерть тети Васи решила их судьбу, как видно, безо всяких колебаний.
9А весна продолжала свой торжественный ход по земле.
С высокого многопролетного моста народной памяти виделась вся эта неспокойная, в водоворотах, кипенно-белая треть века после Отечественной войны.
Вот уже прочно встало на ноги целое поколение. Оно составляет самую сердцевину общества. Это естественно: более широкой мирной полосы в наш грозный век еще не было. Но как бы ни ветвились семьи, какими бы свежими побегами ни обрастали они за эти годы, корень каждой семьи уходит в землю, политую кровью. Сыновья, дочери, внуки погибших терпеливо ищут трагическую правду о тех, кому обязаны жизнью. И само время постепенно возвращает людям неизвестные подробности бесчисленных боев, отчего память молодого поколения обретает живую, осязаемую реальность героической семейной хроники.
Недавно Марат опять получил письма от Галины Мелешко и Ольги Садовской. Уж на что он, кажется, все знал о матери, знал, где и как она погибла в тот августовский день, когда немцы, окруженные в Бендерах, вымещали зло на переправе. Но бывшие медсестры поведали, ему еще о многом: с каким нетерпением ждала его мама прорыва немецкой обороны на Днестре, чтобы тут же отправиться за наступающей пехотой; как не спала всю ночь, накануне того прощального дня, когда привезли на КП без сознания полковника Родионова; как сама вызвалась проводить Сергея Митрофановича до армейского госпиталя, хотя могли бы поехать они, Галина или Ольга; и как, поспешно собираясь в дорогу, не забыла взять с собой переписку с сыном, будто чувствовала, что не вернется.
Эти уже пожившие на свете женщины, Садовская и Мелешко, вспоминали былое с таким волнением, будто сами только что узнали о беде, постигшей капитана Карташеву.
Марат долго рассматривал их карточки, стараясь дорисовать и маму, – какой бы она выглядела сейчас. Но воображение его оказывалось бессильным: он по-прежнему видел ее тридцатилетней, почти комсомолкой. Нет, стало быть, время не старит тех, кто уходит в расцвете жизни.
Богачев прислал Марату дневник матери. Дневник был очень скупым: дата, населенный пункт, две-три строчки о событиях на переднем крае дивизии. Кое-где несколько слов о подругах по медсанбату да в конце торопливые записи о майоре Богачеве. Как ни бегло писала она о Валентине Антоновиче, ее отношение к нему менялось день ото дня. Можно было понять, что она трудно убеждалась в его искренности, и, убедившись окончательно, заметила в августе сорок четвертого: «Наверное, он – моя вторая судьба». И больше ни слова, дневник обрывался за два дня до ее гибели.
«Прости меня, старика, – писал Богачев, – до сих пор не мог расстаться с этими бесценными тетрадками. Ты уже не мальчик, так что все поймешь правильно. Отсылая бандероль, заново перечитал дневник Полины Семеновны. Читал и плакал, как на днестровском берегу. То был у меня единственный случай на фронте. А сейчас нет-нет да и всплакну в эти весенние дни и ночи. (Своим домашним говорю, что постарел.) Сколько боевых друзей похоронил я от Кавказа до Австрийских Альп, но Полина Семеновна – вершина всех моих потерь. «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны...» – сказал поэт. Сказал, не оправдываясь, а горько обвиняя себя за всех. Я тоже никогда не прощу себе нелепой смерти твоей мамы... Моя любовь к ней была, казалось, безответной. Лишь смерть ее открыла мне глаза на утраченное будущее. Не в этом ли двойная жестокость войны: убивая одних людей, она убивает и счастье других».
Марат теперь знал, что мама тоже любила Валентина Антоновича всем сердцем. Он долго не мог успокоиться: как действительно жестока военная судьба, которая настигла любящую женщину на полпути к выстраданному счастью.
Он снова прочел неоконченное завещание матери. Что же хотела она еще добавить?.. Но главное она сказала. И это ясновидение ее поражало его со временем все больше. Да, ясновидение павших – вечная загадка для живых, какими бы они сами ни были мудрыми.
Урал входил в свое рабочее русло. В мае схлынуло и весеннее половодье разбуженных воспоминаний. Эта весна выбила Марата из привычной колеи с тех апрельских дней, когда он похоронил тетю Васю. Но пора готовиться к летним изысканиям в Притоболье.
Как раз тут съехались ученые из Москвы, Свердловска, Челябинска на конференцию по экономическим проблемам Южного Урала. Ходоковскому что-то нездоровилось, он сказал Марату:
– Я делегирую вас от нашей кафедры. Сходите, послушайте в качестве вольного наблюдателя. Может, пригодится для ориентировки.
– Вы думаете, что речь пойдет и о воде?
– Во всяком случае, побыть среди умных людей полезно.
– Вы иронизируете или серьезно, Алексей Алексеевич?
– Я не строю никаких иллюзий насчет предстоящей конференции. Не для срочной переброски части стока сибирских рек на Урал пожаловали мои коллеги; У них ближних целей хоть отбавляй. Но, может, какой-нибудь ручеек из многоводных речей пробьется и в нашу сторону. Как вы считаете?
Марат отрицательно качнул головой.
– Не горячитесь там и не выступайте, ни к чему. Пороха у нас маловато, побережем порох.
– Хорошо, ограничусь кулуарными разговорами.
– А в кулуарах обычно и говорится о том, что не сказано с трибуны то ли из-за недостатка времени, то ли из-за нехватки смелости.
– Это последнее вернее всего.
Алексей Алексеевич только погрозил ему шутливо.
...В зале публичной библиотеки собралось с десяток видных академиков, окруженных докторами и кандидатами наук. Марат знал имена всех москвичей, но ни с кем не был знаком лично. (Бо́льшую часть аудитории составляли, конечно, местные товарищи: геологи, экономисты, строители, хозяйственники.) В ожидании начала конференции Марат, в самом деле на правах наблюдателя, приглядывался к приезжим людям. Из всех академических светил его особенно интересовал мужиковатый, русского склада ученый, располагающий немалой властью в Госплане. Вот с ним Марат поговорил бы начистоту, если бы кто познакомил.
И каково же было его удивление, когда он заметил в президиуме Верховцева, который точно с неба упал на уральскую землю. Вячеслав Михайлович сидел позади могутного академика-госплановца. «Как он-то здесь очутился? – недоумевал Марат. – Что, ему-то делать на Урале, «суммарные гидроресурсы которого меньше полпроцента всех ресурсов России»? Ведь такое ничего не значит для гидротехника «крупного калибра».
В обеденный перерыв Верховцев сам отыскал Марата в шумном буфете. Они пожали друг другу руки: Вячеслав Михайлович, кажется, с чувством, Марат – холодно.
– Давай-ка присядем, закусим чем бог послал, – предложил Верховцев.
– Для вас, видите, приготовили черную икру, а гидротехников следует кормить одним хеком.
– Узнаю, узнаю недремлющего стража матери-природы! – посмеивался Верховцев, оглядывая Марата.
И он, в свою очередь, оценивающе посматривал на Верховцева: нет, ничуть не изменился за этот год. Все та же благоприобретенная вальяжность, разве сутулиться начал от груза славы.
– Давай отчитывайся, как ты воюешь на Урале, – сказал Вячеслав Михайлович, разминая сигарету в своих тонких, «музыкальных» пальцах.
– Сначала уж вы поведайте, чем привлекла вас эта немудрящая речонка?
– Ну и злопамятный ты, Марат Борисович! Неужели не знаешь, что твой однокашник теперь москвич?.. А я слежу за тобой пристально.
– Чувствую.
– Брось шутить. Думаю, ты осведомлен о том, что я наконец расстался с Аллой?
– Слыхал.
– Ну и переехал в столицу. Жить с бывшей женой в одном городе все равно, что оставаться с ней под одной крышей.
– По-моему, она никогда не преследовала вас.
– По-твоему... В Москве мне предложили отдел Ангары в Гидропроекте, я отказался. Ангара – пройденный этап. В Госплане встретил академика Николаева, он и сосватал меня в свое ведомство.
– Значит, вы тоже изменили Гидропроекту?
– Развод перепутал все мои карты.
– Не женились еще?
Верховцев снял роговые массивные очки, протер их замшей и, надев снова, в упор уставился на Марата заговорщицким взглядом.
– Избавь, с меня хватит одной образованной жены. А найти неученую в наш просвещенный век не просто!
– Это у вас что-то новое, Вячеслав Михайлович. Вы же всегда гордились Аллой Сергеевной.
– Вот и догордился. Раньше, бывало, расходились с женами из-за того, что они отставали от мужей, а теперь, как видишь, расходятся потому, что жены норовят забежать вперед. Да ты никак защищаешь Реутову? Тебе бы выступать на бракоразводных процессах, буйная ты головушка. Но в данном случае не годишься в адвокаты: заинтересованное лицо. Не знал я, Марат Борисович, не догадывался, что перехожу твою дорогу. Поостерегся бы, честное слово! Думаю, ты доволен теперь: бог наказал меня! Так и надо. Не гонись за чужими звездами...
Марат еле сдержался, чтобы не сказать какую-нибудь дерзость. И Верховцев будто разгадал его состояние и добавил:
– А вот я завидую тебе. Ты удачно выбрал сельскую учительницу, по крайней мере, без всяких претензий.
Марат твердо не принял вызова.
– Довольно о женах, давай-ка лучше поговорим о делах, – миролюбиво сказал Верховцев. – Ты должен быть удовлетворен: возможно, что скоро у вас тут начнем строить крупное водохранилище. Если бы не газ, то Урал со своими притоками мог подождать, но ради такого энергетического потенциала мы пойдем на все.
– Кроме орошения?
– Ну, знаешь, есть места более засушливые, чем Южный Урал. Хлеб ваша область дает порядка...
– Трех с половиной миллионов тонн, – подсказал Марат.
– Значит, можно обойтись пока без серьезных капитальных вложений.
– Пока-пока, я говорю о перспективе.
– Наивный ты человек, Марат Борисович. Поработал бы с академиком Николаевым, тогда бы узнал, сколько у Госплана этих перспектив, которыми нужно заниматься синхронно и для каждой выкраивать деньги уже сейчас... Не покачивай ты буйной головушкой!.. – Он закурил и продолжал своим докторальным тоном: – Если дело вести по-хозяйски, то воды у вас пока хватит. Надо переходить на оборотный цикл водоснабжения заводов. Это раз. Надо усиленно искать грунтовые воды, которых, честное слово, немало. Это два. Надо провести паспортизацию всех наличных ресурсов, вплоть до безымянных речек, как сделали на Украине. Это три...
– Боюсь, что у вас не хватит пальцев, Вячеслав Михайлович, Не можете ли вы познакомить меня с академиком Николаевым?
– Охотно. – Верховцев опять снял очки и, поигрывая ими, подслеповато щурясь, как бы между прочим поинтересовался:
– Где же твой шеф?
– Он хворает.
– Некстати. Можно было бы поспорить с ним.
– Алексеи Алексеевич не любит переливать из пустого в порожнее.
– Скажи на милость!.. Да, совсем забыл, тебе поклон от профессора Озолиня.
– Спасибо. Работает Юлий Андреевич?
– Думаю, оно и плохо, когда «святые старцы» еще пытаются что-то делать, суетятся, путаются под ногами.
Марата все же подмывало схватиться с ним, но пора в конференц-зал – обеденный перерыв кончился.
На вечернем заседании выступил академик Николаев. Он говорил обстоятельно, свободно, без бумажки. Марату сначала понравилась его речь. Но когда он коротко остановился на проблеме водных ресурсов, Марат поймал себя на том, что все это уже слыхал от Верховцева. К тому же академик, знаток производительных сил, ни единым словом не обмолвился о самой земле – главной производительной силе. Такое показалось Марату очень странным, пусть Ходоковский и заметил, что у его коллег «ближних целей хоть отбавляй». Как можно забывать о южноуральском черноземе, который и сейчас кормит столько центральных областей? С этим чувством неудовлетворенности и ушел Марат домой.
Дома, наскоро поужинав, он закрылся в своей комнате, и долго ходил из угла в угол, думая о Верховцеве. Больше всего поражал цинизм в его рассуждениях о жене. Допустим, Вячеслав Михайлович уже не любит Аллу, но ведь любил, любил. Выходит, его самолюбие сильнее любви к женщине? Пусть он ученый мещанин, в этом мог убедиться и сам Марат, однако мещане, в том числе неомещане, выглядят примерными семьянинами. Таким казался и Вячеслав, пока Алла не взбунтовалась против него. Попробуй-ка теперь кто вразумить, его, и он возненавидит кого угодно. Вот какую эволюцию прошел человек с течением времени. Уцелела лишь оболочка активного деятеля. Тут он еще в цене. Недаром академик Николаев возит его по научным конференциям. А-а, черт с ним, с Верховцевым. Вот Алла...







