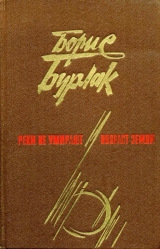
Текст книги "Реки не умирают. Возраст земли"
Автор книги: Борис Бурлак
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 39 страниц)
– Что стоишь? Беги! – крикнул он девушке, которая, как видно, не решалась покинуть его сейчас.
Завязалась схватка. Среди нападавших осталось только двое, – третий больше не вставал, получив увесистый удар в затылок. У Виктора отлегло от сердца: отобьется, хотя силы все-таки неравные.
Ныли плечи, звенело в ушах, во рту пересохло. Изловчившись, он крепко сунул в грудь очередного нападающего и оказался опять лицом к лицу с верзилой.
Сверкнула финка.
Виктор успел увернуться из-под ножа, но как раз в это время вскочил второй парень, сбитый с ног, и загородил ему дорогу.
Виктор упал не сразу, он еще сделал вгорячах два или три неверных шага по запыленной лебеде и рухнул вблизи тропинки. Хотел встать, не смог, потерял сознание.
Когда примчалась милицейская машина, вызванная по телефону-автомату спасенной Виктором девушкой, никого из хулиганов на месте происшествия уже не было. Потерпевшего немедленно отправили на станцию «Скорой помощи». Разослали во все концы, в том числе и на вокзал, дежурных мотоциклистов. Но преступники как в воду канули. Начальник горотдела МВД чувствовал себя скверно. Он нерешительно снял трубку и тоном провинившегося человека сообщил о беде Петру Ефимовичу Дроботу, вместе с которым начинал когда-то строить этот город.
Саша долго, не могла уснуть в такую чудную ночь. Долго говорила с бабушкой, все допытывалась, что за женщина Павла Прокофьевна, если отец вовсе перестал писать оттуда, из области. Любовь Тихоновна рассказывала неторопливо, обстоятельно, не скрывая своей радости, что старший сын опять станет семейным человеком. И ни разу словом не обмолвилась о Сашиной матери, будто ее мамы никогда не существовало. Это обидело Сашу, она упрекнула бабушку. «Если только и думать о мертвых, то нельзя жить на свете», – сказала Любовь Тихоновна и ушла к себе в маленькую комнату рядом с кухней. Тут Саша и всплакнула от обиды. Неужели среди всех близких лишь она одна думает о милой маме? Неужели никому не бывает больно, – ни отцу, ни бабушке, ни дедушке? (Впрочем, отец-то скоро женится.) Вот и выходит, что никто, кроме тебя самой, не вспоминает твою мать, прожившую так мало. Боже, всего тридцать лет!.. Память о ней все тончала и тончала с годами, пока не осталась вовсе тоненькая нить. Оборвись последняя ниточка – и тогда уж поистине: как не жила на свете... Но Саша постарается, чтобы маму не забывали ни ее собственные дети, ни внуки, ни правнуки. Главное – помнить. Бабушка абсолютно не права: если не думать о мертвых, то как же жить? Ну да, чувства слабеют, конечно, со временем, чувства – величина непостоянная, однако разум способен воскрешать из мертвых целые поколения. Жаль, что иные люди совершенно не знают свою родословную, – для них даже отец с матерью «предки». Какой эгоизм!.. И, напрягая зрительную память, она стала бережно восстанавливать те самые дорогие снимки минувшего, на первом плане которых была ее мать, совсем еще молодая женщина. Так, с мыслью о матери она и забылась под утро...
А утром на стройке Клара отозвала ее и сказала как можно спокойнее, что Виктор был вчера ранен хулиганами и теперь в больнице.
Саша охнула, побледнела.
– Ты не бойся, ранение не опасное. Он вечером шел домой и по дороге вступился за какую-то девушку. Ну, ему и попало.
– Ножом?
– Не знаю.
– Ножом, ножом!.. Конечно, ножом... Он разогнал бы какую угодно пьяную ватагу, если бы не нож... Я побегу, Клара, ладно? Все равно не смогу работать.
– Не ходи сейчас, тебя могут не пустить к нему.
– Меня? Не пустят? Но почему? Ты не все говоришь, да? Да-да, я вижу по глазам!..
– Оставь. Пойдем вместе.
– Идем, идем!..
Больница находилась на восточной окраине города, на отшибе. Они проехали несколько остановок на трамвае, дальше надо было идти пешком еще с километр. Саша почти бежала, никого не видя. «Неужели ранен тяжело? – думала она. – А собирался в дальнюю партию, на все лето, до глубокой осени... Я, я, я виновата! Обидела его вчера, вот он и полез в драку очертя голову. Ох, только бы не ножом, только бы выжил...»
– Постой, дай отдышаться, – сказала Клара уже около больницы. – На тебе лица нет.
Мимо пронеслась «Волга» управляющего строительным трестом. Позади шофера сидел Дробот, мрачный, расстроенный. Он и внимания не обратил на них.
– Сам отец приезжал к Виктору, – сказала Саша.
– Ну и что?
– Нет, ты не знаешь Петра Ефимовича. Если уж он бросил все дела и примчался в больницу, значит...
– Хватит тебе.
В маленькой приемной их остановила медсестра.
– А вы куда, девушки? – властно спросила она, загородив им дорогу в больничный коридор.
– У вас лежит Виктор Дробот, мы к нему, – объяснила Саша.
– Нельзя.
– Тетя, милая, пожалуйста, хотя бы на минуточку.
– Нельзя. Кто вы будете?
И Саша уцепилась за соломинку: она сказала, что ее фамилия – Каменицкая, что она внучка геолога Леонтия Ивановича Каменицкого, почетного гражданина города.
– Тут у всех права одинаковые.
– Боже мой, что же делать?.. – простонала Саша и оглянулась.
В дверях стоял тучный мужчина средних лет, в халате нараспашку. Он явно прислушивался к ее разговору с медсестрой. Саша умоляюще посмотрела на него, поняв, что это какой-то медицинский начальник.
– Помогите мне, пожалуйста.
– Вам уже ответили, что сейчас нельзя.
– Я не уйду отсюда, не уйду!..
– Кем вы доводитесь молодому человеку? – не повышая тона, спросил главный хирург.
Саша вскинула голову.
– Я невеста его, – сказала она твердо, клятвенно.
Тогда врач кивнул медсестре, и та подала Саше халат, новый, ослепительно белый, как платье подвенечное.
9
Жизнь Метелева делилась на две равные части: одна принадлежала Уралу, другая была связана с Москвой. Он уехал в Москву с поста секретаря обкома. Работал в Совмине, в наркомате, в Госплане. До войны хотел всецело посвятить себя геологической разведке, но лишь на обратном склоне лет, отдав лучшие годы делам организаторским, что не поддаются никакому счету, он снова вернулся на геологическую службу. Друзья его по институту давно прославились крупными открытиями, иные, вроде Голосова, защитили докторские диссертации; а ему было не до открытий, не до ученых степеней и званий. Кто-то должен заниматься и негромким делом, обеспечивая успех тех же разведчиков. Правда, теперь он руководил одним из главков, но все-таки продолжал по-хорошему завидовать геологам с переднего края – из Тюмени или с Урала, из Норильска или с Дальнего Востока...
Умелый машинист исподволь притормаживал скорый московский поезд, который, разогнавшись, лихо подкатывал к знакомому городу, где жил до войны Прокофий Нилыч Метелев. Он не отходил от окна, стараясь еще издали увидеть дочь, но первым, кого заметил на перроне, был Георгий Каменицкий. Только когда поезд уже остановился, Прокофий Нилыч увидел, наконец, и Павлу.
Он не спеша, с привычным достоинством вышел из вагона, поставил чемодан на асфальт и, щурясь от степного подплавленного солнца, обратился к ним обоим.
– Так здравствуйте, ребята.
Павла порывисто обняла отца. Он потрепал ее за плечи, как маленькую, весело заглянул в ее темные влажные глаза. Георгий стоял рядом. Без того всегда моложавый, Прокофий Нилыч, казалось, помолодел еще больше. Одет, что называется, с иголочки, и ни за что не подумаешь, что ему за шестьдесят. Наполовину седые виски придавали его лицу выражение второй, благородной молодости.
Метелев сам обнял Каменицкого, дружески похлопал ладонью по спине и отпустил.
– Акклиматизировался, чертяка?
– Вполне.
– Не скучаешь по Кубе?
– Скучать некогда, а во сне вижу.
Павла сбоку, искоса посмотрела на Георгия: странно, что он до сих пор ничего не расскажет ей о своей командировке за океан.
– Поедем ко мне, – предложил Георгий. – У меня такие хоромы пустуют.
– К тебе так к тебе, – согласился Прокофий Нилыч. – Я всего на два-три дня.
Метелев узнавал бывший губернский город по каждой мелочи – по узорным литым решеткам на ограде старого парка или по какому-нибудь живучему купеческому особняку на главной улице. Посаженные при нем деревья вымахали к небу, а общий облик города мало изменился. Да и понятно: все крупные заводы – там, на востоке, где Каменицкий-старший открывал в годы первых пятилеток одну рудную залежь за другой, центральные же районы области оказались обойденными геологами. Разве лишь элеваторов здесь прибавилось. Тоже понятно: область держится на хлебе, и мало кто знает, что есть тут, кроме твердой прославленной пшеницы, медь, никель, нефть. Впрочем, об открытии большого газового месторождения теперь заговорили в полный голос. Так что газ наверняка вытянет в гору и областной скромный город, поотставший от своих подчиненных городов, которым на редкость повезло еще в начальную пору индустриализации.
– Живешь ты, Георгий, действительно, очень просторно, – сказал Прокофий Нилыч, осмотрев его квартиру.
– Даже неудобно перед соседями.
– Ничего, столько лет провел в палатках да в полевых вагончиках.
– Никак не могу привыкнуть к оседлому образу жизни.
– Хватит кочевать, надо устраиваться по-домашнему. А где твоя Шурочка?
– В Молодогорске, у дедушки.
– Выйдет замуж – и твои хоромы пригодятся. Нынче молодежь ловко научилась уплотнять своих родителей.
Пока мужчины говорили о том, о сем, Павла накрыла стол, подала обед, заранее приготовленный приходящей домработницей. Георгий отметил для себя, как она запросто вошла в роль хозяйки.
За обедом он спросил ее:
– Ну, что, дочь моя, надолго ты сюда?
– Поработаю, там видно будет.
– А что ей делать в Москве? – сказал Георгий. – Для газетчика наша область – сущий клад.
– Теперь кладов много. Одна Тюмень чего стоит.
– Но Урал остается Уралом. Хотя Голосов придерживается другого мнения.
– Читал я его статью «На Урале и восточнее Урала». Написано запальчиво. Однако есть верные мысли.
– Еще бы не было верных мыслей! Он умеет прикрываться этими верными мыслями, как боевым щитом.
– Не надо бы так, Георгий...
Павла не вступала в разговор. Она знала, что отец однокашник Голосова, что они вместе учились, долго работали вместе и продолжают встречаться в Москве как давние приятели. И она побаивалась возможной остроты в разговоре отца с Георгием.
Но Прокофий Нилыч привык к самым противоречивым суждениям: за долгие годы работы в Москве он неплохо овладел искусством слушать, без которого не примешь единственно верного решения. Тем, кто спорит, куда проще: столкнутся лбами и разойдутся.
Со стороны сейчас казалось, что Метелева начинает даже забавлять горячность хозяина, который шел напролом.
– Не без участия Голосова и разведка на железо чуть ли не вовсе прекращена на Урале, где сосредоточены такие крупные металлургические заводы. Если бы не Соколовско-Сарбайская аномалия, то и Магнитка полностью бы зависела от КМА, не говоря уже о нашем комбинате...
– Давай выпьем, – сказал Метелев.
Георгий поднял рюмку, чокнулся с гостем, выпил одним глотком и, не закусив, тут же продолжал:
– В то время как местная руда валяется у нас под ногами, словно неликвид какой-нибудь, две из трех молодогорских доменных печей работают на привозной руде. Негоже это...
– Да, я с тобой согласен, Георгий.
– Только не разоружайте меня своим полным согласием.
Метелев не сдержал улыбку. Глядя на отца, заулыбалась и Павла.
– Все же сбили, – огорчился Георгий. – Ладно, теперь о самой разведке. Она должна ходить в рабочем комбинезоне, а ее приучили к смене мод. То мини, то миди, то макси. То никель, то медь, то кобальт. А сейчас в моде «газ-вода», то есть самый обыкновенный природный газ и самая обыкновенная водица. Если бы мы всегда вели разведку комплексно, то не шарахались бы из стороны в сторону...
– А тебе действительно не дают денег на те же магнетиты.
– Будто вы и не знаете, Прокофий Нилыч! Я здесь недавно, но мне говорили, как это делается. Чуть ли не в самом конце года уважаемое министерство вдруг предлагает энную сумму на производство съемок, конечно, за счет тех, кто не выполняет план. Только люди приналягут – год кончился: новый план, новое финансирование. Утверждают, что разведка на железо бесперспективна на Южном Урале. Каковы догматики, а?
– Ты преувеличиваешь, Георгий.
– Нисколько. Я еще оптимист. Я, например, убежден, что наступят времена, когда для геологов не будет существовать никаких административных границ. Что сейчас получается? Нащупали мы, скажем, новое рудопроявление, начали постепенно двигаться на юг, – чем дальше, тем заманчивее. Увлеклись и переступили границу области. Тогда нас бесцеремонно останавливают: стоп, вы куда, здесь другая республика, другое геологическое управление. Каково? А может быть, там, за границей-то, и зарыта собака.
– Все-то преувеличиваешь ты, – сказал Метелев.
Каменицкий глянул на него и улыбнулся в ответ:
– Здорово ты меня атаковал, Георгий, не даешь и слова вымолвить в защиту.
Павла тихо рассмеялась, пошла на кухню.
– Не часто ведь жалуют в наши края начальники главков.
– Верно. Геологическая епархия велика, за год не объедешь. Ну, а как у тебя с кадрами?
– По-разному. То рабочих не хватает, то инженеров. О техниках я уж не говорю, их теперь почему-то вовсе не готовят.
– Верно, техники исчезают, как последние могикане. Но все-таки как с инженерами?
– Прислали в прошлом году выпускников с Кавказа. То климат им не подходит, то быт их не устраивает. Под любыми предлогами стараются улизнуть восвояси, на юг обетованный.
– Климат, быт... Да кто из нас до войны считался с этим?
– В некоторых экспедициях строим поселки, хотя люди, привыкшие получать полевые деньги, неохотно переселяются в благоустроенные дома. Тоже психологический барьер. Но бытом надо заниматься серьезно, он в нашей власти.
Павла вернулась из кухни и стала угощать черным кофе.
– Есть славные работяги, да пьют безбожно, – говорил Каменицкий, с благодарностью поглядывая на Павлу. – Весной меня познакомили в Восточной экспедиции с одним буровым мастером. Человеку цены нет, а отпускать его никуда нельзя.
– Что, подолгу не возвращается?
– В том-то и беда, что ни одного отпуска не использовал до конца. Как доберется до железнодорожной станции, зайдет в буфет, окружит себя дружками и гуляет неделю напролет, пока есть деньги в кармане. Выбросит полтысячи, а то и всю тысчонку целковых, – и снова на буровую.
– Жаль.
– Мастер на все руки, но жить не умеет.
– Редко кто из мастеров умеет жить, – вполголоса заметил Прокофий Нилыч.
– Вот бы написать о нем, – заметила Павла.
– Что, хочешь перековать? – весело спросил отец.
Они просидели дотемна. Пошли провожать Павлу в гостиницу. Павла была довольна, что мужчины наговорились досыта и что отец вел себя сдержанно с Георгием Леонтьевичем. Ей хотелось, чтобы он понравился отцу, будто они только что познакомились. Она поймала себя на этом и подумала: наверное, и приехал-то отец, чтобы убедиться, что именно потянуло ее на Урал. Но он человек деликатный, никогда не спросит прямо. А что она может сказать ему? Все во власти времени.
Павла не ошиблась: Прокофия Нилыча тревожила неустроенность дочери. Сам он, овдовев осенью сорок первого года, после войны женился на стенографистке Ольге Николаевне Данилюк, тоже потерявшей мужа на фронте. Когда Павла вернулась в Москву с Урала, ей шел девятнадцатый год, и ее отношения с мачехой сложились как-то сразу. Нет, они, конечно, не воспылали любовью друг к другу, но, во всяком случае, поняли друг друга, – уже это было хорошо. Вскоре Павла вышла замуж, да неудачно. С тех пор она стала замкнутой. Отец жил своей жизнью, она своей. Ольга Николаевна не сталкивала их и не сближала. Так прошли годы. И вот дочь ни с того ни с сего покинула отцовский кров...
Хозяин дома крепко спал, а Прокофий Нилыч лежал с открытыми глазами, невольно прислушиваясь к ночным гудкам тепловозов, к тому, как дежурный диспетчер громко командовал по радио составителями поездов на сортировочной горке. Он думал о Павле, о Георгии: вот опять они оказались на одной дорожке, и теперь все зависит от их житейской мудрости. А у Георгия характерец! Одиночество сделало его еще более резким. Семейная жизнь постепенно сглаживает отрицательные черты характера, долгое одиночество обостряет их – это уж так. Раньше ему казалось, что Георгий упрям в отца, но теперь Леонтий Иванович, наверное, выглядит совсем сговорчивым против сына. Надо бы съездить к старику, однако придется отложить до следующего раза. И, вспомнив о Каменицком-старшем, Прокофий Нилыч оставил в покое его наследника и вернулся в то далекое прошлое, когда секретарствовал в этой области.
Его выдвинули на партийную работу совершенно неожиданно. В обкоме пришлось заниматься буквально всем: и архитрудными хлебозаготовками, и новыми стройками. Не было и нет таких вузов, которые готовили бы секретарей обкомов. Инженер защищает свой диплом только однажды, партийный работник должен непрерывно держать государственные экзамены перед самой жизнью. Никаких переэкзаменовок не допускается: не сдал – до свидания, дорогой товарищ. И он, Метелев, тянулся изо всех сил, ночей не спал, штурмуя алгебру сельского хозяйства, о котором имел довольно смутное представление. (Это сейчас все ходят в знатоках деревни.) Но с каким удовольствием и с какой внутренней свободой говорил он с Москвой, когда речь заходила о геологических делах или о капитальном строительстве. Чаще других членов Политбюро звонил Григорий Константинович Орджоникидзе, который все спрашивал о никеле: в стране фактически не было никелевой промышленности. Он коротко докладывал народному комиссару, как идут дела у Каменицкого. «Пожалуйста, передайте ему, что никелем интересуется лично Сталин», – сказал как-то нарком во время очередного разговора. И он тут же позвонил в Ярск. Не разве Леонтия Ивановича застанешь дома. Только через месяц удалось связаться с ним по телефону и как раз кстати: к этому времени была окончательно открыта новая, самая крупная рудная залежь. Бросив все дела, он, Метелев, выехал в Ярск. Леонтий Иванович целых два дня возил по степи, показывал, где и сколько припрятала дорогого металла матушка-природа. На радостях пообещал геологам и почетные звания и высокие награды. Но потом все сложилось так, что Каменицкий получил Государственную премию лишь после окончания войны, когда Ярский комбинат уже работал. «Поздняя слава благоразумнее ранней славы», – сказал Леонтий Иванович в ответ на горячие и смущенные поздравления бывшего секретаря обкома, который пытался сгладить свою вину, хотя ни в чем не был виноват. А еще через двенадцать лет старика отметили Ленинской премией за березовский медный колчедан. Все это очень походило на то, как в. наше время боевые награды вручаются иным фронтовикам...
Прокофий Нилыч забылся лишь под утро. Ему виделись разные детские картинки, которые память обычно сберегает до конца. Вот заготовка хвороста поздней осенью. Брат рубит в пойменной уреме, а он оттаскивает готовое к саням. Тонко пахнет свежесрубленным тальником, кружится голова от пряных опавших листьев... А вот они ловят налимов в начале зимы. Хрупкий, точно слюда, первый ледок на скорую руку припаян к берегу. Один удар шестом – и полынья готова. Возвращаются домой с тяжелыми, длинными куканами. И сколько дома удовольствия, когда налимы просыпаются в теплой воде в тазу... Потом видится ему катание на масленицу. Он летит под уклон на деревянном ледяном коньке мимо шумной карусели, где толпятся ребятишки, ожидая своей очереди, – когда кто-то слетит с салазок, повинуясь центробежной силе... И внезапно, как обычно во сне, наступает дружная весна. Они с братом снова на реке. Страшная круговерть воды, голые кусты в мелких почечных насечках, неистовый крик грачей, белый блеск пойманного подуста в мокрой сетке... А вот уже и лето. Цветущие подсолнухи на гумнах, где он ищет грибы после вчерашнего дождика. (Встал рано, чтобы опередить ребят.) Набрал целое лукошко розовых шампиньонов, устал, забрел в чащу дикой конопли, прилег на теплую землю и уснул. Бабушка отыскала его лишь к обеду. «Что, опьянел, соколик?» – мягко выговаривала она, хотя собиралась наказать примерно. Да разве от конопли не опьянеешь? Нет, наверное, ничего памятнее терпкого ее аромата, если ты вырос в деревне, среди таинственных зарослей конопляников – этих русских джунглей...
– Крепко спите, Прокофий Нилыч, – сказал утром Георгий.
– С дороги, – ответил он, не желая признаваться, что долго не мог сомкнуть глаз от нахлынувших воспоминаний.
Позавтракали и собрались в обком. По дороге Георгий стал рассказывать, как начальник геологического управления Шумский воевал за то, чтобы строить газохимический комплекс подальше от областного города, в котором скоро будет не меньше полмиллиона жителей. Но с ним не согласились.
– Не хватает у нас терпения десять раз отмерить. В иных министерствах слишком соблюдают ведомственные интересы. Теперь входит в силу газ, но с ним надо обращаться осторожно не только на кухне.
– Так Шумский и остался в одиночестве? – спросил Прокофий Нилыч.
– Записали в протоколе особое мнение, на том дело и кончилось. Выходит, что один инженер снял свою ответственность перед людьми, которые будут жить в двадцать первом веке.
– Неужели не учли розу ветров?
– Роза ветров! Чем она определяется в некоторых инстанциях? Умением держать нос по ветру... Да-да, Прокофий Нилыч! Все оппоненты Шумского дружно выступили против него. Они, видите ли, хотят сэкономить несколько десятков миллионов, а во что потом обойдется экономия – их мало беспокоит.
Сдержанный, деликатный Метелев был согласен и не согласен с Каменицким. Он тоже, конечно, за дальний прицел в сложных экономических вопросах, однако нельзя оставлять без внимания и ближние цели, для них приходится выкраивать каждый миллион рублей. Он считал, что именно этого не учитывает Георгий, рассуждая об инженерной ответственности перед людьми двадцать первого столетия.
– Голосовых на наш век хватит, – добавил Георгий.
Прокофий Нилыч промолчал. Ему не хотелось спорить, тем более сейчас, когда они подходили к темно-серому, тяжеловатому, зданию. Он окинул скользящим взглядом весь фасад, от крыла до крыла, и все этажи, от парадного массивного подъезда до самой верхотуры, где обосновались голуби. Дома тоже стареют, как и люди. Три десятилетия назад этот дом казался ему легким, почти воздушным, а теперь вон как погрузнел да и посуровел на вид.
Он, бывало, взбегал по лестнице к себе наверх, не дожидаясь лифта. Молодость, избыток сил, игра мускулов! Он мог сутками не спать, когда начинались хлебозаготовки. И сколько тут было памятных встреч и расставаний с теми, кого давно уже нет среди живых. Сюда входили рядовыми коммунистами, а выходили начальниками строек, директорами совхозов, начальниками политотделов, секретарями райкомов. Тут произносились пылкие речи о хлебе, о железе, о будущих городах. Шло сотворение нового мира, и надо было выиграть время любой ценой, любыми лишениями, чтобы гроза, надвигающаяся с запада, не застала врасплох. Люди отказывали себе во всем, каждая сотня продовольственных пайков распределялась на бюро обкома. А потом, когда полегче стало с хлебом насущным, обнаружилась нехватка рабочей силы. Коммунисты шли добровольцами на стройки. Жили в бараках, спали на нарах и видели во сне широченные пролеты заводских корпусов. Деревня тоже пришла в движение после бурного образования колхозной тверди. На полях появились свои тракторы взамен чужестранных, за которые платили золотом, добытым на старых приисках и вырученным магазинами торгсина. Нет, никто, кроме нас, не знает и никогда до конца не узнает, каких усилий стоил нам наш новый мир, построенный в глухом окружении недругов.
Прокофий Нилыч сказал Георгию, махнув рукой на лифт:
– Ты как хочешь, а я предпочитаю лестницу.
Он поднимался мерным шагом пожившего на свете человека. Ему попадались встречь все незнакомые мужчины и женщины. Они учтиво уступали дорогу. Но вряд ли кто из них догадывался, что это идет бывший, «довоенный» секретарь областкома партии. (Да и само слово «областком» со временем зазвучало еще короче, выразительнее – обком.)
Он поднялся на пятый этаж, который, бывало, в шутку называли «пятилеткой в четыре года», и нерешительно, как новичок, открыл дверь в кабинет первого секретаря обкома, члена ЦК партии. Постоял, пока грузный, могутный человек, сидевший за столом, не поднял голову.
– А-а, Прокофий Нилыч! Жду вас!.. – сказал тот, его преемник, хотя между ними отстояли свою вахту еще пять первых секретарей.
Они крепко пожали друг другу руки на самой середине комнаты.
Прокофий Нилыч зорко осмотрелся. Эти стены помнят многих. Здесь побывали в разное время Серго Орджоникидзе и Ян Рудзутак, Андрей Андреев и Клим Ворошилов, Валериан Куйбышев и Семен Тимошенко, Иван Бардин и Сергей Франкфурт... Партийные деятели, хозяйственники, военные, ученые. Одних принимал он сам, Метелев, других принимали уже другие. Но с той поры, кажется, ничего не уцелело здесь, даже первых образцов южноуральских минералов, которые приносил сюда Леонтий Иванович Каменицкий.
Да, все начиналось именно с образцов руды, – от них берут начало и Медноград, и Березовск, и Молодогорск, и рабочие поселки Восточный, Степной, Солнечный. Веками пустовавший весь южный окоем Урала довольно плотно заселен теперь. И не то еще будет, когда придет в движение триллионный газовый вал.
– Вспоминается что-нибудь, Прокофий Нилыч? – спросил секретарь обкома, проследив за тем, как гость оглядывал рабочий кабинет.
– Вспоминается...
Они были людьми одного поколения, но у Метелева партийная работа была связана с молодостью, а у нынешнего секретаря она совпала со второй половиной жизни, вдобавок к тому он был человеком нездешним.
– Давно хотел встретиться с вами в Москве, но все никак не удавалось, – говорил секретарь. – Думаю, что теперь-то вы расскажете, как разворачивались в тридцатые годы.
Метелев утвердительно наклонил голову. В отличие от инженера или хозяйственника партийный работник должен не только знать, а и по-сыновьи любить тот край, куда его послали. Иначе нельзя работать. Где бы ты ни родился, в каких бы местах ни жил, но если уж оказался, к примеру, на Урале, то сумей почувствовать себя коренным уральцем. Иначе у тебя ничего не выйдет. Такова природа партийной работы: в душевной привязанности к земле и к людям, которых ты отныне представляешь.
Потому-то они оживленно заговорили, к удивлению Георгия, не о заботах текущего момента, а о далеком прошлом. С виду это могло показаться неким праздным занятием на досуге. Однако то был необходимый подступ к делам неотложным, ради которых они и встретились сегодня.







