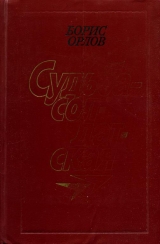
Текст книги "Судьба — солдатская"
Автор книги: Борис Орлов (2)
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 41 страниц)
Глава одиннадцатая
1
Когда решили выходить из лагеря Уполномоченного, небо заволокло тучами. Пошел крупчатый холодный снег. Сильный ветер мел его, бросал, поднимал и нес. Началась какая-то круговерть. Стонали ели, свистел в ветвях берез и осиннике ветер.
И Батя заколебался. Выделенный Уполномоченным в проводники боец тоже не советовал. Сам же Уполномоченный молчал: о чем тут говорить, когда на дворе такая чертовщина?
А запасы продуктов быстро таяли. И в том и в другом отряде урезали норму. Тоскливо тянулись дни. По радио передавали обычные сообщения, к которым уже привыкли.
Петр все эти дни находился в каком-то полузабытьи. Ни о чем не думал. Просто лежал на нарах и, уставившись в черные жерди потолка, смотрел, смотрел. Изредка приходила Настя, садилась на краешек нар и сидела, понимая, что утешить его нечем. Как-то она заскочила к нему возбужденная. Насильно стащив его с нар, надела на него фуфайку. Говорила:
– Пошли, фрицев громят! – от бойцов из отряда Уполномоченного все узнали, что немцев на фронте называют презрительно «фрицы», и слово это, как только речь заходила о гитлеровцах, не сходило теперь с ее уст. – Пошли, тебе говорят! Сейчас второй раз передавать будут. Приемник из землянки вынесли – не вмещаются все.
Так же, а может и сильнее, выл, подсвистывая, ветер, неслось, ослепляя, поднятое снежное крошево. Но перед землянкой, будто назло зиме, бойцы отрядов терпеливо ждали, жавшись друг к другу, последних известий.
Расталкивая людей, Настя подвела Петра поближе к приемнику. Минуты через три раздались позывные Москвы, и сразу многих партизан охватило трепетное чувство. Через паузу послышался торжественный, с металлическим отливом голос диктора. Он передавал сводку Совинформбюро о том, что под Москвой наши войска перешли в решительное контрнаступление и гонят немецко-фашистских захватчиков от столицы на запад. Дальше он перечислял освобожденные от врага города и села, перечислял потери гитлеровцев в живой силе и технике, захваченные трофеи… Слова диктора было слышно всем, потому что приемник работал на всю мощность и у ветра не хватало силы заглушить его.
Сообщение из Москвы вызвало ликование. Оно взбудоражило, опьянило ощущением замаячившей впереди неминуемой скорой победы над гитлеровской Германией. У Петра же оно вызвало испуг. Ему стало казаться, что победа эта уже подходит и что час крушения немецко-фашистских захватчиков совсем близок; а ему не хотелось сейчас такой победы. Он хотел драться, мстить. «Бить, бить, бить!» – упорно выстукивало у него в мозгу. И Чеботареву виделись то Соня, которую всё мучают, то мечущийся в жару Момойкин. Или появлялся перед глазами умирающий Федор-друг. Петр, устав от видения, жмурился, но видение не исчезало. Федор-друг начинал видеться в могиле… и Петра грызла совесть. Вспоминалась их полковая дружба… О Вале Чеботарев просто не мог думать. Как только память возвращалась к ней, глаза наполнялись слезами, и текли, текли они, скупые солдатские слезы.
Своя судьба совсем перестала волновать Петра. Раньше, до известия о гибели Вали, он думал о себе, мечтал уцелеть в этой военной сумятице. И в ту пору Валя – живая, та, какою он запомнил ее, провожая из отряда Пнева в Лугу, – неотступно следовала, казалось ему, с ним рядом и руководила его поступками. И не то чтобы Петр часто вспоминал о ней. Нет, он вспоминал тогда о ней редко… А сейчас? Раз представив ее гибель, он все время видел теперь Валю погибающей. И в поступке ее ему непонятно было лишь одно: как же она, ожидая ребенка, о котором они столько передумали (имя все давали), решилась?..
Молчком перемалывая горе, Чеботарев чаще и чаще стал спрашивать себя: куда ему идти, зачем идти, когда нужно – драться?! Нужно – бить и бить гитлеровцев! До последнего – бить, бить!.. Росло желание остаться здесь, в отряде Уполномоченного. Но тут всплывал в памяти случай, когда Семен с группой товарищей заявил Уполномоченному об этом же. Реакция Уполномоченного была суровая. «Я понимаю вас, – сказал он сухо и спросил: – Вы с комиссаром своим и командиром советовались?» Уполномоченный отчитал их за разболтанность, увидел в их поступке несоблюдение субординации. Проводив Семена с бойцами за дверь землянки, он вызвал Чеботарева и Батю. Укорял в слабости политико-воспитательной работы. Объяснял, что поручает Бате вывести через фронт своих семерых раненых, требующих лечения, но способных идти бойцов, да четырнадцать обессиленных. После этого укорил: «Здесь остаться не ахти что… Там армии люди нужнее. Здесь я и без ваших людей найду пополнение, если понадобится. Вон сколько по деревням, хоть сейчас, готовы взяться за винтовку! И… берутся».
Лагерь покидали сразу оба отряда: Уполномоченный уходил на запад, а Батя – на восток, к своим.
Прощание было трогательным. Обнимались. Жали друг другу руки. Троекратно, по-русски целовались. Чеботарев искал глазами Вавилкина – не целовать, конечно. Посмотреть ему в лицо. Сурово посмотреть… Но Вавилкина не было. «С разведчиками, поди, путь отряду прокладывает», – тоскливо предположил он, и в его мозгу, как там, на нарах, вдруг опять возникло слово «бить». Как набатный звон, отдавалось оно в ушах. И когда уже разошлись, «бить» долго еще продолжало напоминать – то глухо и отрывисто, то с томительным раскатным звоном – о Вале и о многом, с чем столкнулся Петр в эти первые месяцы войны и что настойчиво призывало к отмщению…
Железную дорогу Мга – Кириши переходили ночью, с боем. Разметав гитлеровский наряд, охранявший полотно, ринулись, сколько было сил, на восток. За ночь, делая короткие привалы, добрались до безопасных мест – так утверждал проводник. На отдых остановились в редком и чахлом смешанном лесу – отряд в нем виден, как говорится, за версту. Проводник успокаивает Батю, но Бате не нравится уже и его упорство, и он вздыхает. Вздох этот в густой морозной тишине катится, как снежный оползень. Петра раздражает и оптимизм проводника, и неверие Бати. И он отходит от них к Насте.
Настя сидит на корточках и меняет бойцу из отряда Уполномоченного сползшую с локтя повязку. Вместо марлевой салфетки – квадратик старой, вылинялой прокипяченной цветной тряпицы. Вата – одежная, серая, не впитывающая кровь. Настя растеребливает ее красными от мороза пальцами… Петру видно, как ловко и проворно ходят ее руки, бинтуя рану. Боец сидит прямо на снегу, подогнув под себя полу короткого полушубка.
Когда Настя кончает перевязку, Чеботарев садится перед ними на корточки. Девушка смотрит ему в глаза ласково, чутко.
– Ну, вот и перевязала, – говорит ей Петр, и Настя впервые после прочтения дневника слышит в голосе Чеботарева доброту, нежность.
Придерживаясь за его плечо рукой, Настя начинает снимать свой валенок.
– Больно пятку что-то, – говорит она тихо.
Петр помогает ей снять валенок. Она разворачивает портянку, снимает толстый шерстяной носок. Водит ладонью по пятке. Из-за ее руки Петру ничего не видно, но он догадывается по движениям ее руки, что на ноге мозоль. «Глупенькая», – жалеет Петр Настю и вдруг осознает, что здесь, в отряде, он не один-одинешенек, а что рядом с ним идут добрые, не чужие ему люди. И от этих мыслей Чеботареву сразу становится легче. И ему уж хочется утешить Настю, приободрить, и он с сердечностью в голосе тихо произносит:
– Как почувствовала, что натирает, надо было разуться.
Боец, вспомнив, видно, как переходили железную дорогу, с ироническими нотками, но в тон Петру, добавляет:
– Верно, в будку бы к фашистам заскочила. Они бы и мази какой ни есть приложили… А еще бы… крикнула командиру остановить продвижение ввиду боли в ноге…
Боец, не досказав мысль, смолкает, потому что Настя глядит на него обиженно, а Петр осуждающе. Поднявшись, раненый уходит к своим, уполномоченцам, как называют их в отряде.
Навертывая портянку на носок, Настя что-то бормочет себе под нос – ворчит, решает Петр.
– Уж дойти бы скорей, что ли! – посмотрев в лицо Петру – заросшее, худое, черное, говорит вдруг Настя с оттенком отчаяния в голосе.
– Скоро придем, успокаивает ее Петр. – По прямой до фронта теперь километров тридцать – тридцать пять. – А сам не верит, что поход этот когда-нибудь кончится.
Они замолкают. Слушают, как поблизости, за елкой, говорит, проклиная эти места, переодевающийся Семен – он провалился по грудь в болоте и, сбросив мокрую одежду, надевал то, что нашлось у бойцов в отряде. Рядом с Семеном посмеивается проводник. Через минуту, две он говорит Семену, гордясь чем-то:
– Это вам не лужские болота! Это – Соколий мох! Тут не то что люди – звери ходят тут, только когда нужда их приспичит…
Привал кончился.
Первым идет теперь Чеботарев. Ноги вязнут в глубоком снегу – верхний, утрамбованный ветрами и морозами слой его рвется под тяжестью шага, как тонкий осенний ледок… Усталость чувствуется во всем теле, особенно когда надо поднимать ногу, чтобы ступить ею снова. «По проселкам бы пойти, – неторопливо, в такт шага думает Чеботарев, – и ночью. Ночи теперь длинные. А на день забираться куда-нибудь. А то и не дойдем на самом деле – люди выдохнутся, и конец…»
Так шли все утро.
Повалил снег. Дул, ударяя в лицо, холодный ветер.
На коротком привале Батя подошел к Чеботареву и, проговорив: «Опять заметет», тревожно посмотрел ему в глаза и потянул его в сторону.
– Фронт ровно слышно… Пушки будто стреляют, – отведя Чеботарева подальше от бойцов, шептал он, подставив к уху ладонь.
Петр долго прислушивался, но ничего, кроме свиста ветра да того, как стучит собственное сердце, не слышал. Шли день…
К вечеру – темнело теперь рано – отряд добрался наконец до заросшей кустарником и смешанным лесом речушки – к землянкам, о которых Уполномоченный говорил: «Перед последним броском к фронту в них и передохните получше». Но землянки оказались взорванными – гитлеровских рук, видно, дело. Началось восстановление их. Кто поднимал просевшие крыши, кто резал кирпичи из твердого снега, кто ставил двери…
В этих землянках Батя с Чеботаревым решили пережидать непогоду.
Утром, проверив с Семеном посты, Чеботарев вернулся в землянку.
Батя и проводник сидели за сбитым из горбылей столом и просматривали по карте оставшийся отрезок маршрута. Чеботарев заглянул через Батино плечо в карту и увидел на пути к фронту, недалеко отсюда, обозначенный проселок, идущий с севера на юг, а возле него маленькую деревеньку. «Надо сходить, – подумал он. – Вдруг раздобудем продуктов?!»
Ничего не сказав Бате, Петр взял двух бойцов с автоматами и направился туда.
Ветер свистел еще злее, чем когда Петр проверял посты. Вьюга лютовала. В лицо бросало ошметки спрессованного, жесткого снега. Морозным воздухом схватывало дыхание.
Когда выбрались наконец на проселок, донеслось до слуха урчание моторов. Петр с бойцами отошел от дороги метров на двадцать и залег за мохнатыми, полузаваленными снегом елями.
С севера приближались, чуть видимые в метели, две машины-вездехода.
Чеботарев посмотрел в сторону деревеньки – из-за вьюги ее видно не было – и крикнул, чтобы услышали бойцы:
– Рискнем! Как начну, открывайте огонь по второй машине!
Когда первый вездеход, покачиваясь под тяжестью ящиков в кузове, миновал Чеботарева, а второй оказался напротив, Чеботарев открыл по уходящему уже огонь.
Расправа была молниеносной. Машины подожгли. Петр прихватил полушубок убитого немца – зипун не грел. Собрали ранцы гитлеровцев. Не рискнув идти к деревне, направились к лагерю. В лесу, найдя затишье, остановились отдохнуть. Из ранцев все вытряхнули на снег. В них оказалось всего понемногу: и хлеб, и сыр с маслом в плоских коробочках, и фляжки с водкой, завернутый в бумагу пиленый сахар, начатые плитки шоколада, сигареты, мыло, зубные щетки и даже… туалетная бумага. Продукты сложили в два ранца и снова пошли дальше. В лагерь возвратились вконец измотанные.
Настя на столе начала делить содержимое ранцев на ровные девяносто с лишним кучек. Батя ей сказал:
– Бойцам послабей побольше давай, – и подошел к Петру, чтобы отругать его за самовольный уход, но не успел – Чеботарев, приблизив лицо к его уху, прошептал:
– Фронт, ровно, слышно было… Пушки будто стреляют.
Они вышли из землянки. Поставив на место щит из досок, служивший дверью, прислушались.
Через дыру в крыше землянки вырывался густой дым. Тут же подхваченный ветром, он как бы среза́лся, и его, сорвав, уносило прочь.
Фронта слышно не было.
– Утром послушаем, – сказал тихонько Батя. – Утром воздух звончее… и стреляют с утра чаще.
Но фронта они не услышали ни утром, ни вечером. Только неистовствовала вьюга, завывал, путаясь в сучьях берез и еловых лапах, ветер.
– Останемся совсем без еды, – перед тем как ложиться спать, шепотом сказал Чеботареву Батя так, чтобы никто не слышал. – Придумывать что-то надо. Заметил, кое-кто уж пухнуть начал?
Чеботарев не знал, что такое «пухнуть». Спросил, как это понимать. Когда узнал, прошептал с тревогой в голосе:
– А я посматриваю на Настю и не могу понять: то худела, а тут полнота какая-то появилась в лице. Пухнет, значит?
Когда в отряде осталось по лепешке хлеба – того, который пекли уполномоченцы – жесткого, скребущего горло добавленной в муку древесной корой, Батя позвал Чеботарева из землянки, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. Остановившись возле молодой березы с белоснежной берестой, он вытащил из немецких ножен, привязанных к ремню, штык-кинжал и проговорил:
– Слышал я когда-то, что у березы какая-то пленка… питательная будто.
Они содрали кусок бересты. Отогрев ее в ладонях, отделили от нее внутреннюю тонкую пленку. Разделив, стали жевать. Взгляды у них были при этом, как у дегустаторов в тот момент, когда они подносят к губам вино. Пленка – не горькая и не сладкая – превратилась в зеленоватую массу.
– А что? Есть можно, – невесело заключил Батя, а Чеботарев, проглотив жвачку, стал срезать новый кусок бересты.
В этот день до самого вечера отряд «кормился» у берез. Ободранные снизу, насколько хватали руки, они чернели вокруг лагеря, и лес казался изувеченным.
Петр к вечеру набрел на впадину. «Болото», – подумал он и, вспомнив, что на таких местах растет обычно клюква, стал разгребать снег ногой. Показалась темно-красная ягодка. Петр сорвал ее, бросил в рот. Начал рыть снег прямо руками. Руки, разогретые снегом, не чувствовали холода. Он находил ягоду за ягодой. Бросал их в рот, чувствуя, как они идут по горлу, проваливаясь в желудок, и холодят все внутри. Вспомнил о Насте – даже бересту не пошла сдирать. Начал собирать ягоды в рукавицу. С наступившими сумерками вернулся он к землянкам. На сосне увидал белку. Остановился. Присматривался, где у нее дупло. «В дупле всегда корм есть», – рассудил он и увидел дупло. Оно было высоко. Петр, положив на снег варежку с клюквой, полез на дерево. Но тело его слишком ослабло – и на метр не поднялся от снега. Обессиленно расслабив руки, сполз вниз.
В землянке Настя сидела возле огня и грела над ним руки.
– Вот съешь, – положил он перед нею рукавицу с ягодами.
Она удивленно посмотрела на Петра, потом на рукавицу. Просунула в рукавицу два пальца. Вынув одну ягодку, бросила ее в рот. Потом стала раскладывать ягоды на две кучки. Петр сначала не понимал ее. А когда понял, насупился:
– Ты сама ешь. Я съел много.
– Не ври, – оборвала его Настя. – Знаю я тебя. Ешь свое, тогда и я съем.
Она не притронулась к ягодам, пока он не стал есть отложенную ему порцию. Ягоды глотал, не давя во рту.
– Ты жуй, – сказала Настя. – Так они не переварятся. Это же клюква, – а сама, медленно двигая челюстями, растирала на зубах каждую ягоду.
В землянку набирались бойцы. Вернулся Батя. Сразу прилег на нары. Оттуда уж сказал Чеботареву:
– Вы бы лежали. Нечего силы тратить. – И увидел Настину клюкву: – Ягоды нашли?
– Нашел, – Чеботарев отдал ему свою кучку. – Завтра надо весь отряд туда.
Петр подбросил в огонь хворосту. Слушал, как храпел в углу боец. Потом кто-то начал во сне бредить. Выкрикивал непонятные слова, смолк на время и начал жалобным голосом объяснять:
– Видишь, я не ел ничего. Куда я пойду…
– Заболевают люди, – прошептала Настя. – Если так еще побудет, настоящий лазарет станет, не ходящий, а лежачий. Куда тогда с ними пойдешь? – И вдруг спросила – спокойно, словно речь шла о прогулке: – Ты веришь, что мы дойдем до наших?.. Мне часто кажется теперь, что умрем мы. Или от холода умрем, или… голод свалит.
– Не свалит, – сказал Петр. – Мы должны дойти.
Ему не хотелось и думать, что они не дойдут, что зима и голод свалят их здесь.
Легли на нары, подстелив под себя полушубок. Прижимались друг к другу – так было теплее. Петр вспомнил Валю. Но слез не было – только щемящая тоска охватила всего да по-человечески жалко стало Настю.
В полночь дежурный по лагерю заорал через щит в землянку:
– Тревога! Гитлеровцы!
Все вскакивали с нар. Настина косичка пристыла к обледенелой стене. Рванувшись, Настя вскрикнула. Из землянок выбегали еще сонные, еле натянув верхнюю одежду. Перед землянкой Настя прижималась к Петру дрожащим телом и, отдирая от косички лед, говорила:
– Сил нет… Уж скорей бы… что-нибудь…
Петр не слушал – скликал своих бойцов, смотрел, как Батя собирает «лазарет», чтобы отвести небоеспособных людей подальше отсюда, в более или менее безопасное место, которое было намечено заранее.
Свистела непогода. Хлестал снег – жесткий, холодный. В стороне, к проселку, строчили два автомата. Чеботарев приказал Семену, разделив бойцов поровну, занимать оборону по центру и на флангах, чтобы не дать обойти лагерь, покуда Батя уводит больных и раненых на новое место, а сам бросился на выстрелы. Пока добежал, дважды спотыкался и падал. От бойцов, которые стреляли, было уже совсем близко, когда чуть ли не из-под ног Чеботарева шарахнулась в сторону… Петр подумал сначала – немецкая овчарка. Только уж через несколько шагов осознал, что это был волк. «Волки», – пронеслось у него в голове, и он приостановил бег, всматриваясь в ночной стонущий лес.
– Что тут у вас? – спросил Чеботарев, подойдя к дозорным, которые уже не стреляли, хотя спрашивать теперь было и не нужно.
– Волки… напали, – объяснил старший.
Чеботарев послал к Бате бойца.
– Сообщи: тревога ложная.
В эту ночь до утра в лагере никто не спал. Батя приказал постовым и секретам забраться на деревья. Он изредка выходил с Чеботаревым из землянки и вслушивался, как то там, то с другой стороны в тон метели грустно и тревожно подвывают голодные волчьи стаи.
– Зверю тоже не сладко, – сказал перед утром Чеботарев Бате, когда выходили они из землянки, и замолчал, увидав прямо перед собой прижавшегося к снегу зверя.
– Голод не тетка, – бросил в ответ Батя, а сам глядел, как волк, распустив хвост, убегал от них.
Петр не смог уснуть и утром. Думал, где достать продуктов. И решился наконец он, несмотря на вьюгу, сходить в деревеньку у проселка. Собираясь уж, объяснил Бате:
– Может, что и добудем.
Шел он с пятью бойцами.
А деревеньки, оказалось, по существу, и нет. Избы стояли полуразрушенные. Кое-где торчали из снега печи. Только у края, возле леса дымила трубой уцелевшая изба.
Взяв с собой бойца, Петр перебежал через огород. Обошел избу, прижимаясь на всякий случай к стенам. На крыльце потрогал, потянув за ручку, дверь. Не открывалась. Постучал. Боец с автоматом на изготовку ждал.
Увидав подоткнутое под крышу лезвие косы, Чеботарев выдернул его и, просунув концом под крючок, подал вверх. Крючок снялся. Петр приоткрыл дверь и проскочил в сени. У стены стоял мешок с мороженой картошкой. Петр широко распахнул дверь в избу и наставил внутрь пулемет. Наставил и сразу опустил, увидев у стола на скамье женщину, которая вязала спицами носок из шерсти.
Женщина была худущая, сухая, как хворостина, и определить ее возраст было трудно. Такие же, как она, истощенные ребятишки лежали на русской печи. В углу избы стояла деревянная голая кровать.
Когда Чеботарев закрыл за собой дверь, женщина поднялась. Испуганно оправила она длинное старое платье. Смотрела то на дуло опущенного пулемета, то в глаза Петру. Вымолвила полушепотом:
– Вы… партизан?
Ребятишки свесили с печи лохматые головы.
Чеботарев сел на скамью возле стены.
В избе было тепло. Петру пощипывало замерзшие щеки.
– Да, мы партизаны, – проговорил он наконец, глядя на женщину, которая снова села. – Не бойся. – И добавил: – Отряд вот голодает, продуктами бы хоть малость разжиться.
– Родименький, – сразу, испугавшись еще пуще, громко прошептала хозяйка. – Какие у меня продукты! Взяли немцы все… Сами впроголодь живем. Кормить нечем, – и показала дрожавшей рукой на печь. – У меня их вон… мал мала меньше.
Чеботарев тут же встал. Глаза его гневно впились в женщину. «Мороженой картошкой свинью, поди, кормишь, а нам дать нечего!» – вскипело в нем. И, подойдя к ней ближе, он процедил:
– У нас люди пухнут с голоду, а ты… картошку морозишь?!
– Последняя она у меня, – завопила женщина, уставив на него снизу вверх вытаращенные, в слезах глаза. – По морозу на колхозном поле насобирала, чтоб хоть как бы… прокормить… их. Пожалей, родненький! – И упала со скамьи Петру в ноги, выпустив вязанье и выбросив перед собой руки в трещинах. – Сгинем мы так-то…
Петр с ужасом глядел ей в обезумевшие глаза и пятился. Понял вдруг, что у нее ничего, кроме этой картошки, нет и что не прятала она ее потому лишь, что знала: немцам мороженая не нужна… Лицо его покрывала краска стыда.
– Прости меня… мать, – выговорил он наконец спекшимися губами, а сам все смотрел ей в остекленевшие глаза, напомнившие ему великомученицу с иконы у старообрядцев в деревушке, где стоял отряд в ноябре месяце. – Прости, видишь, война.
Пятясь, он вышел из избы. Раздраженно сказал в сенях намеревавшемуся войти в дом бойцу:
– Обобраны до нитки, – и пошел к лесу.
К землянкам вернулись они в полдень.
А вскоре ходивший на юго-восток, к деревням возле реки Волхов, Семен приволок с бойцами мешок жмыху – случайно наткнулись, когда палками стали прощупывать через снег пол в полуразрушенном колхозном хлеве.
Батя приказал жмых разделить на три части. Одну часть распарили в ведрах. Кашицу делили – вышло не по полной кружке каждому.
После такого обеда Батя подозвал к столу Чеботарева и, расстилая карту, сказал:
– Пока погоды ждем, передо́хнуть можно… Надо использовать то, что хоть жмых пока есть, и идти.
Они склонились над картой. Чеботарев долго смотрел на проведенную красным карандашом предполагаемую линию фронта. На северо-восток до самой передовой тянулись, обтекая светло-зеленые лесные массивы, голубовато раскрашенные болота. Деревни стояли очень редко, и видно было, что впереди отряд ждет сплошное бездорожье да занесенные снегом топи. Двигаться же возле реки Волхов, где и местность поднималась, и деревни стояли почти одна на другой, понимал, да и Семен, придя со жмыхом, говорил об этом, – нельзя: там всюду немцы.
Стали подсчитывать, сколько у них теперь боеспособных бойцов, сколько лежачих больных, какое количество волокуш для них потребуется. Подсчитав все, решили к утру отсюда сниматься. Выработали план движения. Распределили между собой обязанности: Батя брал на себя заботу о больных и раненых, а за обеспечение их безопасности в пути нес ответственность Чеботарев.
После этого Батя взял с собой Семена, проводника и, пригласив Чеботарева, вышел из землянки.
Все так же метался, обжигая лицо, снег, ревел ветер, стонали, покачиваясь, деревья.
– Ну, что будем делать? – спросил Батя, вынимая из сумки карту, когда отошли от землянки в лес.
Семен простуженно сопел. Проводник притопывал, согревая ноги. Чеботарев думал, почему Батя не объявил им о решении в землянке, и догадался: «Побоялся: а вдруг начнут артачиться? Упрутся, а люди слышать будут».
– Ну, так что? – снова спросил Батя.
– Что? – отозвался наконец Семен. – Трудно сказать, что? Сидеть надо. Переждать… – И ткнул пальцем в карту. – Пойдем, а сил у нас тащиться по такой погоде… с гулькин нос. Начнется прифронтовая полоса…
– Будет про «силы»! – грубо оборвал его Батя. – Нечего себя этим расстраивать. Надо других подбадривать, а мы… себя терзаем. – И посмотрел сначала на Чеботарева, а потом на проводника: – Значит… как здесь договорились, перед утром снимаемся. Тех, кто не может идти своим ходом, попрем на волокушах. Идти будем вот так. – Он вел пальцем по карте. – Деревню обойдем. За ней вскоре торфоразработки. Там должны быть какие-нибудь строения, сараи или еще что в этом роде…
Батя поставил задачу на весь остаток пути к фронту. Говорил и напирал на «так». Петр слушал и никак не мог дождаться, когда он кончит. «Полушубок бы надо было накинуть», – думал он, когда зубы начали постукивать, вторя будто очередному Батиному: «Так, сделаешь вот тут…» А план сводился к следующему: у Семена забирали часть людей, чтобы тянуть волокуши, и он должен был с оставшимися бойцами обеспечивать и охранение отряда, и вести разведку впереди лежащего пути, и стремиться, наконец, доставать продукты. Вот и весь план, как его представил Чеботарев на морозе, под вой ветра.
2
Кто хоть раз в жизни шел по пескам – сыпучим, убегающим из-под подошвы, тот поймет, что значит идти зимой по лесному бездорожью, пробивать двигающимся за тобой людям путь в глубоком снегу. Ноги отказываются идти. Хочется остановиться и, махнув на все рукой, стоять так, пока не вымерзнет в тебе последнее тепло. Но идти надо. И люди идут, хотя с каждым километром, оставленным за собой, им становится все труднее переставлять ноги.
Так продвигался и отряд Бати.
Истощенные голодом, уставшие сопротивляться морозам и метели, которая по-прежнему не стихала, бойцы выбивались из последних сил. Даже Батя, который так умело держался всю дорогу, в чем-то начал сдавать. Утром, когда сделали привал, чтобы переждать день, он после короткого сна вышел из сарая торфоразработчиков и не стал натираться снегом – первый раз изменил укоренившейся за время похода привычке. Вместо этого он медленно поворочал головой и прислушался. Петр сразу понял, что́ он слушает – фронт. Подойдя к нему, Чеботарев спросил:
– Слышно?
– Нет, – отрезал Батя и добавил: – Странно, под Москвой немца гонят… Не могли ж им сдать Ленинград?!
– А если… взяли?
Батя окинул Петра, тяжелым взглядом.
– Больных бы пристроить где, – вместо ответа проговорил он наконец.
Настя поднесла Петру его порцию сваренного жмыха. Подогрев кружку на костре, разожженном прямо на снегу, он проглотил пищу и пошел в сарай вздремнуть. В это время, припадая на ногу, к нему и подбежал Батя.
– Слышишь? – спросил он, радостный, как ребенок.
Петр прислушался к далекой канонаде. Посмотрел на Батю. Усы у Бати тряслись, а глаза смеялись и горели.
В этот день Батя почти через каждый час выходил из сарая и подставлял ветру то одно, то другое мохнатое ухо. И когда орудийной пальбы становилось не слышно, он отыскивал Чеботарева и тихо говорил:
– Пропало.
Настя все старалась понять, что значит «пропало», наконец спросила Петра:
– Что у вас за секрет?
Чеботарев улыбнулся ей и сказал на ухо:
– Фронт… то слышно, то не слышно.
Он долго смотрел ей в глаза: тихие до этого, словно при готовившиеся к смерти, они вспыхнули, и Петр вдруг увидел, что волосы она больше не заплетает в косички, – высунулись они из-под шапки и висят, чуть загнувшись кончиками, в беспорядке. Отечное Настино лицо отливало неестественной синевой. «Клюквы бы пособирать где», – подумал он и, желая как-то поддержать Настю, заговорил:
– Скоро выйдем к своим. Я пойду в часть какую-нибудь – однополчан где найдешь? Ты, наверно, на завод куда-нибудь поступишь. В лагере Уполномоченного слышала ведь по радио, как девушки помогают фронту?
– Лучше бы мне остаться у лужан, – прошептала Настя. – Не мучилась бы. Живут, поди. Бьют эту погань.
– Им тоже, может, не сладко там… – И после паузы: – Да и нам, если разобраться, не так уж плохо, голодно только немного. Перетерпим.
– «Немного», – через силу усмехнулась Настя, и глаза ее увлажнились.
К ним подошел Батя. Посмотрел улыбчиво на Петра и Настю. Сказал, похлопав девушку по плечу:
– Не вешать носы! Послезавтра дома будем. Сегодня пораньше выйдем да побольше постараемся пройти…
И вышли действительно пораньше: к вечеру, когда еще было совсем светло, отряд, растягиваясь в цепочку, пополз на север, туда, откуда весь день с редкими перерывами слышалась артиллерийская перестрелка. Останавливались на короткие передышки почти через каждый километр-два пути. Ближе к полночи сделали большой привал – поесть. Разожгли небольшие костры. Распаривали половину оставшегося жмыха… Здесь отказались идти еще четверо бойцов. Да что значит отказались? Просто люди не смогли подняться. Батя, растерянный немного, пошептался с Чеботаревым. Петр предложил забрать из боевой группы часть бойцов вместе с Семеном.
– А я, – сказал он, – возьму на себя его обязанности.
Батя, не переставая тревожиться, согласился. И Чеботарев с несколькими бойцами остался единственным щитом отряда.
Шли теперь еще медленней: шли прямиком, по целине. Теперь увязали в снегу по пояс, но зато путь до фронта сокращался быстрее.
Под утро перестал валить снег. Утих ветер. Идти стало легче.
Уж чуть светало, когда группа Чеботарева уткнулась в переметенный сугробами, со следами танковых траков на скользких выметинах, проселок.
Чеботарев остановился. Его спросил боец рядом:
– По нему пойдем? – и показал на проселок.
«Пусть Батя решит», – подумал Петр и послал бойца к командиру, который с отрядом был метрах в трехстах от них. Вскоре боец вернулся. С ним пришел и Батя.
– Надо обосновываться на отдых, – сказал он устало.
Обосновались за проселком – метрах в пятистах. След от дороги замели ветками. Батя дал группе Чеботарева передышку в два часа. Шалашей не делали – сил не было. Сидели, подложив под себя наломанные еловые ветки. Прислонялись для теплоты спинами друг к другу.
В макушки деревьев ударяли утренние лучи солнца. От этого казалось еще холоднее.
Петр лег, расстелив на ветки зипун. Хотелось спать – глаза закрывались сами собою. И в это время, совсем близко, заговорил фронт. Все подняли головы. Усталых людей охватила радость. Настя, обняв Петра, от счастья плакала, а Петр, торжествуя, что отряд все-таки достиг фронта, думал, какое принять решение. Батя встал – он сидел возле костра, где в ведре варился остаток жмыха. Смеялся.
Петру показалось, что со времени встречи его с Валей в лагере Морозова у него еще не было таких счастливых, волнующих минут.
– Так дальше идти нельзя, – сказал Петр Бате. – Рядом фронт. Надо разведать подходы к передовой.
Батя был согласен.
– Возглавишь ты, – приказал он Чеботареву.
Тут же снарядили группу из восьми человек. Повел ее Чеботарев.







