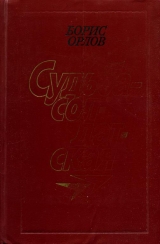
Текст книги "Судьба — солдатская"
Автор книги: Борис Орлов (2)
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
Глава четвертая
1
События разворачивались стремительно. Еще совсем недавно Саша Момойкин, выйдя из дому и направляясь на вечеринку к Мане, слушал тишину мирно спавшей деревни. А вот уж и фронт слышался… Днем соседний колхоз прогнал через Залесье на восток стадо. Залесские колхозники целый вечер вели дебаты на экстренном собрании. К полуночи согласились, что надо угонять и им. К утру часть скота погнали. Проводив стадо, мужики и бабы взяли косы и разбрелись по окрестным лугам косить траву. Но какая это была косьба? Так, убивали время… Когда по Залесью разнеслось, что фронт ушел на восток и деревня вроде бы уже за германцем, люди совсем приуныли. Наскоро собрав пожитки, укатил куда-то председатель. А четверо мужиков во главе с единственным в деревне коммунистом пришли к Момойкину и вызвали его на крыльцо.
– Обращение Сталина к народу слышал? – спросил его коммунист. – Вот… Решили организоваться в отряд и того… в леса.
Саша с минуту мялся. Выставил изуродованную руку. Сказал: куда он такой годен?
– Ты же на охоте, бывало, вон как пулял из ружья в дичь! – проговорил один из мужиков, а другой добавил:
– Отца ждешь? – и оборвал свой голос плевком.
Вскоре Саша вернулся в комнату. Хмурый, встревоженный.
– О чем они? – спросила мать требовательно.
– А так, – отмахнулся Саша и поглядел на угрюмо сидевшую и слышавшую разговор Валю. – Делать им нечего, – проговорил он и стал, будто оправдывался, объяснять Вале – она сидела на кровати после перевязки: – Не поймут: идет война… тех-ни-ки-и! Самолеты, танки, пушки… Тоже мне отряд! С дробовиками…
Валя молчала. Вспомнились ей рассказы отца о гражданской войне на Псковщине. «Не туда ты гнешь, – думала она о Саше. – Говорит в тебе не то, чему нас учили и что становилось для нас святым, чистым, идущим от сердца… А в тебе?..» Валя отвернулась от Саши. Долго и напряженно смотрела она в пазы между бревнами. Саша ждал, что она заговорит. Не дождавшись, сказал:
– Может, думаешь, что я трус? Я день и ночь думаю, как мне поступить. – Он помолчал, пододвинул стул к кровати, сел, долго тер ладонь изуродованной руки, наконец заговорил снова: – Я должен все продумать… Я присмотрюсь, оценю все и потом уже твердо решу, что мне делать. Предателем я не стану, но и сломя голову не полезу на рожон: жизнь дается раз… В борьбе азарт – дело ненужное.
Валя бросила:
– Вот именно, получается у тебя совсем нехитро: присмотреться, оценить, где выгоднее, а потом уж и решиться, как… – и холодно: – Приспособиться.
– Валя! – возмутился Саша. – Что ты говоришь?!
– А что? То и говорю. – Она повернула к нему лицо, пронзила жесткими, сухими глазами. – Что тут говорить? Из Пскова, где, может, ты сейчас всего нужнее, удрал. Здесь выжидаешь. Что еще?.. Счастье, что тебя в партию не успели принять. Но жаль, что и комсомольский билет имеешь. А надо бы… выпереть. – И совсем тихо, чтобы не слышала его мать: – Вот моя к тебе любовь.
Саша никак не мог придумать, что ответить. Его губы плотно сжались, и, почти не разжимая их, он выдавил наконец:
– Если хочешь знать, так у меня убежденности не меньше, чем у Павки Корчагина… Я еще… покажу…
Валя неестественно громко засмеялась.
– Пава ты, а не Павка. Только вот никого не нашлось вовремя общипать тебя, – оборвав смех, холодно цедила Валя. – Каждый школьник знает, кто был Павка Корчагин. Герой он был!
– Был да сплыл!
– Не сплыл!.. А мы на что?..
Из их разговора мать ничего не поняла. Она только догадывалась, что Саша и Валя ругаются. У ней заныло сердце. Ссоры между ними она не хотела, потому что Валю полюбила, как родную, и видела, как сын тянется к девушке. Материнское чутье ей подсказывало, что если они не сойдутся, то он, Саша, женится тогда на Маньке, которую она, мать, не только не любила за вздорный характер, но и презирала за ветреное поведение, потому что сама хранила себя в строгости и нравственной чистоте.
А после полудня к Залесью подошли немцы. Это был обоз. Двигался он почему-то с юга.
В доме Момойкиных воцарилось уныние. Саша неотрывно глядел в задернутое занавеской окно. Немцы остановили лошадей перед деревней, за взгорком, возле березовой рощи. Из окна было видно, как, распрягая, треножили они некрупных, мясистых коней, похожих на выродившихся ломовиков, бегали вокруг фургонов с высокими коваными колесами. Задымила короткая труба кухни.
– Закрыл бы ставни-то, – срываясь на шепот, проговорила мать со скамьи у печи.
– Куда же я пойду? Вон идут уже, – проговорил Саша не своим голосом.
Мать как сидела на лавке, так, не вставая, и начала креститься на иконы. Губы ее вздрагивали. Валя смотрела на Надежду Семеновну, широко раскрыв глаза.
– Что же теперь будет? – прошептала она, не спуская с нее глаз.
В дом к Момойкиным стали стучать сразу двое. Приклады винтовок били в тяжелую сенную дверь глухо, но так, что стук раздавался по всей избе.
Надежда Семеновна встала.
– Пойду, – сказала она, решившись, и вспомнила молодость: тогда так же вот ворвались в дом конники Булак-Балаховича и увели мужа.
Выйдя в сени, она скинула дрожащей рукой крючок. Толкнула дверь. Стояла, загородив проход.
Немцы улыбались. Озорно поглядывали в бесстрашные глаза Надежды Семеновны. Один сказал, плохо выговаривая русские слова:
– Курка ест? Яйко ест? Ми вас нихт. Ми вас… освобождайт. Ми камунист пух-пух. Юда пух-пух, – он даже показал, вскинув на Надежду Семеновну винтовку, как это они делают.
Та, бледная, стояла не шелохнувшись. Молчала. Тогда второй, засмеявшись, сказал что-то по-своему напарнику, и тот опустил оружие, а он, отстранив Надежду Семеновну дулом винтовки, перешагнул порог. Начал бесцеремонно шуровать в стоявших у стены корзинах и ящиках. Услышав кудахтанье в хлеве, бойко заговорил с напарником.
Надежда Семеновна смотрела вслед направившимся в хлев немцам. Слушала, как они ловят кур. Вскоре один из них вернулся. Он держал в руках четырех несушек со свернутыми головами и твердил:
– Гут, гут. Карашо.
За ним появился второй.
Вечером немцы еще раз обошли деревню. У Момойкиных они забрали перину с кровати, на которой спала Валя.
Уезжали немцы утром через Залесье. Они горланили песни, играли на губных гармошках, ели кур. С первого фургона пустили по ветру из разорванной перины пух. Белое перо закружилось, понеслось вдоль улицы. Остальным это понравилось, и они начали делать то же. Белоснежное облако заволокло улицу.
Перо и пух ложились на дома, на траву… И казалось, будто зимняя стужа сковывает землю.
Саша после ухода немцев взял лопату и в хлеве у тынной стены начал копать яму – решил спрятать туда все оставшиеся запасы продуктов и одежду. Копал и слушал. Было тихо. Только отдавались в ушах звуки, когда лопата ударяла о камень, да изредка доносился от шоссе приглушенный расстоянием шум моторов. На отвыкших от физического труда руках набухали мозоли. Но Саша не обращал на это внимания, копал и копал.
К обеду яма была готова. Наскоро выложив стенки ее горбылем, Саша устлал пол досками и стащил в яму мешки с мукой, зерном, крупу, оставшееся в глиняной большой посудине топленое масло. Сверху положил лишнюю одежду. Потом яму закрыл досками, на доски набросал соломы. На все это накидал земли, а на нее поставил бочку с водой для коровы. Глядя на бочку, мать перекрестилась, а Саша, улыбаясь, похвалился:
– Освободители нам теперь не страшны.
Немцы в Залесье больше не появлялись. Страх мало-помалу проходил. По вечерам соседи собирались по завалинкам, на скамьях против окон и судачили. Счетовод Опенкин – изворотливый человечишка – как-то в порыве откровения сказал: «Если так пойдет, то жить будет можно. Не так страшен черт, как его малюют. По нашим-то газетам получалось, будто светопреставление идет». Сидевшие возле него мужики поугрюмели. Осуждающе посмотрев на Опенкина, они как по команде поднялись и пошли спать.
Саша в эти дни отлучался редко. По вечерам приходила к нему Маня. Постояв под окном, она звала его, а потом шла за деревню и там ожидала. Он с неохотой выходил к ней. Они шли в поля, в березовую рощу за взгорком. Наскоро миловались там. Возвращались в деревню. Маня все ждала, что он предложит ей пожениться. Но Саша отмалчивался, а когда она начинала заводить об этом разговор, сердился и бросал одну и ту же фразу:
– Нашла время! Война ведь!
– Что она тебя, война-то, за холку задевает? Ты же инвалид! – отвечала ему Маня, и они надолго замолкали.
Домой Маню Саша не провожал. Маня обиженно протягивала ему руку и, чуть не плача, уходила. В душе ее зрело решение поговорить с ним напрямую. И как-то она об этом заговорила. О Вале даже не намекала. Саша слушал ее не перебивая. Ковырял носком «скороходовского» ботинка бровку протоптанной в гречихе тропинки и думал: «Не мила ты мне. Отсталая ты деревня по сравнению со мной, вот что я тебе скажу. Пятиклассное не хватило духу закончить. Что я с тобой буду делать в городе-то?..» Когда Маня умолкла, он долго не знал, что ей ответить. С языка готово было сорваться: «Я… образованный, культурный, а ты – бескультурье, деревенщина. С тобой и говорить мне будет не о чем…» Но Саша сдержался. Наконец собравшись идти прямо через гречиху, он грубо обронил:
– Мало ли с кем я гулял… Так на всех женись?..
Когда Валя начала ходить, Сашу еще больше повлекло к ней. Он любовно смастерил ей костыль. С костылем она передвигалась сначала по комнате, потом стала выходить на крыльцо.
Сидя на ступеньке крыльца, Валя подолгу смотрела в сторону Пскова. Старалась представить, как там у них, в доме. Ее большие грустные глаза заволакивало слезой, и сквозь эту пелену она уже не видела ни кур, рывшихся на дороге, ни взгорка, ни белых стройных берез за ним, куда, знала, Саша до того, как она начала ходить, частенько прогуливался по вечерам с Маней… Валю мучили мысли о Петре. Об отце Валя размышляла как-то так, легко. Ей казалось, что он опять будет партизанить и ничего с ним не случится… Все мысли ее сосредоточивались в конце концов на матери. В голове возникали самые разные предположения. То ей думалось, что мать вернулась в Псков и ждет ее там и она, Валя, немного поправившись, вернется туда. То она переставала верить, что мать в Пскове, и тогда ей представлялось, как будет она добираться до Луги, где должна встретить свою мать у родных. И виделось ей в эти минуты, как шла она по Луге, открывала скрипучую, низкую калитку, заросшую по сторонам пахучей густой сиренью…
В такие минуты Саша старался не мешать ей. Интуитивно он понимал, что Валя от него совсем уходит. И оттого, что уходит, что надежды на сближение нет, ему делалось грустно.
Внешне между ними отношения установились неплохие. Как-то после прихода немцев зашел в избе разговор: если фашисты снова придут в деревню и спросят, кто она, что отвечать? Саша молчал, а мать сказала: «Женой твоей назовется, весь и сказ, а нога… Ногу с самолета ранило, когда из Пскова ехала».
Однажды утром – началась уже вторая половина июля – Саша с Валей пошли в огород нарыть картошки. Саша изуродованной рукой, как крюком, подрывал сбоку сырую землю и выворачивал клубни. В это время из гречихи, которая подходила прямо к огороду, вышел мужчина лет пятидесяти. За спиной у него был холщовый мешок на лямках из белой широкой тесьмы, в руках – объемистый фибровый чемодан. Мужчина оперся на изгородь, поставил чемодан и уставился на Сашу. Смотрел долго, пристально, не мигая.
– Дядька какой-то у прясел, – тихо проговорила Валя. – Что ему надо тут?
Саша разогнул спину, поглядел на незнакомца. Что-то передалось ему, и он ощутил биение сердца. Закинув здоровой рукой прядь вихров к затылку, спросил мужчину:
– Что вы хотели? Беженец?
– Беженец, – через минуту проговорил тот голосом, в котором – показалось Вале – было много знакомого, и, пройдя через проход в пряслах, добавил: – Сын… Сынок… Сашенька…
Саша оторопело глядел на незнакомца. Мгновенно сравнив фотографию отца с человеком, назвавшим его сыном, понял, что перед ним его отец. Сашины губы смешно, по-детски затряслись.
Незнакомец, растопырив руки, обхватил Сашу. Крепко, не целуя, прижал его к своей широкой груди. И только шептал не двигаясь:
– Сын… Сынок…
Потом, опамятовавшись, отец Саши жал руку Вале, не зная, как ее называть.
Оставив в огороде корзину, все трое, возбужденные, пошли в дом. Выскочивший откуда-то Трезор ощетинился и злобно посматривал на незнакомца.
Надежда Семеновна еще не вернулась из правления колхоза: там члены артели, собравшись, судили-рядили, как дальше жить – колхозом или еще по-другому как…
В тесной избе правления народу набилось много, пришли все. Кто бы и не пришел, да опасался, а как на это посмотрят люди. Еще скажут, новую власть поджидают. Были и такие, которые, направляясь на собрание, думали: не придешь, а там как начнут колхозное хозяйство делить! Останешься ни с чем. Основная же масса колхозников пришла совсем из других побуждений. Этим не выгодно было снова начинать жить по старинке – единолично. Все они до революции жили бедно, земли имели мало, да и та была неплодородная, помнили о нищете и вечной зависимости от «крепкого мужика», как они называли кулаков.
Опасаясь раздела хозяйства, они готовы были положить за колхоз головы и, если бы знали, что гитлеровцы самочин им простят, на горло бы наступили тем, кому колхоз был не нужен.
Вот эти две волны и схлестнулись в тесной комнатенке правления.
Сначала все молчали – кому в такое время охота начинать! Мужики – в деревне их осталось мало, потому что одни ушли в армию, другие кто куда, – курили, свертывая козьи ножки одна больше другой. Бабы грызли с остервенением семечки, которые завхоз артели принес из склада в большой жестяной бадье. Заместитель председателя артели нерешительно постукивал карандашом о край стола и все просил:
– Ну, дорогие товарищи колхозники или еще кто, не знаю, как теперь нас прозывать, предлагайте, как быть, – и смотрел виновато в тяжело уставившиеся на него глаза.
Наконец слово взял Захар Лукьянович, отец Мани. Мужик крепкий, работящий, он поднялся со скамьи, откашлялся, не прикрывая рта, и уставился в распахнутое окно на улицу.
– Об чем рядить-то? – натруждая голос, проронил он. – Мы, што ль, тут власть? Власть теперь их благородия немцев. Вот придут – и спроси у них, товарищ заместитель председателя: так, мол, и так, народу важно знать, каким порядком жить теперь?
После таких слов Захара Лукьяновича все разом загалдели. Бабы перестали лузгать семечки – сбросили шелуху с подолов на пол. Мужики как по команде прекратили курить – мяли ногами, растирая на полу, самокрутки. Все, и мужики и бабы, говорили, каждый свое. Разобрать было трудно. Потом, перекрывая галдеж, во всю глотку заорал колхозный сторож, сосед Захара Лукьяновича:
– Да за такие за слова Захару дать бы в харю. Меду ждет… Колхоз сохранить как бы, вот об чем речь вести надо нам. Она, новая-то власть, пришлая. Она побудет – да и была такова, уйдет. А нам жить надо. У нас наша власть есть, Советская. По Захару коли делать, так потом, когда вернется Красная Армия, в глаза друг другу не глянешь – стыд съест.
– Ты предлагай, предлагай! – прокричал сзади, от дверей, счетовод артели Опенкин. – Что демагогию-то разводить – наслышались. – И гвалт сразу стих.
– Какую ето такую демагогию? – посмотрев в недоумении на крикуна, заговорил оратор в примолкшую комнату. – Ето не демагогия, дорогой товарищ, а правда. Я правду говорю. Нашу землю спокон веку иноземщина топтала, а по ее не выходило, как народ несогласный под чужим ярмом ходить. Исторею знать следовало бы! – И сел.
Большинству явно понравились эти слова колхозного сторожа и то, как ловко он отпарировал крикуна.
Надежда Семеновна Момойкина, поблескивая жаркими глазами, соскочила со скамейки и, путаясь в словах, заговорила:
– А я так сужу: ждать новых властей хочется тому, кто хочет сесть на нашу, бабью шею. Вот, скажем, я. Кто я без артели? Меня всяк обидит без нее… Нет, от колхоза никак нельзя отказываться. По справедливости жить надо. – И рука ее лихо ткнула в сторону Захара Лукьяновича: – Ему что? У него полон дом рук. Он мужик. Ему и по старинке можно тянуть жизню. А вот если меня взять? С бабьими-то руками… Сама стара, сын инвалид, можно сказать…
– А ты что думала? – подскочил на скамье, рассвирепев, Захар Лукьянович, в котором вдруг заиграло желание выместить на ней тут, при людях, всю злобу за поруганную честь дочери. – Считаешь, век на тебя и на щенка твоего деревня хребет гнуть будет? Хватит! Кончились те-то времена. Вот теперь и будем по справедливости зачинать жить! – И садясь: – Не прикидывайся овечкой: все помнят, кому лизать ж… муженек подался. Нашлась проводница Советской власти.
Надежда Семеновна, будто поперхнувшись чем-то горьким, проглотила злые, беспощадные его слова. Из глаз брызнули слезы. Ничего не видя, толкаясь между скамьями, она заспешила к двери. Кто-то откровенно и с издевкой смеялся вслед, кто-то увещевал Захара Лукьяновича…
Выйдя на высокое крыльцо – изба до коллективизации принадлежала кулаку Шилову и сделана была добротно, с высоким летником, – она припала к расшатанным от времени резным перилам и навзрыд заплакала. Выплакавшись, вытерла ладонью глаза и посмотрела на полуразрушенную в двадцатые годы колоколенку церквушки. Теперь церквушка была приспособлена для хранения колхозного зерна. Надежда Семеновна перекрестилась. Перед глазами стояла вся ее жизнь, сложившаяся неуютно и безрадостно. «Только и пожила, что в последние годы. Сынок стал на ноги, сама оправилась… В колхозе дела пошли как надо… Господи, да чем я согрешила перед тобой?..»
Из-за рощи за прудом по дороге от МТС тарахтел колесный трактор. Надежда Семеновна не слышала ни его шума, ни того, что делается в правлении. Она пришла в себя тогда лишь, когда трактор, перейдя по плотине, повернул направо, подошел к крыльцу правления колхоза и один из двух сыновей счетовода Опенкина – Осип или Дмитрий, – нажав на спусковой крючок поставленного на капот пулемета «максим», дал в воздух длинную очередь. Из правления, прижимая ее к перилам, посыпали колхозники. Страх на их лицах сменялся недоумением. Останавливаясь у крыльца, они со смехом поглядывали на колесный трактор с пулеметом.
– Танка, чистая танка! – поглаживая крыло огромного заднего колеса, сказал Захар Лукьянович и с лукавинкой уставился на Осипа.
– Что глазенки вылупил? – победно улыбнулся тот с сиденья – он работал трактористом в МТС – Решили, как быть? – И с его лица сошла улыбка, ее сменила надменность. Встав, он выкрикнул с угрозой в голосе: – Вот наш наказ: всякая власть кончилась. Будем жить без власти, и точка.
– Как так без власти? – выйдя вперед, растерянно спросил заместитель председателя, стараясь не глядеть на дуло пулемета, направленного куда-то под крышу правления. – Как можно без власти?
Почти одновременно из-за спины заместителя председателя показалась голова уполномоченного милиции, который жил в Залесье и которого никто не заметил в это утро, потому что был он в гражданской одежде. Слегка побледнев, милиционер проговорил сухим, напряженным голосом:
– Вы что, товарищи Опенкины, беспорядки производите? Надо деревню мобилизовать, потому как враг кругом, а вы…
Он хотел сказать еще что-то, но в это время соскочивший с трактора Дмитрий подлетел к нему и властно пробасил на всю улицу:
– Замолчь! Где твой наган, лягавая башка? А ну выкладь! Мы думали, ты уж давно того, драпанул, а ты… еще жив!
Осип, видно, лишь чтобы поддержать брата, или просто наслаждаясь своим могуществом, снова нажал на спуск, выпустив на всеобщий страх длинную очередь, которая распорола крашенную той весной в зеленый цвет железную крышу правления.
Лицо милиционера побледнело. Дмитрий бесцеремонно залез ему в грудной карман пиджака. Вытащив оттуда в лысинах на вороненой стали наган, повертел им, глянул в дуло, крутанул барабан и, видимо, из чувства превосходства и озорства выпалил в воздух одним патроном.
– Ето не то что пугач. Работает, – сказал он примирительно милиционеру. – Да не трясись. Иди домой и сдай мне все патроны. Да поживей! – И к заместителю, председателя, играя у него под носом дулом: – А ты, бывшая власть, дай последний отбой. Пусть расходятся и живут себе, как хотят.
– А чуть что, к нам пускай приходят! – кричал весело с трактора Осип. – Мы теперь – власть!
– Хулиганы вы, а не власть! – сплюнул раздосадованно на землю заместитель председателя и направился домой.
Милиционер, придя в себя, подступал к Дмитрию и пытался его усовестить. Осип в это время спрыгнул с трактора и пошел в сторону, за толпу, где, посмеиваясь, стоял в одиночестве его отец.
Дмитрий нахально улыбался в глаза милиционеру, то и дело поглядывал на отца с Осипом. Ждал. Милиционер ему надоел. И так неудавшийся телосложением, в гражданском костюме он выглядел совсем маленьким, худеньким. Дмитрий – громадный, слывший в деревне и МТС силачом – мог бы одним нажимом пальца придавить его к земле. Но пускать в ход руки Дмитрий побаивался. Только когда милиционер сказал ему, что за хулиганство свое им, Опенкиным, не миновать расплаты, Дмитрий немного вышел из себя и легонько оттолкнул милиционера. Тот, чуть не упав, проговорил:
– Правильно, хулиганы вы, а не власть. Что будете делать, когда придут наши? Как оправдываться станете? Заюлите… Или в бега подадитесь? – и пошел не оглядываясь.
Угроза вывела Дмитрия из себя. Он прокричал ему вслед басом:
– Это когда придут! Да придут ли? Я… я вот тебе покажу, какая мы власть! – И к людям, которые уже потихоньку отходили от правления: – Граждане, мы не власть? А вот пусть посмотрит! – И приказал: – Граждане сельчане, сейчас все марш на склады и разбирайте, что любо. – Он сделал паузу, силясь придумать еще что-нибудь такое, похожее на распоряжение, и вдруг выкрикнул: – А скот – делить!
– Угнали скот-то. Последний ночью угнали куда-то, – невесело, с издевкой проговорил Захар Лукьянович, которому вся эта затея Опенкиных с трактором показалась подозрительной, и не просто озорством, но попыткой завладеть всем общественным добром.
Некоторые побежали за церковь, где в постройках размещались колхозные склады. Захар Лукьянович печально посмотрел в ту сторону и, махнув рукой, пошел к своему дому. Оглянулся. Видел, как трактор с взгромоздившимся на него Осипом взревел мотором и затарахтел за бегущей к складам толпой. Сбоку трактора поспешал его, Захара Лукьяновича, сын, Прохор.
Прохор кричал Осипу:
– Откуда пулемет-то?
– Откуда? – скалил прокуренные большие зубы Осип. – Красноармейцы лесом тянули, вот мы и разоружили их. Им что, только обуза он, а нам… Позарез он деревне нужен. Теперь у нас порядок будет… С ним… и припугнуть кого можно, а кого и…
Надежда Семеновна не слышала, о чем они говорили дальше. Как пьяная, направилась к дому. Ничего не хотела видеть, ничего не хотела слышать. Ее губы, полные, как у Саши, и так же слегка вывернутые, шевелились. Она все повторяла: «Господи… И чем, грешная, согрешила я перед тобой, пресвятая богородица…» Никого она не укоряла, никому не слала проклятия. Давно смирившаяся с судьбою, никому не жаловалась на горькую свою долю, никого не обвиняла в том, что так нелепо сложилась ее жизнь. Покорно несла она свой тяжкий крест. Проторяла свою, не чью-нибудь, дорожку жизни. Шла по-своему, но со всеми.
Медленно поднялась Надежда Семеновна на крыльцо, ни на что не глядя, вошла в сени, открыла дверь в избу.
Нельзя сказать, чтобы Надежда Семеновна сразу поняла, что в комнате на лавке перед столом, на котором были разложены вещи, сидел ее муж. Ей и в голову не могло прийти, будто он вернется в дом… Опустив руки вдоль широких, мясистых бедер, она окаменело остановилась, еле переступив порог. Глядела, широко раскрыв глаза, на Георгия Николаевича, который, дрожа изъеденным морщинами лицом, медленно поднимался со скамьи.
– Милый! Родной! Муж!.. – вскрикнула она, обмирая, и, сделав усилие, переступила порог – шла к нему, вставшему ей навстречу с растопыренными руками. Шла – к чужому и родному, знакомому до самых мелких, не видимых для другого черточек, которые, оказалось, сохранила в ней память на веки вечные и которые на человеке не смывают годы. Глаза ее стыли в суеверном страхе, и она никак не могла поверить, что перед ней он, ее муж, – долгожданный, единственный, старившийся вместе с нею – в ее мыслях, ее снах, в ее горе и радости, в ее хлопотливых, нелегких материнских заботах и тоскливом вдовьем одиночестве.
2
«Злужил»… Да, сказав это, Зоммер проговорился. Парень он был в общем-то хитрый и умный. И случилось это, очевидно, оттого, что после колокольни он чувствовал себя еще плохо – болела голова… А может, и просто минутная растерянность – все-таки перед ним стояли живые гитлеровцы.
Но немца Зоммер больше не интересовал. Оглядев комнату, фашист направился в кухню. Вернувшись, обратился к Сониной матери:
– Здиес… йа гаварйу па рюски… плоха. Ву менйа панимайт?
Сонина мать таращила на него глаза и ничего не понимала. Гитлеровцу надоело с ней объясняться, и он проговорил ефрейтору по-немецки:
– Твоим этой комнаты хватит? – И осклабился: – Пока не возьмем Ленинград, ничего лучшего у этих скотов не подыщешь.
У Зоммера боязнь, что вот они его схватят, начала проходить. Глаза его стали жесткими. Глядя в окно, он думал: «В другой обстановочке я показал бы вам Ленинград. Узнали бы, какие мы скоты».
Немцы вышли на крыльцо.
Федор рассказал Соне, зачем они приходили. Она потянулась к гитаре, висевшей на стене. Понесла ее на кухню. Зоммер пошел за Соней.
Немец-ефрейтор с крыльца махал, подзывая солдат. К нему от машин подошло несколько гитлеровцев. Переговорив, они начали таскать в комнату перины, одеяла, ранцы… Перетаскав, поставили в комнате солдата с автоматом, сбросили с себя одежду и, оставшись в одних трусах, вышли на крыльцо.
Зоммер, Соня и ее мать сидели в кухне. У Зоммера снова началась тошнота – видно, от нервного напряжения. Ломило голову. Он выпил из ведра холодной воды. Ставя кружку на стол, увидел источенный кухонный нож. На всякий случай сунул его в карман брюк. Услышал, как Сонина мать, вздохнув, проворчала на полуголых немцев:
– Бесстыжие. Тьфу!..
В кухню ввалился маленький суховатый гитлеровец, весь обросший рыжей шерстью. Он держал в руке убитых и связанных, шейка к шейке, кур. Бросив кур на стол, объяснял Соне, что их надо щипать и жарить. Было противно смотреть на него, почти голого. Сонина мать поднялась с табуретки, разрезала шнурок на шейках и начала чередить[5]5
Чередить – ощипывать.
[Закрыть] крупную и, видно, с яйцом курицу. Солдат постоял, посмотрел. Сунул в руки Федору и Соне по курице. Рыжие реденькие брови его поползли вверх – выругался по-своему:
– Лентяи! Мы вас приучим к новому порядку. У нас узнаете, как надо работать и как следует почитать арийскую расу.
Федору хотелось съездить ему за эти слова по морде, но он только пощупал в кармане ножик.
Немец вышел. Соня спросила, что говорил этот сморчок. Федор невесело усмехнулся и сказал:
– Он ругался: мы-де ленивые. – И подумал: «Какие же это немцы!.. Немощь проклятая, а тоже холуев ищет. Порядок наводить пришли. Что же за порядок может быть у этой мрази?!»
Он выглянул из-за дверного косяка. Солдаты сидели на крыльце. Ефрейтор тихонько пиликал на губной гармошке. Солдат, принесший на кухню кур, говорил ему:
– А девочка тут хорошая. Получше, чем в Изборске у тебя была…
Ефрейтор перестал играть. Поглядев на солдата, засмеялся:
– А что? Девка и правда хороша, только… жаль вот, муж рядом. Не подберешься без скандала, – и снова запиликал простенькую мелодию.
Солдаты, не слушая игрока, рассуждали о положении на Восточном фронте. Спорили, когда падут Москва и Ленинград. С завистью говорили о тех счастливчиках, которым выпадет жребий участвовать в параде победы, когда возьмут русскую столицу…
Зоммер морщил лоб. «Уснут, порезать бы всех… – думал он. – Так опять же… сам-то я уйду, а Соня с матерью. Куда они уйдут?.. Отвечать будут».
Под вечер жарили кур. Немцы, обступив Сонину мать, нетерпеливо посматривали на большую сковороду с розоватыми тушками. Спорили, кто которую станет есть. Ефрейтор, растолкав всех, повелительно произнес:
– Правая моя. Я ей гребень разорвал, чтобы отличить. – А гребень разорвал Зоммер, когда теребил ее.
Ефрейтор, обжигая пальцы, схватил за ножку недожаренную курицу. Вокруг второй пошла настоящая потасовка. Мать Сони, по-хозяйски, выражая недовольство, выговаривала:
– Сырые же они. Куда вы их? Будто век не жрали.
Зоммер с Соней вышли в сени. Глядели на машины. Зоммер вздохнул. Думал, что наши дела на фронтах, видно, действительно очень плохи. «Неужели так их и не остановят? Неужто это конец наш?..» И испугался своей мысли. Даже Соне не признался бы он, о чем сейчас подумал.
По улице, обходя машины, шел часовой. Зоммер попятился в глубь сеней.
– Уйдем, – сказала опасливо Соня и потянула Федора в кухню. – Еще соседи увидят тебя. Выболтают.
Солдаты, съев кур, угомонились. Из комнаты доносились храп и голос ефрейтора:
– А может, сходим? Что-нибудь да добудем. Не все же здесь такие бедные… Не повезло здесь нам. Нет чтобы поместить в дом побогаче. Сам влез…
Второй голос, растягивая слова, перебил его:
– Давай спать. Впереди еще много всего будет. Твоя Марта тобой останется довольна, вот увидишь.
Голоса смолкли, а на сердце Зоммера стало еще неспокойнее. Что сделают солдаты через минуту, две, через час? А вдруг поднимутся и пойдут сюда, к Соне… Засунув руку в карман, он потрогал ручку ножа, ощупал на остроту лезвие и так, не вынимая руки из кармана, лег рядом с Соней на разостланные по полу вместо постели тряпицы.
Однако ночь прошла спокойно.
Утром немцы напились, кричали песни, изображали танцы… Когда Соня спросила Зоммера, о чем они поют, тот поморщился и ответил, что поют они пошлятину. После завтрака, не одеваясь, гитлеровцы высыпали на крыльцо.
Мать собирала на стол. Соня выскочила из кухни в чулан за хлебом. Через минуту-другую в сенях загремело, падая, ведро. Послышался отчаянный Сонин крик. Зоммер выскочил в коридор. Не вынимая из кармана руки с ножом, двинулся в сени. Видел, как немец-верзила, обхватив, будто мешок, волок из чулана ефрейтора. Зоммер остановился. Потемневшими глазами смотрел на барахтающегося в руках верзилы гитлеровца. Из чулана выскочила Соня. Вытирая слезы, потянула Зоммера в кухню. Верзила говорил ефрейтору, стараясь его успокоить:
– Фюрер послал нас сюда не за тем, чтобы мы проявляли инстинкты низших рас. Ты цивилизованный человек…
Доругивались они в комнате. Зоммер, все время ждавший, что ефрейтор так этого не оставит, прислушивался и наконец понял, что солдаты того уговорили.
Немцы, немного протрезвев, ушли. Вернулись к обеду с узлами. «Видно, кого-то ограбили», – догадалась Соня, а Зоммер, прислушавшись к их болтовне, пояснил: «Залезли в магазин и все сожалеют, что вечером не пошли по городу, так как везде уже до них успели побывать солдаты и им достались крохи».







