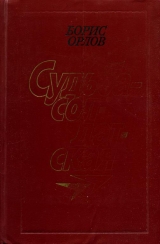
Текст книги "Судьба — солдатская"
Автор книги: Борис Орлов (2)
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 41 страниц)
Глава третья
1
Анохин не торопил Петра и Валю.
Шли по безлюдным, нехоженым местам. Деревни обходили стороной. На ночлег остановились в охотничьей сторожке, срубленной у берега небольшого озера. В найденном под лавкой прокопченном ведре с вмятым боком вскипятили воду и, бросив в нее горсть смородинного листа, стали пить чай, рассевшись на старом бревне почти у самой воды.
Анохин пил из большой, с отбитой по краям эмалью кружки. Пил неторопливо, аппетитно. Кипяток и горячие края посудины обжигали ему губы, и он беспрестанно, прежде чем отхлебнуть, дул на кружку, в кипяток… От Мужика исходило, будя тишину, фырканье, покряхтывание…
Выпив кружку, Анохин налил другую.
Поглядывая на мягко освещенное солнцем озеро с подступившим к его берегам старым еловым лесом, он на минуту о чем-то задумался. Поставив кружку на землю, покрутил пальцами концы своих огромных, как расправленные крылья птицы, усов и проговорил:
– Вспомянулось… в годе так тридцать пятом туто я лосиху подстрелил. А и добра была!
Анохин помотал из стороны в сторону головой. При этом широченная борода его ходила, закрывая то одно, то другое плечо.
Взяв кружку, Мужик снова начал пить. И опять, как с первой кружкой, все повторилось: он кряхтел, дул на горячие края, в кипяток… Увидав низко летевшего над озером лебедя, замер. Следил за полетом большой красивой птицы с каким-то жадным, охотничьим азартом.
– Вот бы на жаркое, – посмеиваясь, сказал ему Петр.
Анохин молчал, пока птица не скрылась за макушками елей. Снова уставившись в кружку, буркнул:
– Лебедя, да еще одного, без пары, вроде бы грех убивать, срамота. – И отпив из кружки глоток: – По-нашему, по-мужичьи, лебедь… он как бы близок к богу. Говорят, жалоба лебедя-вдовца всегда услышана… – Мужик, со значением мотнув на небо бронзовым, с конопатинками, лицом, снова уткнулся в кружку.
Валя, поглядывая на него, улыбалась. Заинтересовавшийся Петр стал расспрашивать Мужика, кого же не грех убивать. Анохин ответил, когда опорожнил кружку. Если по поверьям, сказал он, так и оленя убивать и есть нельзя, так как он полубожественного происхождения, а медведя – потому что он некогда был человеком. Даже петуха и свинью нельзя было есть.
– Получается, – задумчиво проговорил Петр, – если на Сибирь ваши поверья распространить, так там люди с голоду перемрут. Их ведь тайга да реки и кормят!
– В общем, – задумчиво поглядывая туда, где скрылся лебедь, вставила Валя, – не грех убивать только врага. Так? – И вдруг метнула на Анохина лукавый взгляд: – Подождите, как же так? Вы же неверующий?
Анохин помолчал. Глядел, затаив в глазах какую-то мысль, на темнеющий с того берега лес.
– В идолов не верю, – пристально посмотрев на Валю, проговорил он наконец. – А если, скажем, примета сбывается, сон ли… или там болезню заговаривают… – Не досказав мысль, он поднялся с бревна и заключил: – Нет, кажный знае… оно… что-то есть там. – И, выразив в глазах удивление, опять мотнул головой на небо.
Ложились спать молчаливо. Каждый думал кто о чем, а в общем, об этом о н о.
Проснулись, когда солнце уже показывалось из-за леса. Почаевничав, вдруг услышали, как на юго-востоке заговорил фронт. Взволнованно вслушивались в далекую стрельбу.
Петр подошел к берегу и сел на бревно. Подошли и Валя с Анохиным. Тоже сели.
Втроем они молчаливо смотрели в ту сторону, за леса, перелески… Петр не вытерпел, сказал:
– Может, двинут наши?
Анохин почесал под подбородком густую бороду, мудро так посмотрел на Чеботарева и вздохнул:
– Пора бы. Докуда можно?
Когда пошли дальше, канонада еще гремела. Петр поглядывал на поднимающееся впереди солнце и нетерпеливо ждал: вот громче, громче будет слышно стрельбу. «Поотступали, хватит», – успокаивал он себя… Вспомнилось, как отходили с УРа, от Пскова шли… Прислушался снова. И показалось вдруг Петру, что стреляют реже и дальше. Не поверил. Остановившись, прислушивался. Понял: фронт уходит на восток. И когда орудийного грохота стало вовсе не слышно, он нагнал Анохина, хотел уж сказать: хватит, отдохнем, торопиться некуда, – как в десяти шагах от себя услышал голос – властный, по-хозяйски твердый:
– Стой! Руки вверх!
Они не подняли руки. Они бросились на землю, схватившись за оружие. И что бы тут было, неизвестно, если бы в это время тот же голос неестественно так, дрожаще не вымолвил: «Валя! Валюша! Милая, ты ли это?!» – и не поднялся над кустом, выронив из рук винтовку, мужчина.
Валя сразу узнала в нем отца Саши Момойкина, Георгия Николаевича, – по голосу, по кротким, верившим в человеческую доброту глазам, по небольшим усикам. Она поднялась, покраснев, толкая браунинг за пазуху, побежала к нему. Припала. Он гладил ее, вдруг ставшую такой же кроткой и доброй, как и он сам, и смотрел на косу, сбегающую по спине тяжелым, желтовато-серебристым жгутом.
Потом она отстранилась от него – легко, бережно: так могла делать только она.
Георгий Николаевич, радостный – будто нашел то, что искал всю жизнь, – вложил два пальца в рот и сильно, как это умеют делать деревенские мальчишки, свистнул. Свист прокатился по светлому, облитому лучами солнца лесу и замер где-то, услышанный перед этим товарищами.
Вскоре из-за кустов выскочили два парня. Один с немецким автоматом, а другой с винтовкой. Оба молодые, увешанные гранатами всяких систем. Они оглядели пришельцев беглым взглядом и спросили Момойкина:
– Откуда? Кто такие?
– Это Валя… Почти как дочь мне, – смутившись, объяснил он.
– А с ней?
Когда Момойкин познакомил их со всеми, Валя обрадованно произнесла:
– Как хорошо, что вы, Георгий Николаевич, оказались тут!
– Куда лучше! – встрял парень в клетчатой кепке, играя автоматом. – А то бы все могло быть иначе. У нас люди резвые. – И засмеялся, оскалив мелкие зубы.
– Давай-ка, Егор, постой тут, – сказал ему Момойкин. – А я, того, отлучусь. Радость у меня, понимать надо.
Егор остался. Поправив клетчатую кепку, стоял и задумчиво смотрел им вслед – тосковал о житухе в банде.
Вчетвером они шли по еле видимой в густой осоке тропинке. Георгий Николаевич говорил, не сбавляя шага:
– Вы след в след шагайте, а то… мины у нас тут. Для порядка. В сторону – ни-ни… – А метров через сто начал рассказывать о Егоре: – Недавно подобрали. Скитался, бедный… Вот тоже судьба!.. – И вздохнул: – Был, рассказывал нам, в отлучке, когда в деревню пришли немцы… Жену и дочку – совсем девочку – изнасиловали и убили, а потом сожгли вместе с домом… Объявил месть немцам. Автомат сам раздобыл где-то… В лесу мы его встретили… вооруженным уж.
Партизанский отряд, в котором находился Момойкин, расположился среди болот на небольшой, похожей на пятачок сухой полянке, заросшей редкими березами. По опушке стояли немецкие походные палатки, на которых были нарисованы масляной краской красные звезды. Бойцы отдыхали, а командир отряда Пнев сидел перед палаткой и изучал карту. Возле него, как флаг, горела ягодами рябина.
Георгий Николаевич подвел их к командиру. Объяснил: знакомые, идут к фронту. Тот поднялся. Протянул сначала Вале, потом Анохину и, наконец, Петру руку.
– Пнев, – говорил он каждому, пристально вглядываясь веселыми светло-серыми глазами в лица.
Это был человек среднего роста, одетый в галифе и перехваченную в поясе солдатским ремнем гимнастерку с накладными карманами. Длинные, светлые, как лен, волосы Пнев закидывал назад, а в лице его было что-то такое, отчего он казался простым и смелым человеком.
После долгой паузы Пнев заговорил:
– Да, вы опоздали. – Слова он затягивал на гласных, и речь его от этого делалась неторопливой. – Фронт, судя по всему, ушел. Отступили наши. Почти месяц держали гитлеровцев перед городом Лугой, у станции Серебрянка, вдоль реки Луги по созданному в начале войны Лужскому оборонительному поясу. Нечего сказать, силен еще фриц… помотает еще нам кишки. Фронт теперь, наверное, далеко. Лучше всего оставайтесь пока у нас. Разберемся, тогда и решать будем, идти вам дальше или нет.
Чеботарев угрюмо смотрел ему в глаза и молчал. Анохин, разгладив бороду, посоветовал Чеботареву:
– Обратно возвращайтесь, Петр. У нас вы уж обжились да и обстрелялись.
– Ну, нет, товарищ Мужик, не выйдет, – усмехнулся Чеботарев, а потом серьезно добавил: – Я военный. Мне… Я к своим должен двигать. Побуду до выяснения обстановки и двину.
– Выходит, мы не свои тебе? – обиделся Анохин. – Разе мы тебя?.. Как за дитем малым… Срамота! – И, опустив голову, засопел в усищи.
Пнев, чтобы сгладить, видно, возникшую ситуацию, потрогал тщательно выбритый подбородок и обратился к Мужику, не скрывая удивления в голосе:
– Это кто же вас такой кличкой удостоил? Оригинальна.
– Кто? – смутился Анохин и объяснил: – Это мене… Печатник прозывается сам-то. Башка у парня – во-о! – И развел тяжелые, крепкие руки. – Арбуз, а не башка… а сам… маленький, кожа да кости. Одно слово, пигалица.
Пнев улыбался, слушая Анохина. Когда тот смолк, примиряюще сказал:
– Интересный человек этот ваш Печатник. Интересный. – И, прощупывающим взглядом окинув Валю, так, что она даже опустила глаза, заговорил с ней: – Вас мы в целости-сохранности доставим в Лугу, барышня. Но… не раньше, как дней через пять, потому что сейчас, видите, ничего не ясно: наша она или в ней уже гитлеровцы. Поэтому идти сейчас туда рискованно. – Тут он стал объяснять всем: – С Лугой, пока она наша была, связь у нас поддерживалась. Мои ребята туда через фронт частенько ходили… указания получить от райкома, семьи повидать… Теперь вот надо искать истребительный батальон лужан, если она пала. В нем все начальство должно быть. Не знаю: так и должен я своим отрядом жить или присоединиться к батальону?..
От Пнева Георгий Николаевич повел их к своей палатке. Откинув полог, растолкал спящего паренька лет восемнадцати и попросил его:
– Сбегай-ка принеси чего-нибудь поесть. Гости у меня.
Паренек убежал.
Валя оглядела на себе кофту, отцовские брюки, сапоги. Развязав узелок, достала лежавшее под бельем серое платье и, смущаясь, сказала:
– Переоденусь.
Юркнув в палатку, она прикрыла за собой полог. Когда выбралась обратно, все уже сидели кружком прямо перед палаткой. Валя тоже села. Смотрела, как Георгий Николаевич, постелив на землю плащ и вытащив из-за голенища сапога старый кованый нож, ловко нарезает им ровные пластики сала и куски хлеба от пшеничной буханки. Ей представилось, как этим ножом он убил в Залесье Захара Лукьяновича, и ее всю передернуло.
Подошел Пнев. Оглядев «стол», крикнул проходившему бойцу, чтобы тот взял у Непостоянного Начпрода бутылку самогона и принес сюда.
– Надо же встречу отметить.
Вскоре боец вернулся и подал Пневу бутылку самогона. Сам ушел.
Георгий Николаевич взял у Пнева бутылку и стал разливать по стаканам. Пнев в это время говорил Анохину:
– Когда направитесь в свой отряд, пошлю с вами человека. Связь нам друг с другом устанавливать надо. Быть соседями и не дружить – это вроде кустарщины. – Он взял стакан, налитый до половины, и обратился ко всем: – Разрешите! За дорогих гостей, – и опрокинул в себя сивуху, а потом, не закусив, извинился и ушел.
Георгий Николаевич, выпив, долго смотрел на Валю печально и сожалея о чем-то. Наконец произнес, уронив взгляд на кусок сала, которое ковырял своим ножом:
– Что же ты, Валюша, не спросишь, как у меня все это… семья как?
Валя и остальные сразу почувствовали что-то неладное.
Подняли на него вопрошающие глаза.
– Вот так, – сказал он, когда не говорить было уж нельзя. – Умерла моя Надежда Семеновна. – Валя сразу побледнела, а все остальные опустили глаза. – Через это, получилось, и я здесь оказался как бы. А как было дело? Брата я не нашел – в леса убег. Дом их пуст… Заскитались мы. Идем как-то по дороге. Мне приспичило. Пошел я в лесок, а она осталась на краешке дороги. Слышу, машина проехала и крик истошный моей Надежды-то Семеновны. Выскочил, а она по дороге катается, и машина с немцами метрах в стах уж, убегает… Переехали. В жизни играют, сволочи. Нарочно переехали – на дороге след видно было… Вильнули и переехали.
Георгий Николаевич смолк. Внешне он был спокоен. Глаза его – затуманившиеся, грустные – выдавали печаль.
К самогону больше никто не тянулся. Гнетущее состояние охватило всех. Петр вспомнил рассказ Вали о том, как она жила в Залесье. Жалел Георгия Николаевича. Наконец Анохин, разглаживая пальцами усы, промолвил:
– Нанес германец горюшка… Теперича… долго не избыть.
– Вот, – снова заговорил Георгий Николаевич, обращаясь больше к Вале, – похоронил я ее, мою голубушку, значит. Тут и похоронил, у дороги, без обряда. Вот этим ножом и могилу выкопал, – он показал глазами на кованый нож, которым по-прежнему ковырял сало. – Похоронил, а потом сижу и плачу. Думаю: «Права ты была, Валюша. Немцы – вина всему. Кто же боле?» И стало мне жалко Захара Лукьяновича. «Не виновен, – думаю, – ты в кончине Сашеньки… Грех мой». Сижу так, думаю: повеситься али что?.. Кончилось все в жизни моей. А тут вот эти погодились, – и махнул на палатки рукой. – Приняли. Винтовочку выдали. Вот так и получилось… Просветлел я, Валюша, за это время. Много ребята мне хорошего рассказывают. Учат уму-разуму… Открываются мне глаза-то. Правду стал видеть… Мне бы теперь вот того офицера встретить, который над Сашей моим так надругался. – Он замолчал. Дрожащей рукой потянулся к стакану.
Все, не чокаясь, выпили до дна – будто поминали покойника. После этого Георгий Николаевич, как-то наотмашь, всей рукой вытер губы. Сказал:
– Ну, хватит говорить о смерти. – И, чтобы, видно, сгладить у всех впечатление от рассказа о жене, произнес: – Командир у нас хороший. Боевой. И душа у него есть. Всех уважит. Видит каждого насквозь. Передают тут ребята из отряда, образованный будто он, агроном али инжанер там. В Луге, когда еще она не под немцем была, в истребителях ходил, а потом надоело баклуши-то бить. Поругался с начальством да и подался с кучкой ребят из своего взвода через фронт. Оброс здесь… Сейчас нас больше полсотни. Сбились. Разные все. Воры бывшие даже есть. Два человека. Из Струг Красных: когда немец-то взял, повыпускали всех из тюрьмы, ну а эти против немца пошли. Принял. Не побрезговал. Когда я к нему просился, говорит: «Раз осознал, борись. Бороться с нечистью никому не запрещено, всегда похвально…» Совсем недавно восемнадцать карателей постреляли… А этим добром, – и показал на оставшийся в бутылке самогон, – не балует, по норме выдает. Чаще после боя выдает. Армейская, говорит, норма. А я и армейскую не пью – не пристрастился…
Георгий Николаевич рассказал и о доблести Пнева. Чувствовалось: Пнева здесь любят.
На полянке появились бойцы – подходило время обеда. Петр смотрел на них и рассуждал про себя: «Раз такой отряд, то можно даже и остаться пока. С фронтом прояснится, тогда и пойду дальше. Надолго оставаться здесь тоже нельзя…» Уморившиеся – и от дороги и от разговоров – Петр и Валя полезли в палатку спать.
Георгий Николаевич разбудил Петра и Валю, когда перед палаткой опять на том же плаще стояла в ведре, дымясь, картошка в мундире, а рядом в эмалированной миске с верхом розовела жирная баранина. Аппетитно пахла большая краюха ситного хлеба.
– А я ужин успел взять на вас сюда, – говорил Момойкин, пятясь на коленках из палатки. – Повечеряем давайте.
Петр оглядел «стол» и подумал: «Живут сытно».
За палаткой Пнева, через ольшаник, просвечивало озерко. Петр и Валя пошли умыться. Через кусты увидели: правее, на берегу, задумавшись, сидел Пнев и смотрел на застывшее в воде отражение желтеющего леса. Близилась осень. Об этом, возможно, и думал Пнев… Пора была строить и землянки… Когда Петр и Валя умылись, Пнева уже не было.
Вернувшись, Петр увидел на «столе» бутылку с оставшимся самогоном.
– Не будем мы пить, пожалуй, – насупившись, скачал он.
– Ни к чему, – проговорил Момойкин. – Помню, в гражданскую этак у нас одну роту красные до единого, пьяненьких-то, пленили… Смирился, не армия же здесь, да и не пью сам-то.
Анохин осуждающе поглядывал на Петра. Сопел. Когда же стали ужинать, проговорил, давясь горячей картошкой:
– Оно… к такой еде по лафитничку бы и не того, не помеха. – И заискивающе поглядел на Момойкина: – Аль не так?
– Выпили же давеча за встречу, – вмешалась Валя.
Анохин, которому выпить, очевидно, хотелось, но который не мог ронять перед остальными своего достоинства, обратился ко всем уже с такими словами:
– Вот, думаю, интересно русский человек устроен: есть так есть, пить так пить… Ну, не кажный. А почему? Ведь германцы, – и поправился, – гитлеровцы, оне… в меру, чай? Одно слово, образованность.
– Сказал! – перебил его Георгий Николаевич. – Насмотрелся я и на них в Эстонии. Они это свое по глотку да по кусочку, а чужое… До поноса объедаются и опиваются. От жадности у них эта экономия.
– Оно… так, – согласился вдруг Анохин. – Чужое, оно чужое и есть. Его не жалко. Вот и жрут и пьют от пуза…
Разговор о том, как пьют и едят немцы, шел весь остаток ужина. К самогону так и не притронулись. Когда Момойкин убрал со стола, все решили прогуляться к озерку, где уже собирались бойцы отряда.
– Там у нас как бы увеселительное место, – объяснил Момойкин.
– Клуб, выходит, – шутливо добавила Валя и накинула на себя кофту – от воды тянуло сыростью.
Когда они подошли к бойцам, гармонист уже играл «Хаз Булата», а Егор, закинув голову и отсвечивая лысиной, мял в руках старенькую клетчатую кепку и, немного фальшивя, драл звонкий, с переливами голос так, что слова песни далеко разносились по лесу.
Увидав подошедшего Момойкина, Егор вдруг перестал петь, подскочил к Георгию Николаевичу. Схватив его за руку, повел в круг. Кричал гармонисту:
– «Кудеяра», «Кудеяра» давай! Пока не споет, не отпустим!
Петр посматривал на них и тянул Валю в сторону. Думал: «Сдурели… Услышать же могут?! Вдруг где каратели рыщут?»
Войдя в круг, Момойкин скрестил на груди руки и негромко запел мелодичным, низким голосом:
Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр – атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан…
С третьей строки мелодию подхватили голоса и гармошка. Георгий Николаевич в это время не пел: грустный, он кротко смотрел на гармониста, который тихо выводил мелодию.
Когда гармошка и голоса смолкли, Момойкин запел дальше.
Петр и Валя наблюдали.
– У них, наверно, ее каждый вечер поют, – посмеиваясь, сказал Петр.
– В Залесье он ее не пел, – задумчиво проговорила Валя и прижалась к нему. – Странно. Откуда он ее узнал? Ведь это слова Некрасова о двух великих грешниках из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»!
А партизаны уж слушали, как Георгий Николаевич выводил последний куплет – вовсе и не некрасовский:
Бросил своих он товарищей,
Бросил набеги творить.
Сам Кудеяр в монастырь ушел
Богу и людям служить.
В мелодию концевых строк было вложено исполнителем такое чувство, будто ударил где-то далеко-далеко не в полную меру большой колокол и звук его смягчило чем-то, но этот смягченный звук все равно плывет и плывет по уснувшей в безветрии округе, будя мысли, далекие от всего, что заставляет жить, стремиться, мечтать. От этого на Петра повеяло тоской. Казалось: сильная, мужественная натура, не удовлетворившись жизнью, но отметавшись уже, успокаивается, приняв за выход обман, о котором еще не знает.
Спев, Момойкин вышел из круга и направился к Петру с Валей.
Егор резко крикнул:
– А ну, шире круг! – И гармонисту: – Давай фокстрот!
Гармонист заиграл «Катюшу», и к Вале, опередив Момойкина, подбежало сразу несколько бойцов, в том числе и сам Егор. Все они приглашали ее танцевать. Егор, окинув Петра блудливым, убегающим в сторону взором, бесцеремонно схватил Валю за руку и потащил к «пятачку».
Петр, немного растерянный, смотрел им вслед. Остановившийся возле него Момойкин виновато улыбнулся.
– Уж ты прости, – сказал он извинительным тоном, – народ у нас такой. – И перешел на себя: – Вот проголосовали спеть, и подавай (чувствовалось по выговору, что слово «проголосовали» Георгию Николаевичу нравилось). Полюбилась им эта песня, вот и пой!.. А я, по правде, разлюбил ее. В Эстонии пел, грустно было… Вот и пел – тоску заливал. А тут черт надоумил: выпили как-то, ну я и спел раз им… В Эстонии-то, грешный, думал: «Может, правда в монастырь идти? Грехи, может, давят?..» Да все равно в монастырь не ушел бы: кому я там нужен? Ни кола ни двора, а монахам, поди, взнос вносят… Да… А монастырь там был хороший. «Печоры» называется. Возле него я года три назад по найму у одного хуторянина батрачил… Хорош монастырь! Лежит в глубокой балке, обнесен высоченной стеной из камня, на дне балки собор, кельи… Даже казалось, глядя на красоту эту: Кудеяр не иначе в него ушел – уж больно тихое место и отгорожено от мирской жизни чем-то таким невидимым, неземным будто, но и улавливаемым… духом каким улавливаемым ровно…
Петр, совсем перестав слушать Момойкина, ревниво следил, как Валя и Егор танцуют – одни на «пятачке». К парню росло в нем грубое, отталкивающее чувство. Оно вытесняло впечатление от «Кудеяра». И, когда танец кончился и Егор, отвесив Вале что-то вроде поклона, отпустил ее, Петру уже казалось, что этого человека он не перенесет и изобьет когда-нибудь.
Момойкин понял, что Петр его не слушает, и, сославшись на дела, направился к палатке.
Подошедшей с раскрасневшимся, счастливым лицом Валентине Петр вдруг сказал:
– Меня этот Егор удивляет! У него такое горе! Помнишь, Георгий Николаевич рассказывал?.. А он… И «Кудеяр» его не задел, и ничего будто не было с ним, и семьи его фашисты будто не лишили?! – И вовсе грубым голосом: – Понимаешь?.. Что он так веселится? К чему?
– А может, он это… чтоб забыться, – поняв состояние Петра, примиряюще проговорила Валя. – У каждого по-разному переваливает. – И, не умея скрыть радости, игриво посмотрела ему в глаза: – Мне вот тоже весело!
А на «пятачке» Непостоянный Начпрод танцевал уже цыганочку.
Валя, еще возбужденная, разгоряченными глазами улыбчиво посматривала на Непостоянного Начпрода, который лихо выкидывал колено за коленом. Темные, кольцами вьющиеся волосы его, казалось ей, тоже пляшут… Когда коленца получались особенно удачные, бойцы, перекрикивая гармонь, подбадривали его: «Браво, Непостоянный Начпрод!.. Здорово!.. А ну еще крепче, Павлуша!..»
Из круга Непостоянный Начпрод вышел уставший. На его лице, пока танцевал – напряженном, появилась добродушная усмешка.
– Молодец! – сказала Валя и потянула Петра вдоль озерка, к березняку.
– А на мины тут не нарвемся? – уже войдя в березняк, спросил с каким-то холодком в голосе Петр – все еще думал о Егоре, об этом веселье, которое здесь, в партизанском лагере, да еще в такой форме, казалось ему совсем лишним.
Валя прижалась к нему. Ответила почему-то полушепотом:
– Георгий Николаевич сказывал, что мин тут нет. Тут топь непролазная.
– Когда это он успел? – удивился Петр.
– Успел вот, – прижимаясь к Петру еще ближе, игриво ответила Валя и загадочно посмотрела искрящимися от радости глазами ему в лицо.
Петр был отходчив. Егор уже забывался.
Метров через тридцать они остановились перед болотом. Из мертвой, стынущей воды торчали высокие мшистые кочки, похожие на тумбы. Сбоку полоска сухой земли уходила дальше, огибая полудугой кочки. Петр прошел по ней и оказался на островке сухой, поросшей березняком земли, возвышающейся над болотом. Здесь было сухо, мягкий, хрустящий под ногой мох ковром устилал островок.
– Иди сюда, – сказал Петр и сел на мох; на минуту вспомнив о Егоре, простодушно подумал: «А я тоже хорош! И приревновал уж!»
Валя села рядом… Опускались сумерки. Партизаны пели «Ермака»… Валя привалилась плечом к Петру. Сказала, стыдливо уронив голову:
– Знаешь… у нас, наверно, будет… маленький Петрушка. – И уткнулась лицом ему в грудь: – Ты рад?.. Нет?
Петра сразу охватило горячее, никогда еще не испытанное чувство. «Я – отец!» – с жаром подумал он и нежно обнял Валю. Стал целовать – в щеки, в глаза, в губы. Она прижималась к нему, родному…
Было уже совсем темно, когда они собрались идти к палатке.
У озерка еще пели. Но пели теперь совсем незнакомую песню. Георгий Николаевич выводил крепнущим голосом:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Партизаны дружно подхватили припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война!
Песня не то чтобы волновала. Это слово тут даже не подходит. Песня, пронизывая до мурашек всю душу, заставляла подниматься и идти, забыв о себе, обо всем на свете. Идти туда, где кипит бой и где решается судьба Родины. Поэтому хотелось, чтобы песня не кончалась, чтобы она лилась, лилась… Но она кончилась.
– Хорошая песня, – сказала, вздохнув, Валя и встала. – Пойдем-ка давай. Простынем еще. Смотри, как холодно. Как поздней осенью.
Петру не хотелось уходить. Он подал ей руку, а когда горячие Валины пальцы оказались в его ладони, притянул ее, несопротивляющуюся, к себе и стал целовать снова…
Вернулись они уже поздно ночью.
Возле палатки, разговаривая, сидели Георгий Николаевич и Анохин.
– Гуляете все, – сказал ласково Георгий Николаевич, когда Петр и Валя подошли к ним. – А мы пели. Мы всегда по вечерам поем. Любят у нас песню.
– А откуда у вас вот эта – «Вставай, страна огромная…»? – спросил Петр.
– Эта? Когда за фронт ходили, в Лугу. Связник оттуда принес. – И после паузы: – Она мне нравится. В других, которые поем, нет того… как бы это выразиться… ну, не собирают они в человеке силушку в один кулак… а эта вот… собирает. В ней все сказано.
Георгий Николаевич и Анохин полезли в палатку спать, а Петр и Валя долго еще сидели у входа. Вдвоем им было хорошо. Сидели молча. Петр старался представить, как Валя устроится в Луге – городе, который он совершенно не знал. Но одно то, что в нем – гитлеровцы, страшило. Думал и о ребенке. Овладевало непонятное, трепетное состояние. «Я отец… Папа…» – радовался он про себя. Когда уж собрались спать, сказал ей:
– Как ты там будешь?
Валя, видно, думала о том же, потому что сказала:
– Как? Ждать буду тебя. – И поправилась: – Будем ждать.
2
Фронт откатился на восток далеко. Из показаний взятого разведчиками Пнева в плен обер-лейтенанта узнали, что части Красной Армии, оставив Лугу и Кингисепп, отходят к Ленинграду: на Красногвардейск (бывшая Гатчина), Любань… Бои идут будто и под Новгородом.
Узнав об этом, Чеботарев решил на время остаться в отряде Пнева. Анохин же отправился назад, к Морозову. Уходил он не один – с ним шел связной от этого отряда. На прощание Мужик всем до боли в суставах жал железной своей лапищей руки, а Вале, поцеловав ее в щеку, грубовато сказал:
– Думал: опять к беде ты… Ан нет, обошлось, – и, пожелав ей благополучно добраться до Луги, пошел.
Через сутки отправилась и Валя. В провожатые Пнев ей выделил человека надежного – не раз, когда фронт стоял еще перед Лугой, по заданию хаживал в город, где и родился, и рос, и прожил полвека.
Ушли Провожатый и Валя на вечерней зорьке. Петр с Григорием Николаевичем довели их до внешних постов. Валя на прощание обняла сначала Момойкина. Поцеловала троекратно. Потом припала к Петру. Чувствовала, как рука его бережно легла ей на косу, перебирала ее… Он поцеловал Валю в щеки, в губы. Она смотрела ему немигаючи в глаза и старалась улыбаться. Оба они понимали: расстаются, может, навечно… Напоследок она улыбнулась ему и Момойкину и, резко повернувшись, пошла вслед за Провожатым, который терпеливо поджидал ее на тропинке метрах в двадцати. Оглянулась. Помахала им рукой, державшей узелок со скудными пожитками. Снова пошла. Когда опять оглянулась, уже не увидела ни Петра, ни Георгия Николаевича – старая размашистая ель скрыла того и другого.
До сумерек Валя и Провожатый успели выбраться из болотистых, дремучих лесов. Тропа стала пошире. Лес по сторонам стоял не такой глухой, но высокий и темный, оттого что наступала ночь. Когда подходили к лесной опушке, увидали впереди небольшие костры. Провожатый присел. Всматривался в высвеченную огнем темноту.
– Немцы, – уловив долетевшее слово, проронила Валя.
Она почувствовала, как по всему телу прошли мурашки, и положила руку на грудь, где под лифчиком лежал браунинг. Переложила пистолет в карман брюк.
Вынув из-за пояса наган, Провожатый начал тихо пятиться, за ним – Валя. Пошли в обратную сторону. Провожатый все молчал. Только когда свернули, проронил:
– Придется идти в обход.
Этот «обход» был ужасным. Шли через топи, запутывались в непролазных чащах. Валя исцарапала все лицо. Когда к полночи выбрались на сухое место – широкую поляну со стогом сена посредине, она остановилась. Слушала, как рядом тяжело дышал Провожатый.
– Устала? – спросил он и проговорил, как бы объясняя: – Устала, знамо. Люди не каменные. Я вот тоже устал. Километров пятнадцать, считай, позади. – И стал ругать немцев: – Из-за них сколько лишку дали! Теперь день где-то надо будет проводить – не дойдем сегодня-то. – И пошел.
К утру поднялся легкий туман. Он лежал в брезжущих рассветных сумерках по лощинам. Лес тут стал реже. Шли по проселку. Солнце появилось как-то враз. Оранжево-красное, холодное, негреющее, с нечеткими очертаниями, таким оно висело над горизонтом минут десять, а потом вдруг заискрилось, рассыпая по округе холодные, красноватые лучи. Провожатый остановился. Промолвил:
– Все думаю: что тем гитлеровцам надо там? Просто прощупывают или след кто дал?
Немцы от лагеря отряда Пнева стояли далеко. Поэтому Вале и в голову не приходило такое, на что намекал Провожатый. Пристально оглядела она его маленькую, худенькую фигуру, распахнутый ватник, оттопыренные, с гранатами-лимонками, карманы брюк, старую полинявшую кепку, всю усыпанную сверху сухой хвоей. Посмотрела в глаза, почти такие же, как у Георгия Николаевича. Думала: «Старик почти. Совсем устал».
И снова шли.
Остановились они перед изрытым, в воронках, полем, посредине которого пробегал ручей, а с той стороны, уже на гребне, начинался березовый лес.
– Фронт тут проходил. Иди за мной. Мины могут быть, – проговорил Провожатый.
Они спустились к ручью. Перепрыгнули его в узком месте. Провожатый, присев на корточки, стал пригоршнями хватать воду и пить. Когда поднялся, сказал, что здесь передневывать надо.
Он направился к дзоту возле леса. Дзот узкой амбразурой глядел на них из-под изрезанных осколками и пулями веток орешника.
В дзоте были небольшие нары. От входа узкая ломаная траншея уводила куда-то в лес, весь покореженный недавними боями, которые здесь, видно, были жаркими.
Валя посмотрела из блиндажа на лес. Разглядывала через амбразуру местность, раскинувшуюся перед дзотом. Вид открывался такой, будто совсем недавно прошел здесь страшный ураган и все, что мог, сорвал с места, перевернул, растерзал…







