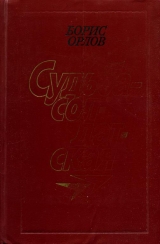
Текст книги "Судьба — солдатская"
Автор книги: Борис Орлов (2)
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 41 страниц)
– Ничего я не забыл, – обиделся Чеботарев. – Только… только я… не буду! Я боец, воин Красной Армии, а не бандит, и живу по законам советским, а не бандитским, как гитлеровцы.
– Вот, вот… я же, выходит у тебя, по их… – с холодной иронией произнес Батя и, приказав обозу двигаться, наставнически объяснил: – И я, и партизаны – все мы живем по советским законам. Быть жестоким к врагу нас вынуждает необходимость.
О Чеботареве и раненом немце Батя будто забыл: молча провожая следовавшие мимо фургоны, вспоминал он Лугу. Родной домишко привиделся ему: представилось, как распахнул наружную дверь и вошел в узенький коридорчик… Неторопливо вошел в свой дом Батя – привык входить так… Обычно из кухни бежала его встречать жена. И не знал он, благодарный за все ей, чего больше в ней – послушности ли, любви ли к нему или просто человеческой доброты… «Да-а, – подумал Батя, вздохнув таким глубоким вздохом, что услышал Чеботарев, поджидавший в сторонке фургон, которым правил, идя сбоку и подергивая вожжами, Момойкин. – Холодно стало у нас в квартире, голубушка…» А как умела жена встречать его! Знал: случись бы наяву это, захлопотала бы, забегала, чайник побежала бы ставить… Всему виной – гитлеровцы. «А как они с ней беспощадно расправились, выпытывая, где я прячусь…» Да, никогда уж теперь не выйти ей к нему навстречу, и слова от нее не услышать больше…
Батя посмотрел на фургон с раненым немцем, который был от него уже недалеко, и мысленно проговорил как приговор, вложив в слова всю свою ненависть к гитлеровцам: «Смерть вам! Смерть! Смерть, пока вы топчете нашу землю, истязаете наш народ!» Но той лютой злобы, которая делает человека на какое-то время кровожадней зверя, у Бати к раненому немцу не возникло, хотя сердце было налито болью, – он пекся не о личном отмщении – за себя, за свою разрушенную гитлеровцами семью. Решая так, он думал о том, что принесли гитлеровцы, а с ними и этот немец, советскому народу, России, всему Советскому Союзу. Для Бати, коммуниста с времен гражданской войны, немецкие захватчики выглядели врагами, которым не может быть пощады, потому что посягнули они на самое святое, для чего он жил, на счастье советского народа, на его мечты о завтрашнем светлом коммунистическом дне, претворению которых он, Батя, не только радовался, но и отдавал этому делу всю свою страсть, все силы. В эти минуты ему, Бате, даже казалось, что то возмездие, на которое обрек он своею волей командира и этого немца, раненного, и тех, лежавших сейчас там, вдоль лесной дороги, – мягким, недостаточным, а выходка Чеботарева показалась прямо мальчишеством, вульгарным пониманием, как он сформулировал про себя, пролетарского гуманизма…
Поравнявшись с Батей, Момойкин мотнул головой на фургон и спросил простуженным, скрипучим голосом:
– Ну как?.. Или на обмен, может, его держать?
– На обмен! – нехорошо прыснул смехом Батя. – Да вы с Чеботаревым что, белены объелись? – И сказал подошедшей медсестре отряда Насте: – Ишь, видала, какие цыганы у нас завелись!
Чеботарев, смолчав, пошел рядом с фургоном. Заковылял по обочине и Батя – говорил, насупив брови и зорко рассматривая лес впереди обоза:
– На кого нам их обменивать-то? Да и кто менять будет?.. Мы их, разбойников, к нам не звали. Они – враги наши, и жалости к ним у нас не может быть, покуда хоть один из них топчет нашу землю. – Сделав паузу, он приказал не отстававшей от него Насте: – Бери у Момойкина вожжи и лезь в фургон. Приведи этого немца в чувство… Чтоб заговорил. Допросить надо… А вы, – он посмотрел на Чеботарева и Георгия Николаевича, – со мной.
Втроем они направились вдоль обоза, «голова» которого уже сворачивала на выбегающую из леса широкую тропу. Когда подошли туда, из-за ели появился крестьянин. Батя подозвал к себе командира отделения, выделенного для охраны обоза, «придал» ему Чеботарева с Момойкиным и приказал: когда обоз скроется в лесу, на выходе тропу замаскировать. После этого он пошел было с крестьянином дальше, за обозом, но потом вернулся.
– Помогу, – сказал Батя не отходившему от него крестьянину. – Получше надо замаскировать, а то вдруг Ефимову не удалось с теми расправиться. Ведь тогда гитлеровцы сразу начнут обоз искать и обнаружат след.
Когда хвост обоза исчез в лесу, затоптали колеи от фургонов, набросали на растоптанную лошадиными копытами землю старые, полусгнившие листья. Маленьким топориком бойцы срубили в стороне мохнатую ель и накрыли ею место, где тропа выбегала на проселок. Управились минут за десять. Чеботарев, поглядывая на Батю, думал: «Хитер. Это не Пнев, с таким не пропадешь».
Стали догонять обоз.
Углубляясь по тропе в лес, Батя тихо, с нотками суровости в голосе говорил крестьянину:
– Обрадуй сельчан: обоз, мол, отбили… Так что скопленные для нас продукты пусть поприберегут. Не нам, так им самим пригодятся – вон как немцы-то их обобрали, весь урожай под корешок свезли на станцию. В Германию, наверно, отправлять будут…
Дальше Чеботарев не слушал его.
Тропа вывела на взгорок, поросший березой и кое-где елью. Повстречав трех бойцов, свернули с тропы и пошли за ними. Когда отлогий спуск кончился, под ногами стала видна, колея от фургонов. Батя будто не замечал Чеботарева, и тот задумался. Кто прав, он или Батя?
Жалости к немцам-оккупантам Чеботарев тоже не испытывал. Кроме того, что о жестокости гитлеровцев писали в газетах, которые читал он, находясь еще в своей роте, и рассказывали очевидцы, были у него и другие факты. Петр помнил, как на его глазах прикончили Закобуню. Не забывалась и казнь самого – острые комелечки на ели при воспоминании об этом так и жгли спину, врезаясь в тело, словно зубья раскаленной бороны. Ненависть к захватчикам была чувством естественным. В бою нет места для размышлений – в бою надо упредить врага, всадить в него очередь, что и делал Чеботарев, так как его этому учили на срочной. Но здесь пленный, безоружный враг…
И Чеботарев решил: пусть Батя поступает как хочет. «Собственно, какое я имею отношение к этому немцу? Не добил в бою, и только. А лежачих – не бьют. Поэтому и сейчас я поступаю по справедливости, а это главное», – думал Петр.
Но что-то говорило Чеботареву, что он не во всем и прав. Это вывело его чуток из себя. «Не расстреливать бы вас, паскудников, – рассудил тут Петр, – а так же, к ели, на вечерок… да чтоб комелечки… Только не сможем мы так – воспитаны по-другому».
Это Чеботарев начинал уже оправдывать Батю. «Конечно, куда ему деть этого немца, – размышлял он, посматривая в покачивающуюся в такт шагу Батину спину. – И отпустить нельзя – он же враг. Гитлеровцы его подлечат, и он может еще не одного из нас поубивать».
Батя, почувствовав на себе взгляд, обернулся, и, приотставая, поравнялся с Чеботаревым. Сказал, не сумев скрыть радости, – забыл уж, видно, о выходке Петра:
– Устали? Ничего, теперь сыты будем. Партизанского шашлычка отведаем – конины-то вон сколько! – И, увидав бечевкой стянутую на Чеботареве фуфайку, кивнул головой на фургон: – Ремень возьми у немца – он теперь ему не нужен будет.
– Обойдусь, – проговорил Петр, подумав про себя, что немца все-таки расстреляют, и добавил: – Берите, если вам нужно.
Бате реплика его не понравилась, и он с ехидством в голосе бросил:
– Да уж что и говорить, ты не мы – кадровый, полпред от Красной Армии… только без мандата и формы.
Его распирала обида. Он прибавил шагу и, от волнения выказывая, свою хромоту, нагнал крестьянина. Когда головной фургон подъехал к небольшой заболоченной впадине, раздраженно крикнул, чтобы возле нее останавливались, – на отдых.
Фургоны сгрудились на поляне перед впадиной.
Настю с раненым немцем облепляли бойцы. К ним направился и Батя со своей группой. Ветерок донес оттуда чей-то громко и злобно заданный вопрос:
– Милосердная, чем это он заслужил такое милосердие?
– В болото головой его надо! – крикнул кто-то.
– И с голым задом – без штанов…
Настя, не обращая внимания на реплики бойцов отряда, припала ухом к груди немца. Вслушивалась.
– Старайся, старайся, – негромко проронил подошедший к фургону Батя, и было непонятно – одобряет он ее усердие или нет.
– Умер он, – подняв голову, сообщила Настя, и в голосе ее никто не услышал ни сострадания к тому, что скончался человек, ни радости, поскольку умер враг.
Чеботарев Настино известие принял холодно – думал о Батиной реплике. «К фронту надо идти, вот что, дорогой Петро, – с тоской в душе заключил он. – И другие партизаны, пожалуй, так же обо мне думают. Конечно, так. Там Красная Армия кровью истекает, сражаясь с до зубов вооруженным врагом, а я тут… в обозников постреливаю». Его взгляд встретился на какую-то долю секунды с Батиным, и Петр понял правильность принятого решения.
Чеботарев отошел немного в сторону, к Момойкину. Весь углубленный в раздумья о себе, своей солдатской доле, безразлично глядел, как два дюжих партизана сбросили труп немца на землю, потом оттащили к заболоченной впадине и, взяв за руки и ноги, стали раскачивать, чтобы забросить подальше в холодную, непрогреваемую солнцем тинистую воду. Петр отвернулся и, посматривая на суровый, стеной ставший перед поляной лес, ждал, когда труп шлепнется в воду, и, когда он шлепнулся, почему-то вздрогнул.
«Что ж, он, этот немец… сам за этим пришел к нам… – подумал Чеботарев. – Кто их приглашал в Россию?.. Незваными пришли».
У впадинки Батя поднял валявшийся рядом с обмундированием ремень. Повертев его в руках, будто оценивая, зашагал к Петру с Момойкиным. Подойдя, миролюбиво сказал:
– Держи, Чеботарев. Партизану негоже веревкой обвязываться.
Заниматься шашлыками у заболоченной впадины не стали. Ушли.
Виляя по лесу, запутывали следы. Продравшись сквозь ольшаник, оказались перед озерками. Остановились. Выставили посты. Жгли сухой хворост, чтобы не было дыму. Пекли в углях картошку. Заколов лошадь, жарили на углях конское мясо – Батины шашлыки. Заваривали в кипятке муку… Наелись до отвала. Когда собрались дальше, Батя простился с крестьянином. Он долго жал ему руку и что-то говорил в напутствие. Потом крестьянин направился в одну сторону, а Батя с бойцами и обозом – в другую, к лагерю. Возле Петра устало брела, опустив скуластое, некрасивое лицо, медсестра Настя. Он взял у нее винтовку. Глянул на отяжелевших от пищи бойцов, которые шли, как кони – а кони медленно переставляли ноги и, упираясь копытами в замшелую тропу, с трудом тянули тяжелые, хряснущие в торфянике фургоны.
2
После расправы с полицаями деревушка совсем будто вымерла. Сначала ждали, что вот нагрянут гитлеровцы. С утра до вечера то и дело поглядывали на взлобок из окон своих изб… Матрена не раз порывалась уйти вслед за мужиками и Валей: после гибели Чернушки ничто, кроме того, что надо шить партизанам зимнюю одежду, больше не удерживало. Ей часто мерещилось, что вот приедут с дознанием, кто убил… Но никто не приезжал, и черная тень страха медленно угасала в ее глазах. В душе появлялась робкая надежда на милость судьбы. Но все равно, неуютно стало, пусто. Только швейная машина, набрав прежний темп, в две смены – за троих, круглосуточно выстукивала одну и ту же песню. За работой забывалось горе, легче как-то дышалось, терпимей была усталость в теле. Не останавливая машину, Матрена часто и подолгу разговаривала – неторопливо, через паузы – с Варварой Алексеевной, которая после ухода Вали в лес стала мало спать, в глазах ее появилась тоска, а лицо совсем высохло и на нем обозначились крупные, как надрезы, морщины. Разговоры между ними велись бабьи: каждая о своей семье пеклась, каждая о своем горе убивалась. И много-много оказалось у них общего: будто и судьба была одна.
Как-то перед полднем к ним зашел связной от лужских партизан. Направлялся он в Лугу. Матрена, узнав, что он вернется обратно, к своим, побежала за Валей.
Возвратилась она из лесу к вечеру. С Валей.
Связной сидел за кухонным столом и ел. Валя, сбросив фуфайку, подошла к партизану. Поздоровавшись с ним за руку, прижалась спиной к теплой стенке печи и спросила, стараясь говорить спокойнее, не выдавая волнения, как там, у лужан.
Связной оторвался от эмалированной миски с картошкой в мундире и ответил, что трудней им сейчас, но руки не складывают.
– А об отряде Пнева там ничего не слышно? – вырвалось у нее.
Связной перестал есть. Посмотрел на Валю и через минуту сказал, понизив голос:
– Погиб отряд Пнева. Вы разве не слышали? Давненько уж. Провокатор будто выдал.
Валя крепко зажмурилась. Простонало в ней: «Петенька!..» Открыв тут же глаза, она смотрела в миску с картошкой. Удержавшись каким-то образом от слез, вымолвила:
– Как?! Весь отряд? – а губы дрожали теперь сильно, и не было мочи унять эту дрожь.
Связной, догадавшись, видно, в чем дело, насупился, голова его низко склонилась над миской.
– Те, которые спаслись, у нас… – тихо заговорил он.
Но Валя его уже не слушала и этих слов не слышала. Медленно отделившись от печи, шла она в боковушку. Почему шла туда, не знала. В боковушке бросилась плашмя на голый топчан. Не хватало воздуху. Вышла на крыльцо. Вспомнился Непостоянный Начпрод – таким, каким видела она его на телеге с убитыми гитлеровцами. Провожатый вспомнился. Петра видела… Шептала, глядя в поле полными слез глазами: «Что же это?! – и, опять подумав о Провожатом, неожиданно решила, что он это и выдал отряд немцам. Обращаясь к нему, с ненавистью проговорила вслух:
– Гадюка ты, казнить тебя мало. Нет казни на тебя.
Почувствовав нехорошее, Валина мать бросила шить и вышла к дочери. Ничего не понимала. Шамкала губами, намереваясь что-то сказать. Валя подумала: «Хорошо, что не заревела», – и тут, уткнувшись матери в грудь, зарыдала.
Мать вымолвила:
– Неладно что? – и положила дочери на плечо руку.
– Так… – вытирая слезы, ответила Валя и сняла ее руку. – Просто… да нет, глупость.
Она пошла в избу. Тихонько, чтобы не услыхала мать с Матреной, попросила связного описать ей тех пневцев, которые спаслись. Связной развел руками.
– Я и не видел их, – так же негромко, почти полушепотом ответил он. – Разве всех увидишь? У нас людей-то вон сколько!.. Говорили – не то трое, не то поболе будто спаслось.
Узнав от связного, что после выполнения задания он вернется к лужанам, Валя упросила его на обратном пути зайти сюда, за ней.
– Вы только не забудьте, – с мольбой в голосе тихонько сказала она ему. А сама уже думала о том, что, попав к партизанам, разыщет тех, кто спасся, и все узнает о Петре, потом же… В эти минуты она верила, что Петр погиб, потому что подумала: «Он смелый, убегать не станет»; и ей хотелось, страшно хотелось отомстить гитлеровцам лютой местью за смерть своего любимого, и она мысленно грозно выкрикнула: «Винтовку потребую… Ни одного фашиста не пощажу! Буду убивать их как паршивых собак!»
Связной, поужинав и чуток отдохнув, уходил. В сенях он проверил в парабеллуме патроны и сунул его под пояс брюк. Гранату-лимонку из кармана переложил за пазуху, под полушубок. Нахлобучив на голову заячий треух, попрощался и ушел.
Варвара Алексеевна все-таки узнала потом от Матрены, почему Валя плакала. И, выбрав минуту, она сказала дочери глухим, не похожим на свой, голосом:
– Поспи… Слезами горю не поможешь. Если что случилось, так случилось.
Валя в это время машинально переплетала косу.
Ее уложили спать. Отвернувшись к стене, она слушала, как мерно постукивает рядышком машина. Работала Матрена. Варвара Алексеевна, забравшись на печь, отдыхала – с полночи начиналась ее смена.
Валя не заметила, как уснула. Спала она тревожно. Изредка что-то шептала губами. Проснулась часа через четыре. Открыв глаза, смотрела, как Матрена проворно шьет из плательного, с большими желтыми цветами по зеленому фону, ситца рукав фуфайки.
Валя поднялась. Оделась. Подошла к Матрене. Чувствовала, как влажнеют глаза. Проговорила, чтобы только что-то сказать:
– Сатин-то весь кончился? – хотя знала: кончился.
Матрена глянула на нее.
– Выспалась? – вместо ответа спросила хозяйка.
Валя прошептала:
– Что же это такое? – имела в виду гибель отряда Пнева и смерть Петра.
– Ты успокойся, – догадываясь, о чем это она, тихо сказала Матрена. – Успокойся.
– Мне не успокоиться, – Валины губы мелко задрожали, – пока все не узнаю о Пете… – Из глаз ее ручьем побежали слезы. – Вот вернется связник, и пойду с ним.
Матрена молчала – прошивала шов.
– Когда у меня муж умер, – заговорила наконец она задумчиво, – мне в колодец хотелось броситься. Подойду, бывало, к срубу-то и гляжу все вниз. А там… теменью отдает… вода-то как смола… и лицо свое вижу. Смотрю этак на себя, и страшно мне становится… Отойду от колодца-то и думаю: «Может, повеситься?.. или угару напустить – еще легче…» Но так и не наложила на себя руки-то… Ничего вот, живу.
По Валиным щекам катились слезы. На белой коже высокого лба обозначились неглубокие, но такие же, как у отца ее, Спиридона Ильича, складки. Матрена уж снова прошила шов и принялась метать. Валя вымолвила, поглядев на печь:
– А что вы будете делать, когда все сошьете?
– Я-то? – удивилась Матрена. – Как что? Так и буду. Жить буду. Дождусь весны, огород посажу, посею… Вот, может, придет мой из лесу, – и вздохнула, – решит, что мне делать. Может, с собой возьмет, а может… Я – баба: что мужик скажет, то и делать буду… Да с собой он вряд ли возьмет – одна помеха.
Валя, смахнув с глаз слезы, вышла в сени и умылась. Ночь была студеная и тихая. Вернувшись, упросила Матрену ложиться спать, а сама села за машину. Изредка, отрываясь от дела, поднимала голову. Взгляд замирал на окне, плотно закрытом с наружной стороны ставнями. Думала: зайдет ли за ней связной? И примут ли? Удастся ли узнать что-нибудь о Петре? Никак не хотелось верить, что он мертв… Старалась представить, что станет делать мать, когда узнает о ее решении… Много разных вопросов встало перед ней, и ни на один из них она не могла толком ответить.
За полночь проснулась Варвара Алексеевна. Одевшись, она сползла, нащупывая босой ногой скамейку возле печи, вниз. Проворчала, увидав за машиной Валю:
– А что Матрена меня не подняла? Уговор же был.
Валя уступила ей место. Поглядывала, сбоку, как ловко она шьет. Осторожно подбирая слова, объяснила, что собирается уходить в партизаны, к лужанам. Ждала: вот-вот мать сорвется. Собиралась решительно возражать. Добавила, думая этим окончательно обезоружить ее:
– Мы ведь с Петром не просто… – и чуть смутилась. – В положении я. Муж он мне…
Мать на мгновение перестала шить. Как-то ниже склонилась над столом ее голова – будто кто враз придавил… И машина будто не так ровно начала постукивать… Закончив шов, Варвара Алексеевна остановила машину за колесо. Промолвила голосом, который Валя не узнала:
– То-то я и подмечаю: от всего воротишься, к соленому тянешься. – Она смолкла; собравшись с мыслями, заговорила потвердевшим голосом: – Что я скажу? Раз так вышло… я тебе мать. Жалко мне тебя – не со стороны свалилась, не чужая. Там Данило с Евгением где-то мыкают. Тут ты… Силком не удержишь… Что ж, смотри. Он тебе муж. Думай, как лучше: ты теперь не маленькая, да и у вас… своя семья.
Она опять принялась шить. Валя, успокоенная, что все обошлось без слез, легонько прислонилась к материнскому плечу. Казалось, слышит, как торопливо бьется ее сердце. Хотелось сказать что-то нежное, ласковое. И не находила таких слов, которые могли бы заменить собою это прикосновение.
– Не ластись – не понимала бы, так разве… дала согласие? – прострочив шов, не оборачиваясь, заговорила мать снова. – Многие люди за винтовки берутся… А женитьба эта ваша, скажу прямо, все-таки ни к чему. Сдурели оба. И ребенок… – Голос ее мягчел, в нем появлялась материнская понятная доброта и рассудительность, – думать головой надо, война идет. А вдруг и правда… – Она, наверное, хотела сказать «погиб он», но не сказала. – Кому ты нужна будешь такая-то?.. Подумала бы, сколько таких, как Петр, головы складывают. А потом, там, в лесах, чай, не родильный дом.
– Если Петр и погиб, – тяжело вздохнув, проговорила дочь, – что ж, судьба, значит, такая моя. Теперь не воротишь, мам. А ребенок… что ж, выкормлю.
– Знамо, выкормим.
С минуту, а то и больше, они обе молчали. Потом Варвара Алексеевна заговорила, начав с того, что коростой, видать, легло у нее на сердце.
– Такая, наверно, у нас судьба, – слышался Вале ворчливый ее голос. – Сколько помню себя, все воюет с нами кто-то, все топчут землю-матушку, кровью заливают… Или им своей земли мало? Горе одно несут, горе да слезы… А проку нет: одинаково побежденные оказываются… те, кто пришел-то. Не понять мне, или народ у нас такой самонравный, как твой отец… да и ты… А Данилу взять? Что его в Казахстан-то этот потянуло? А теперь, поди, как Евгений, за винтовку взялся. Знамо. Разве сдержаться, когда такая напасть… Вон ведь германец пер как! Такую махину не враз вспять повернешь…
3
Не везде операции лужан проходили удачно и имели успех. Те, кто ходил к северу, на дорогу Толмачево – Осьмино, столкнулись с крупными силами полевой жандармерии. Удачней сложились дела на дороге Луга – Ляды. Здесь удары партизан были настолько ощутимы, что немцы на время вынуждены были вывозить награбленный хлеб через Струги Красные, что намного удлиняло путь.
И гитлеровцы по-настоящему зашевелились. На дорогах, несмотря на ненастье и распутицу, появились карательные отряды. Им на помощь были брошены регулярные воинские части. Гитлеровцы разъезжали большими группами, в машинах и на конях… Они рыскали по проселкам, заглядывали на хутора и к лесничим, устраивали засады на лесных тропах.
И действия партизан усложнились.
Оккупанты потянули на деревенские площади народ. Запылали избы. На глазах у согнанных крестьян расстреливались заложники. Но, ничего так и не добившись, гитлеровцы уезжали. Такого еще не бывало в этих краях.
К лужанам, которые, несмотря ни на что, продолжали проводить операции против гитлеровцев, потянулись из окрестных деревень мужики. До крайней точки озлобленные на оккупантов, они потрясали дробовиками, а кто успел запастись немецким – и автоматами, винтовками. Слезно умоляли принять их к себе. Клялись бить непрошеных гостей, не щадя живота своего. Как-то, к вечеру, в отряд Бати пришел и тот крестьянин, который навел тогда партизан на немецкий обоз. Вид у него был растерянный. Он долго рассказывал о бесчинствах гитлеровцев. Помолчит и снова заговорит, припомнив что-нибудь. Петр послушал его и ушел в шалаш. Сидел, свернув ноги калачиком. Размышлял обо всем. О Вале. Полк свой вспомнил. Не мог представить, вышел ли к своим. Как живые, возникли перед глазами однополчане и не уходили: и казалось уж, что, как он, вот так же ведут они где-нибудь партизанскую борьбу с врагом.
В шалаш забрался Момойкин. Разрыхлив сено, он лег. Посматривал на Петра и о чем-то думал. Стал жевать, выдернув из стенки, прутик. Кончики его темных усов, которые пора было бы и подстричь, шевелились.
На сердце у Петра, как говорится, скребли кошки.
Он выбрался из шалаша. Постоял. Затянул потуже ремнем фуфайку. Поглядел поверх деревьев на хмурое, нахохлившееся небо, такое низкое-низкое, что протяни, кажется, руку – и достанешь до него.
Справа, за шалашом, у ольшаника, на раскатанных бревнах – остались от лесорубов еще – сидели парни и девчата – бойцы отряда. Петр посмотрел на них и пошел к дубу напротив своего шалаша. «Нелюдим я, – упрекнул он себя. – Вот Зоммер бы к ним подошел и сразу в компанию затесался… Умел рубахой-парнем быть. Умел, гадина». И полезло в голову обидное: ни в отряде Морозова, ни у Пнева не вошел он, Петр, как следует в коллектив, а все из-за проклятой своей стеснительности, из-за неумения сразу сродниться с людьми. «Везде, получалось, был временным как бы среди бойцов», – уже садясь возле дуба на принесенный кем-то сюда чурбан, выговаривал себе Петр.
Из штаба батальона возвращались Батя и комиссар Ефимов. Командир прошел к дежурному по лагерю, а Ефимов свернул в шалаш к Момойкину. Сказав там что-то или передав Момойкину, он направился к бойцам у бревен. Тут же из шалаша показалась голова Момойкина. Оглядевшись, он выполз на четвереньках наружу, поднялся и зашагал к Петру.
– Вот. Письмо тебе, – подойдя, сказал он, немного волнуясь, и протянул Петру треугольником свернутый лист из школьной тетради.
Чеботарев не поверил, что ему… письмо. Взяв кончиками пальцев треугольник – первое военное письмо, он слушал, как бьется сердце, тревожно, зябко. Прочитав написанные карандашом слова «Петру Чеботареву, передать через Пнева», сразу узнал Валин почерк.
Георгий Николаевич настороженно ждал, когда Петр развернет письмо, а тот мешкал. Наконец он развернул его. Взгляд впился в слова, полз по строчкам. И по мере того как Петр вчитывался в письмо, глаза его теплели. Вместе с этим мягчело и лицо Георгия Николаевича, сама собой проходила тревога, сердце заполнялось радостью.
Валя писала – торопливо, простым карандашом:
«Мой дорогой, мой родной, мой единственный, мой Петечка! Погодились люди, которые пойдут в ваши края. Хочется, чтобы ты получил эту весточку. Если с папой есть связь, то передай ему от меня поклон. До города я не дошла, живу в одной деревушке. О человеке, который вел меня, ничего не знаю. Жду, когда он вернется из города. Когда шли к этой деревушке, видела в лесу Зоммера. Эта тварь нас не заметила. Шел он увешанный оружием. Видно, гитлеровцы послали его выслеживать партизан. Смотри там. Бдительней будь – вдруг он к вам придет! Обо мне не беспокойся. Я устроена хорошо. Тут мне и работа нашлась, близкая к вашей. Беспокоюсь за тебя. Береги себя. За меня не беспокойся. Я всегда о тебе помню. Часто вижу тебя во сне. Один раз видела даже у Солодежни – помнишь, где ты меня… А то, что я тебе говорила, правда: у нас будет малюсенькая крошка. Мне порой кажется, что она уже большая.
Ну, все. Д о с в и д а н и я. Тысячу раз целую. Твоя до конца и на всю жизнь Валюша. До встречи. Не скучай обо мне шибко – со мной ничего не стрясется. Может, скоро и встретимся. Еще бесконечное число раз целую, и за себя и за нашу будущую малютку».
На глаза Петра набежали слезы. Письмо плыло в радужных переливающихся кругах. Стараясь представить, что делает там Валя, он начал догадываться, что она оказалась в подпольной группе. «Конечно, – тут же утвердился он в этой мысли, – к чему иначе намеки эти?»
Ему было и хорошо: все-таки весточка – нежданная радость; и тревожно: что у Вали за работа, куда она попала… Гордость брала: в одном строю с ним идет! И боль: «Все может враз оборваться, Валюша: твой неверный шаг или товарищей – и… тут и конец нашему счастью». И Петр, насупив брови, стал думать о Зоммере. Всем телом ощутил, как врезаются в спину, когда его, Петра, притягивали к ели, смолистые, в занозах и шипах после гитлеровского тесака комельки от веток… «Врагов, гитлеровцев, надо просто убивать, а таких, как Зоммер, прихвостней расстреливать и просто убивать – мало. Их четвертовать надо…» – вздыхал Петр.
Момойкин тянул руку к письму. Петр отдал.
Георгий Николаевич сначала долго смотрел на листок, вертел его в руках, а потом стал водить пальцем по строчкам. Кое-как разбирал почерк.
Возвращая письмо Петру, Момойкин сказал:
– А письмо-то давно писано. Видел число под ним какое? Мы еще у Пнева были в то время. – И, вспомнив, наверное, свою семью, так вздохнул, будто оборвалось внутри что-то. – Дай бог ей всего хорошего. Золотая она у тебя. Береги ее, не теряй. – После этого он помолчал, а потом выдавил: – Нет у меня теперь родней ее никого на всем белом свете.
У бревен собирался отряд. Момойкин потянул Петра за рукав.
– Пошли, – говорил он. – Радость радостью, а там, у бревен, что-то будет.
Комиссар Ефимов, мешковатый, невысокий человек лет под полсотню, когда-то, видно, крепкого телосложения, а теперь дряблый астматик, потягивал козью ножку длиной в палец и простодушно смотрел на подходивших бойцов. Когда люди уселись на бревна, он стал говорить.
Оказалось, из Луги принесли вести о положении на фронте. Они подтвердили показания схваченного на днях гитлеровского офицера.
Не так уж утешительны были эти вести. Повсюду наши войска отходили на восток. Оставлялись города, области. Немецкие полчища рвались к сердцу Родины – к Москве. Все туже стягивали они кольцо блокады вокруг колыбели нашей революции – города Ленина – Ленинграда (бои шли будто где-то под Красногвардейском). Пал Новгород. На юге фронт остановился где-то перед Воронежем, Харьковом и Ростовом-на-Дону… Глаза бойцов наливались кровью, лица каменели. Но Чеботарев по себе догадывался, о чем они думали: эти суровые вести давали им и надежду, прибавляли в них силы, потому что, получалось, Красная Армия вовсе не разбита, как уверяют гитлеровцы, а дерется с ними не на жизнь, а на смерть, и советский народ совсем не намерен складывать перед гитлеровцами руки.
Воздух с шумом разрезал ястреб-тетеревятник. Ефимов посмотрел вслед птице. Мял в руках шапку. Его высокий лоб покрылся морщинами почти до лысины. Через минуту комиссар тихо проговорил:
– Головы вешать не будем, товарищи. Теперь нам уже ясно, что значит внезапность для хода войны. – И громче, уверенно: – Нападение на нас гитлеровской Германии в моем представлении выглядит как наскок зарвавшегося бандита на сильного, не ожидавшего удара человека. Бандит имеет опыт и бьет сразу под ложечку. У его противника захватывает дыхание. И пока-то человек опомнится от первого удара! А удары, не такие уже, конечно, продолжают сыпаться на него. И приходится ему, пока не отдышится, сначала только пятиться под ударами этого гада, потом переходить к активной защите. И, лишь оправившись от первого удара, начинает он давать настоящую сдачу и в конце концов побеждает. – Ефимов оглядел бойцов. Заметив по их лицам, что они его поняли, продолжил: – Так что Россия выстоит. Надо помнить, как ответил русский посол Наполеону в Париже, когда тот перед своим походом на нас спросил его: «По какой дороге лучше идти к Москве?» Посол так ответил Бонапарту: «В сию Москву есть множество дорог. Вот, например, Карл XII шел через Полтаву». – Партизаны улыбались. Замолчавший на минуту Ефимов в ответ на их улыбки тоже улыбнулся. Улыбки эти были, правда, грустные, но все же это были улыбки. – Так что… вот… – услышал Чеботарев голос комиссара, в котором появились металлические нотки. – Нам остается лишь добавить: и через Бородино дорога не лучше!
Дальше Ефимов начал рассказывать о смысле воззвания Ворошилова и Жданова к осажденным трудящимся Ленинграда. Закончил он так:
– Выходит, наша задача сейчас – блокировать пути подвоза гитлеровцами к фронту живой силы и боеприпасов. Пусть злобствуют. Это только приблизит их крах.







