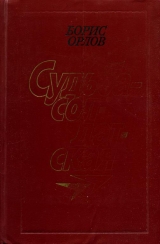
Текст книги "Судьба — солдатская"
Автор книги: Борис Орлов (2)
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 41 страниц)
Глава третья
Утомительной пыльной дороге, казалось, не будет конца. Ноги переступали машинально, а она вилась с пригорка на пригорок, из ложбины в ложбину, бежала через густые вековые леса, через древние, не помнящие своего основателя и истории своей деревушки и все уводила на север, восточнее Гдова. Чеботареву уж четвертый раз пришла очередь нести станину от «максима», а привала и не думали делать. Торопились: огромная масса людей, разделенная на батальонные и ротные колонны с головной, тыловой и боковыми походными заставами, двигалась на северо-восток, чтобы где-то вновь занять оборону и насмерть биться с сильным, не выдохшимся еще противником. Связь с другими частями, оборонявшими УР, а потом занявшими оборону на реке Черехе к юго-востоку от Пскова и восточнее города, была потеряна, потому что прорвавшие оборону немцы оттеснили полк к северу от шоссе Псков – Ленинград. Знатоки среди красноармейцев говорили, будто теперь полк торопится к реке Луге, вдоль которой от нижнего ее течения, а точнее, Кингисеппского УРа до города Луги и южнее за время войны создан оборонительный пояс из укрепрайонов для прикрытия ближних подступов к Ленинграду… Сначала ждали, что гитлеровцы вот-вот насядут, а потом, когда надоело ждать и когда стали иссякать силы, перестали об этом думать. Просто шли, шли.
…Раскаленная жгучими солнечными лучами станина, втирая в тело соленый, настоянный на дорожной едкой пыли пот, больно давит плечи Чеботареву; и ему уже невмоготу, когда черный от загара и грязи Закобуня дергает его за рукав гимнастерки и показывает на станину: давай, мол, понесу, очередь. Чеботарев сходит на край дороги и, на ходу вцепившись руками в железо, помогает Закобуне перенести на плечи тяжелую, раскаленную станину. Тот, покряхтев, невесело улыбается. И все-таки не может обойтись без шутки, говорит:
– И докуда на сухом пайке держать будут? Так всю Русь-матушку пройдем и горячего не попробуем.
Петр молчит. Приставший к роте еще у Пскова корреспондент «Ленинградской правды» вынимает из кармана пиджака блокнот и на ходу пишет тупым, искусанным карандашом. «Опять записывает», – зло думает о нем Петр и смотрит на сбитые полуботинки корреспондента, на брюки, все в пыли, на почерневшую от грязи тенниску. Закобуня тоже смотрит на корреспондента. Смотрит изучающе. Смотрит и вдруг спрашивает его с ехидством в голосе:
– Писатель, что ты все пишешь?
Тщедушный, хлюпкого телосложения парень глядит на Закобуню серьезно и убежденно.
– Что пишу? – произносит он наконец. – А то и пишу… Все пишу. Что увижу, что услышу – все пишу. На память надеяться нам, газетчикам, рискованно. Со временем из головы, как из решета, все уходит. А это забывать нельзя.
Закобуня, тужась под станиной, невесело пыхтит в ответ.
– Да скорей бы забыть. Что тут жалеть-то?.. Скорей бы все это кончилось!
Петр, принимая у Сутина свой пулемет, одобряет в душе Закобуню. В другой раз он сказал бы корреспонденту то же, а сейчас ему не хочется от усталости открывать рот. Он только одобрительно поглядывает на солдата да старается заглушить в себе растущее чувство опустошения – будто потерял что-то самое дорогое для себя и потерю эту уж не вернуть никакой ценой. Вот какое это чувство… А тут еще жара… Полуденное солнце, кажется Чеботареву, собралось растопить ему спину. Гимнастерка, белая на лопатках от соли, льнет к телу, разъедая его. С намокшего бинта сбегают время от времени жгучие капли пота. Чеботарев смотрит в шею Курочкину и видит, как на ней такие же капли оставляют, смывая пыль, грязные полосы. Со временем уши перестают слышать, как глухо отдаются шаги роты по укатанному колесами крестьянских телег проселку. Только качается перед глазами грязная, вся в потеках, шея сержанта да жжет спину солнце.
Сколько они идут так, Петр не знает: он потерял представление о времени, о пройденном пути. Мучительно старается понять, почему полк, отойдя с укрепрайона, занял оборону не на берегу реки Великой, где она течет через Псков… Вспоминается поле между Крестами и станцией Березки, где наши и немецкие танки, схватившись в танковом бою, жгли и кромсали друг друга… Петр перестает видеть шею Курочкина. Вместо нее – в воображении, конечно, – видит картину отгремевшего между Крестами и станцией Березки жестокого танкового боя, после которого на поле остались обгорелые бурые остовы и немецких, и наших танков, валяющиеся, как игрушечные, тяжелые башни с погнутыми пушками… обожженные танкисты… Когда видение исчезает, Чеботарев опять начинает видеть грязную шею Курочкина. Она перед ним качается, качается…
Дорога, вырвавшись из старого соснового леса, круто уходит вниз. Шея Курочкина пропадает снова. Перед глазами открывается глубокая котловина с речкой и мостом через нее. Глаза видят, как за мостом дорога поднимается в гору – отлогую, засеянную рожью, а дальше дремлет, прижавшись к лесу, деревня. Когда ноги ступают по шатающимся бревнам моста, Петр думает: «Вот почему не по шоссейкам идем! Куда тут немцам с танками да с машинами – не пролезут… На шоссе, может, давно бы нагнали нас они с техникой-то». И это маленькое преимущество их перед немцами наполняет сердце радостью. Он ощущает прилив сил. И в гору идти уже легче. И Петр идет, снова видя грязную, в потеках шею Курочкина.
В деревне делают привал. Его никто не ждал, поэтому команда воспринимается с какой-то неуверенностью.
Взяв алюминиевые котелки, Закобуня и Карпов с перевязанным плечом – задело осколком мякоть – бегут к колодцу. Петр, развалившись в тени у приземистой, почерневшей от дождей и ветра избы на вытоптанной скотом и птицей траве, наблюдает – бездумно – за командиром полка, который, раскрыв дверцу легковой машины, что-то по карте объясняет Похлебкину.
Предвоенный лоск с Похлебкина сошел. И Чеботареву смешно, как комбат, стараясь сохранить военную выправку, гнется перед машиной, заглядывая в карту. Когда машина, подняв хвост пыли, скрывается за поворотом, Похлебкин направляется к колодцу, где Буров уже наводит порядок. Идет он лениво, валко. И по тому, как он идет, Петр догадывается, что комбату этот переход достался труднее, чем бойцам и сержантам.
Возвращаются, поплескивая водой из котелков, Закобуня и Карпов. Петру жалко воду. Он встает и хочет крикнуть: «Полегче! Вы что, воду не носили?» – и вспоминает вдруг свой родной поселок, где он три раза в день ходил на реку за водой. Но Петр не кричит им. Он развязывает вещмешок и достает из него сухари, кусок шпига и перочинный ножик. Все это Петр раскладывает на угол развернутой плащ-палатки и садится. Трое, в кружке́, они жуют, похрустывая сухарями, жирный, плавящийся во рту шпиг. Молчат. Да говорить и не о чем. Все, что надо было, переговорили, пересудили.
Женщины мелькают от изб к солдатам и обратно. Чеботарев видит, что они носят кринки и свертки. «Потчуют», – думает он, и ему вдруг хочется выпить холодного, из погреба, молока. Он встает, решает пойти со своим котелком в избу, но в это время из-за угла, переваливаясь, как утка, медленно выходит старая женщина с глиняным горшком в руке и направляется к ним. «Вот она, легка на помине», – мелькает у Петра, и он вновь садится.
Старуха подходит к ним. Руки у нее черные и все перевиты пухлыми синими венами. Она протягивает горшок Закобуне. Тот, приподнявшись на колени, улыбчиво смотрит в провалившийся рот старушки и берет молоко.
Закобуня наливает молоко в Петров котелок, и все по очереди прикладываются к нему.
Молоко парное еще. Чеботарев пьет его, и всплывают в памяти опять родные места. В нос отдает стайкой[4]4
Стайка – хлев.
[Закрыть] и коровой. «А стала бы поить нас, отступленцев, молоком моя мать? – задумывается он. Растягивая глотки, он решает: – Стала бы. Мать – женщина… Из жалости бы стала. У них всегда на первом месте жалость», – и, нехотя оторвав губы от котелка, передает его Карпову.
– Да ты попей, попей, – сильно окая, просит старуха Петра и говорит: – Я поднесу, коль мало будет. Поднесу, – и по-матерински жалостливо посматривает на его бинт. – Пулей голову-то?.. Чем голову-то, задело, говорю?
– Не знаю, мать, – смутился Петр, – рана-то пустячная. – Может, осколком, а может, и камнем от валуна. Там, на УРе, валунов было много.
Старуха вздыхает, подперев сухой подбородок рукою, печально вглядывается в их лица, а Петру кажется, что она сейчас думает не об их солдатской доле, а о судьбе всей страны, народа, и ему становится невыносимо тяжело. «Не оправдали мы твоих надежд, мать», – думает, опустив глаза, Петр. Старуха, видно, понимает мучения Чеботарева и, отвернувшись, молчит. Пауза длится долго. Потом она спрашивает:
– А можо, еще принести молочка-то?
– Спасибо, мать, – тихо произносит Петр и смотрит на Закобуню с Карповым, которые, очевидно, думают о том же, о чем думает и он.
Старуха опять молчит. Вытирает концом черного платка выцветшие глаза и начинает, напирая на «о»:
– У меня вот тоже где-то сынок… мойер… – И крестится: – Сохрани его, господь! – И к ним: – Дай бог и вам благополучия! – Потом вдруг как бы выговаривая, с насмешкой: – Сказывают, немец уже к Ленинграду идет. Скоро вас обгонит? – И к Петру: – Ты вот с виду-то богатырь… а… не бьешься – каблуки сбиваешь…
Глаза старухи начинают слезиться. В них нет уже ни насмешки, ни укора. В них стоит один немой вопрос: почему же армия отступает?
Закобуня передает котелок с молоком опять Петру. Сам вытирает кулаком губы. Обиженно усмехнувшись, говорит старухе:
– Ты, мать, того… вроди як енерал. Усе видишь крашче командиров.
Злую шутку его никто не принимает. И Карпов и Чеботарев глядят на него осуждающе, с неприязнью. Закобуня, видно, и сам начинает понимать, что сказал не то, и смущенно опускает глаза, потянувшись за ломтем шпига.
А старуха все стоит над ними. Скрестив на впалой груди руки, думает тяжелую свою думу.
Выпив остатки молока, Петр отставляет котелок, подает старухе пустую ее посудину. Благодарит.
Старуха кивает и спрашивает, не надо ли еще. Солдаты наелись, напились. Больше им не надо. Теперь им хочется только одного: развалиться на траве. Они так и делают.
Пожелав им доброго сна, старуха уходит за избу. Они смотрят ей вслед, а сами витают в мыслях далеко-далеко отсюда – вспоминают свой дом, своих матерей… Глаза их становятся ласковыми и добрыми. Это, наверно, материнские глаза, которые они только что видели, сделали их такими.
Материнская ласка…
Как хороша ты, скупая и беззаветная… Даже тогда, когда разлетаются дети по белу свету, а мать остается одна, – и тогда эту ласку они носят с собой. И если становится им трудно, если не от кого ждать им помощи, она утешает и наливает силою…
Два часа привала пролетели.
Слова команды, и батальон – на ногах.
Чеботарев, подняв ручной пулемет, становится в криво растянувшийся вдоль улицы строй и вдруг видит, что осталось их от батальона, по существу, роты две с половиной. Он оглядывает свой взвод. В нем нет отделения Растопчина. И Петру – мимолетно, но ярко, со всеми подробностями – вспоминается последний день на укрепрайоне и гибель третьего отделения.
Чеботарев посмотрел на остановившегося перед строем комбата и на Стародубова, который все время шел где-то в хвосте колонны, а сейчас вышел, очевидно, показаться. Подумал: все-таки здорово отчехвостил Буров Похлебкина, когда немцы дот блокировали. Так прямо и сказал: «Холмогоров был прав. Надо уважать в бою талант, а не звание. Звание врагу – чепуха, хитрость ему страшна, умение». Комбат в ответ только сверкнул глазами и увел Бурова по траншее в сторону. А связной Похлебкина рассказывал «по секрету»: «Приезжал на КП батальона командир полка. Выслушал Похлебкина не до конца, а потом как заорет: «Что вы мне БУП, БУП! Боевой устав не догма, а руководство к действию… Вам не батальоном командовать, а складом заведовать! Вы мне положение исправьте! Куда глядели? Мальчишке ясно, что они здесь пойдут. Холмогорову сразу так надо было делать. Себя вините – не его…»
И вот батальон опять на марше. Идет полчаса, идет час. Неожиданно из-за леса вырывается на бреющем полете пара «Мессершмиттов-109». Увидав колонну, они резко взмывают вверх, а потом падают на разбегающихся в стороны солдат. Но страха уже нет – обессилены и привыкли. Все прячутся в густой березовый лес. Истребители, пустив очереди, уходят дальше и накрывают другой батальон. Но там отвечают огнем на огонь, и один из самолетов, чуть взмыв, резко идет вниз, к лесу. Доносится глухой, далекий взрыв. Над лесом поднимается бурое пламя. В батальоне похлебкинцев подсчитывают потери. Убита артиллерийская лошадь. В кустарнике Сутин находит раненого помкомвзвода Брехова.
И батальон снова идет. Чеботарев слышит, как в сторонке Варфоломеев говорит Бурову:
– Теперь начнется. Раз обнаружили, значит, покою не дадут. Вот посмотришь, оставшийся «мессер» приведет бомбардировщики.
От пророчества командира взвода становится холодно и как-то неуютно на душе. Но самолеты не летят час, другой. Сделали уже два привала, коротких, по десять – двадцать минут, а их нет. После очередного привала Чеботарев заметил, что во время отдыха ноги делаются деревянными и первое время плохо слушаются. Он приглядывается к шагающим рядом товарищам и понимает, что они испытывают то же.
Батальон нагоняет женщину, которая идет посреди дороги и держит что-то в руках. «Ребенок, конечно, ребенок», – думает Петр. Идет она тихо, не спеша. Ей пора бы уже отойти – уступить колонне дорогу, а она все идет, не оборачиваясь. Похлебкин сердито кричит ей:
– Гражданочка, сойдите с пути!
Женщина оборачивается и вдруг бросается в орешник, обступивший проселок. Потом, поняв, что ее не тронут, боязливо сходит на край дороги и идет сбоку, чуть впереди Варфоломеева. Похлебкину это не нравится, и он подходит к ней, а потом неожиданно для Петра шарахается к колонне. И тут Петр видит ее лицо. Оно осклабилось. Большие, затененные черными ресницами глаза дико вытаращены. Слышится неестественный, жуткий смех. Сильно прижав к груди ребенка, она кричит комбату:
– Кыш! Ух!..
«Сумасшедшая!» – проносится в голове Чеботарева страшная догадка, и он сразу начинает все понимать. Ребенок мертв. Теперь Петр даже видит на покрывале, в которое закутано тельце, кровавое пятно. «Беженка, – мелькает у него мысль, и он вспоминает Валю. – При обстреле с воздуха, пожалуй, убили, гады». Ему страшно. Он даже представил, что и Валентина тоже сошла с ума и теперь вот так бредет без пути-дороги. Ему холодно. Глаза, не мигая, следят за женщиной. Ей лет двадцать пять, не больше. Ему жалко ее. Ему больно… А в голове – Валя. Подступают горячие слезы.
Комбат приказывает Варфоломееву прогнать сумасшедшую. Варфоломеев подходит к ней, берет за руку. Она, вырвав руку, бросается в сторону, на полянку возле дороги. Остановившись в густом пырее, поднимает подол платья и неестественно хохочет. Ее жест ни у кого не вызывает улыбки. Все еще больше мрачнеют, а корреспондент, не глядя под ноги, пишет… Петру становится противно, и он отворачивается, не переставая думать о Вале. Успокоительные слова Спиридона Ильича на мосту теряют смысл, растворяются… Корреспондент ему теперь уже невыносим… А женщина вдруг садится на траву и тычет, растягивая широкий ворот платья, худую белую грудь в сжатые губы ребенка.
– Смотри, – шепчет Петру взволнованный Закобуня.
Петр, взглянув, тут же отворачивается.
Минут через десять к Бурову подходит, нагнав строй, фельдшер. Отдает честь, негромко докладывает:
– Товарищ политрук, Брехов умер… Что прикажете?
Буров, не ответив, прибавляет шагу, нагоняет Похлебкина и докладывает ему, очевидно, о Брехове. К комбату подходит и Варфоломеев. Втроем они что-то обсуждают на ходу. «Как хоронить, решают», – мелькает у Петра догадка, и ему неожиданно становится не по себе – Брехова во взводе все любили за справедливость.
Солнце бьет теперь в левое плечо. Откуда-то спереди тянет легким, прохладным ветром. Идти становится легче. Но в это время за проселком, сделавшим поворот и снова выпрямившимся, открывается вид на редкий сосновый лес, в котором их поджидает третий батальон со штабом полка и артиллерией. «Большой привал будет», – догадывается Петр и слышит, как Карпов, идущий за ним, говорит Закобуне:
– Здесь, наверно, его похоронят? – имея в виду Брехова.
Привал действительно большой. Но добрый час из пяти, отпущенных командиром полка на отдых, заняли похороны.
Могилу вырыли на небольшом бугре у дороги. Тело завернули в плащ-палатку, положили возле ямы. Перед могилой выстроился взвод Варфоломеева, собрался почти весь командный состав. Из полкового оркестра нашлось четверо музыкантов с трубами; остальные давно побросали свои инструменты и несут раненых, боеприпасы, минометы, катят пушки… Буров подошел к яме. И раньше-то худой, сейчас он был похож на скелет. Темные глаза его, не мигая, долго смотрели на тело старшего сержанта. Потом он произнес:
– Пуля врага вырвала из наших рядов славного боевого товарища и командира. Он прожил недолгую, но достойную ч е л о в е к а жизнь.
Буров делает паузу. Все склоняют головы. Молча смотрят на приоткрытое бледное лицо старшего сержанта. А Буров, оправившись от спазм в горле, снова говорит. Рассказывает, каким был в жизни Брехов, как героически вел он себя на УРе. И говорит он п р а в д у.
– Мы еще придем сюда, наш боевой товарищ и друг, – а голос Бурова дрожит, и по щекам его бегут скупые солдатские слезы. – Придем… Да, придем! Не век отступать будем… Мы все равно победим…
Чеботарев не может больше смотреть в остекленевшие глаза Бурова. Какое-то мгновение ему кажется, что он видит и эту победу, о которой говорит политрук, и то, как возвращаются все они сюда, чтобы почтить память однополчанина, и как вечно благодарные потомки склоняют головы над безымянными холмиками и братскими могилами, отмеченными обелисками, где спят вечным сном те, кто грудью защитил от смертельной опасности Родину… Чеботарев пытается увести взгляд от тела Брехова, вслушаться, что же дальше говорит политрук, но не может ни того ни другого. Глаза, будто скованные, а вяло работающий мозг продолжал рисовать картину грядущей победы. Петр не может вообразить всего пути к ней. Не может представить, когда и какою она будет… Лишь чей-то глубокий вздох приводит его в чувство, и в уши ему ударяет глухой, с надрывом голос Бурова. Чеботарев смотрит на политрука. Шепчет: «Верно: мы все равно вернемся сюда… поклониться тебе… Может, не я, не все, кто сейчас здесь, уцелеют… но кто-то…»
Буров под тяжестью горя весь сгорбился. Голос его перешел на шепот. Словно примиряя живых с мертвыми, он произносит:
– Земля родная да будь ему пухом! – И вдруг, неожиданно для всех распрямившись и оглядывая заплаканными глазами подавленно склонивших головы людей, с какой-то неестественной для него свирепостью и непреклонной решимостью выкрикивает, потрясая сжатым кулаком: – Смерть фашистским захватчикам! Смерть!
Чеботарев машинально за политруком шепчет с такой же свирепостью: «Смерть!» И другие шепчут. И Брехов, кажется Петру, шепчет. Лес, голубое небо, земля под ногами, могила – все шепчет страшную для немцев клятву: «Смерть!»
Буров глядит на закрытые глаза старшего сержанта. Глядит с минуту. Потом наклоняется над ним и прикрывает ему лицо.
Гремит салют из пистолетов: командир полка не разрешил салютовать из винтовок – экономит боеприпасы.
Под хлопки выстрелов и траурный марш, который играют музыканты негромко и замедленно, тело Брехова опускают в могилу… Бросают по горсти земли и отходят… Слышно, как она глухо бьет по не защищенному деревом, завернутому в плащ-палатку телу солдата… Командир полка грустный – не отходит от могилы. Рядом с ним, окаменев, стоит комиссар полка. Поблизости, уронив на могучую грудь голову, тяжело дышит Стародубов… Солдаты ставят в ногах могилы плоско затесанный вверху столб и начинают ее заваливать. Оркестр играет «Интернационал». Голоса труб сливаются в единую могучую мелодию, и Чеботарев сразу приходит в себя. Окинув коротким взглядом быстро работающих саперными лопатами солдат, он останавливает глаза на затесе столба с надписью:
«Старший сержант Брехов В. П. Июль 1941. Отомстим!»
С короткими привалами полк шел ночь, утро. Сделали привал, переждав жару, пошли дальше.
О немцах уже никто и не думал, когда головной дозор донес, что впереди по проселку на север едут немецкие мотоциклисты и пехота на машинах. Батальон Похлебкина принял боевой порядок. Подоспевший командир полка вытащил карту. Посматривая в нее, рассуждал вслух:
– Где же они могли пройти? Почему они впереди нас оказались?
Его пухлый палец скользил по карте. Похлебкин из-за его руки ничего не видел, но понимал, что положение складывалось тяжелое.
Карта подсказала: гитлеровцы проскочили или западнее – по Гдовской дороге на Ямм, или восточнее – через Струги Красные на Ляды. Ни то ни другое не утешало. Надо было принимать спешно решение. Остановившись на том, что, вероятнее всего, немцы опередили их, пройдя вдоль Псковского озера на север по Гдовскому шоссе, полковник решил вести полк северо-восточнее, лесом – к Плюссе, а там, переправившись через нее, идти болотами до соединения с отступившими к реке Луге частями.
Скучившись, сколько возможно, при усиленном походном охранении двинулись вперед. Спустились в долину Плюссы.
Вечерело.
По шаткому бревенчатому мосту переправились через реку и оказались в низинных заболоченных лесах. Настоящая тайга обступила их. Дорога кое-где переходила в топь. Под ногами пружинил мох, хлюпала вода. Люди еще шли, а автомашины с продовольствием и боеприпасами, обоз, артиллерия застревали через каждый километр-два пути. Приходилось тянуть все это через торфяное всасывающее месиво. У «эмки» командира полка кончился бензин. Можно было заправить ее из баков полуторок. Но полковник вылез из «эмки» и, приказав ее подорвать, пошел пешком. Шел и видел: люди выбиваются из сил. Тогда он решил повернуть правее и выйти на гряду, которая, судя по карте, проходила километрах в десяти отсюда.
Лес расступился неожиданно. Болотистая низина как-то враз перешла в открытое широкое поле, возвышающееся чуть-чуть к востоку. С той стороны поля снова тянулся лес, но не такой, как позади, – еловый, вперемежку с осиной и кустами, а чистый сосновый бор.
Двинулись через поле. Под ногами похрустывала пшеница. Она была здесь густая, высокая. И никому не было ее жалко. Все думали об одном: как бы поскорее попасть в бор.
Полк медленно, тремя колоннами, пересек дорогу, бегущую посреди поля. Втянулся в лес. На дороге показалась колонна немецких танков. Они шли с юга. Перед танками неслись мотоциклисты, за танками, на порядочном удалении, бежали машины-вездеходы, длинные желтовато-зеленые кузова которых были набиты солдатами. И оттого, что немцев было много и ехали они совсем по-домашнему, без опасения, некоторым стало не по себе.
Тяжело сделалось на сердце и у Похлебкина. «Вся надежда, – решил он, – на ночь». А сумерки опускались медленно. Похлебкин, достав карту из полевой сумки, всматривался в рельеф и пытался понять, куда идет полк. На пути была такая же, какую прошли раньше, низина. По ней тянулись леса и топи. Но низина эта лежала левее и далеко впереди. И спасение, казалось ему, было в том, чтобы скорее оказаться в ней – немцы туда не пойдут. За ночь до низины можно было добраться. Но для этого надо было, повернув на северо-запад, идти по лесу километров пятнадцать. И Похлебкин, видя, что движутся не туда, нервничал. Старался понять замысел командира полка и не мог. Когда, устало шагая, он заметил, прикинув по компасу, что полк повернул на северо-запад, к низине, ему сразу сделалось легче. Теперь Похлебкин мысленно поторапливал колонну. Ему все мерещилось, что вечереет слишком медленно – ночью идти, думал он, спокойнее, немцы отдыхают. Когда же наконец еле различимы стали в сумерках деревья, к нему вернулась даже твердость, и он размечтался, вспомнив золотое предвоенное время. Тогда Похлебкину было куда легче. Исполнительный, любивший опрятность, четкость и беспрекословное соблюдение субординации, он умел добиваться того, что его батальон считался одним из лучших, даже когда проходили армейские поверки. И спроси бы тогда любого из командиров в полку, можно ли тягаться с его подразделениями, каждый ответил бы: рискованно. И действительно, чьи подразделения на последних маневрах быстрей всех строились в каре, чтобы отбить воображаемую атаку конницы? Его, Похлебкина. Чьи подразделения в рукопашной схватке – имитировалась на искусно расставленных чучелах – выходили победителями? Его, Похлебкина. И он вспомнил вдруг, как кавалерийский полк этой весной в лагерях осваивал атаку. Командир корпуса, собравший после учений командный состав, от командиров батальонов и выше, так и заявил, обратившись к кавалеристам-рубакам: «Посмотрите, как бойцы и командиры Похлебкина ведут себя в рукопашной схватке! Любо смотреть! Все движения четкие, уколы смелые, наверняка… А у вас? Стыдно, товарищи кавалеристы. У вас, когда смотришь со стороны, в руках не шашки, а первобытные дубины!..» Вспомнив это, Похлебкин даже улыбнулся – он и сейчас не понимал, что не столько хвалили его, сколько сам батальон, командиров рот, взводов, отделений, солдат. Вспомнилось, как жене нравилось смотреть на четко марширующий батальон, и ему взбрела в голову тщеславная мысль: «Окажись я на месте зама по строевой, – он оскалил в темноте белые частые зубы, – я бы вышколил весь полк. Загляденье было бы, а не полк. Я бы показал, на что он способен».
О многом вспомнилось Похлебкину за эти два часа короткой летней ночи.
Раздавшаяся где-то далеко впереди, справа, длинная автоматная очередь прервала мысли Похлебкина. Напружинившись всем телом, он прислушался. Там, судя по звуку, километрах в трех – пяти, началась перестрелка. Теперь стреляли и из пулеметов. «Напоролись», – заволновался Похлебкин и бросился в голову батальона. Пристроившись к своему адъютанту старшему – маленькому худощавому грузину, он тревожно поглядывал вперед, в предрассветные сумерки, снова прислушивался к не-затихающей стрельбе…
Пеший посыльный от командира полка передал приказ подтянуться и ускорить шаг. И пошла от бойца к бойцу – до самого хвоста колонны – команда.
Бой в стороне не прекращался. Похлебкин догадался, что походная застава наткнулась на крупные силы немцев и, имея, очевидно, приказ задержать врага, бьется там насмерть.
Короткая летняя ночь проходила. На востоке алел рассвет. Сквозь полуголые макушки сосен пробивались яркие утренние краски.
Под все разгорающуюся справа стрельбу батальон Похлебкина выполз на опушку. Дальше, за широким лугом, усыпанным, как серебряными монетами, озерками с кустарником у берегов, березовыми рощицами, местность переходила в таежную заболоченную низину. «Вот оно где, наше спасение!» – не обращая внимания на стрельбу справа, успел подумать Похлебкин и увидел, что полк вовсе и не собирается никуда уходить: впереди идущие батальоны и артиллерийско-минометные подразделения, перегораживая луговину и виляющую по ней дорогу, занимали оборону. Будто кипятком ошпарило Похлебкина. Ему сделалось жарко и душно. И подбежавшего пешего посыльного от командира полка он выслушал как в кошмаре… В чувство его привел снаряд, разорвавшийся поблизости.
Выполняя приказ командира полка, Похлебкин развернул батальон лицом к гитлеровцам. Загнул правый фланг так, чтобы немцы не смогли обойти позиции батальона. Стал отдавать дополнительные распоряжения ротным командирам. Отдавал, а сам поглядывал вперед, на виднеющуюся далеко деревню, перед которой застыли в поле вражеские танки, автомашины с пехотой… «Неужели он их задержать хочет? – думал майор Похлебкин о командире полка с укором. – Да разве их теперь задержишь?! На УРе вон, на реке Великой, и то…»
…Оказалось, полк преградил путь вражеским танкам и машинам с пехотой, которые рвались на север, к реке Луге, чтобы оттуда, переправившись, ударить на Ленинград с юго-запада.







