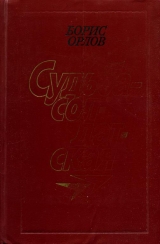
Текст книги "Судьба — солдатская"
Автор книги: Борис Орлов (2)
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц)
За третьим взводом оборону держала третья рота батальона. Ее левый фланг упирался в чернеющий плотной стеной лес. Впереди, откуда ждали врага, до самого горизонта лежали равниной распаханные черные земли. Одним краем они упирались в шоссе, а другим – в лес. Вероятность того, что гитлеровцы станут наступать по лесу и пахоте, согласились все, мала.
О том, как укрепить позиции второго взвода, Холмогоров, Буров и Варфоломеев рассуждали минут двадцать. Потом, поглядывая на валун, огромный, глубоко вросший в землю, лейтенант сказал:
– Тут ни до чего не договориться, товарищ старший лейтенант. Сил у нас мало. Для обороны дали вон какой участок! Тут по уставу и для трех рот земли лишку. На отвагу да на смекалку вся надежда.
Холмогоров, не успокоившись, направился с Буровым во второй взвод. Обогнув полуразвалившийся сарайчик возле крайнего дома, вышли на шоссе. Постояли. Холмогоров поглядел на уходящее вдаль полотно дороги. Прямое как стрела, оно чуть прогибалось посредине. «Какой черт понесет здесь гитлеровцев? – подумал, еще больше утвердившись в своих мыслях, Холмогоров. – Немец не дурак». И сердце у Холмогорова екнуло. «Просчет допустил я глупый. Страшно глупый», – ругал он себя, перейдя уже шоссе и выходя через позиции отделения сержанта Курочкина на позиции отделения Растопчина, за которым занимал оборону второй взвод. Холмогоров рассматривал раскинувшуюся перед глазами местность, прикидывал, что и как получится, если немцы действительно направят главный удар на второй взвод. Далеко, за дотом, заметил на коне комбата.
– Похлебкин к нам жалует, – сказал он Бурову, как-то вдруг сникнув.
Майор ехал в сопровождении коновода, придирчиво оглядывал траншеи, бойцов. Холмогоров и Буров поспешили навстречу. По лицу подъезжающего комбата Холмогоров понял, что Похлебкин не в духе, но на доклад о выявленном просчете и организации обороны все же решился. Когда комбат спешился, бросив повод коноводу, Холмогоров стал излагать свои соображения. Комбат слушал внимательно, все больше чернея обветренным, загорелым лицом.
– Вы что думаете, мы сюда в пешки играть пришли? – сказал он, когда Холмогоров смолк. – Вы же понимаете: батальон занял оборону, все средства огня и весь личный состав учтены в совершенно определенной, с вами же выработанной системе взаимодействия. Если теперь вы займетесь передвижками, потом другой, третий, что же получится?.. Успокойтесь. Не разрешаю отходить от принятой схемы обороны. – И, оглядев Холмогорова, наставительно проговорил: – Вы бы лучше посмотрели, на кого у вас походят бойцы и сержанты. Обросли все. Приказываю немедленно подстричь всех. Косы скоро можно заплетать будет.
Похлебкин легко сел в седло. Поехал дальше, в третью роту. Холмогоров, ошеломленный, смотрел ему вслед. Буров саркастически улыбался.
– Дела-а, – сказал наконец командир роты.
– Ладно, – с нотками утешения в голосе заговорил Буров. – Ты иди во второй взвод. Кумекай. Внутри подразделения, может, что и предусмотришь, а я займусь… прическами. Раз они уж так нужны сейчас, надо делать. Похлебкин этого не оставит.
Они разошлись. Буров направился обратно, в первый взвод, чтобы оттуда идти в третий, а Холмогоров пошел дальше. «Черта с два я успокоюсь! – думал он, мысленно не соглашаясь с комбатом. – Когда бой начнется, тогда поздно будет думать. Тогда делать надо, воевать». И в его возбужденном мозгу снова закипела работа. Вопрос, как усилить правый фланг оборонительного участка роты, не имея никаких резервов, принял форму какой-то очень сложной шарады, разгадать которую надо было непременно, потому что от этого зависела жизнь и его самого, и людей, которые ему вверены, а главное – прочность обороны. Так думал он, маленький, похудевший за последние дни и от этого ставший казаться старше, Холмогоров.
В отделение Курочкина машинку для стрижки волос принесли после обеда, когда подошла очередь. Подстригал всех сам Курочкин, который любил это дело. Зная об этом, Закобуня как-то еще в мирное время сострил, что после демобилизации в запас «наша Курочка всех петушков острижет и первым парнем на деревне станет». Курочкин не рассердился – считал профессию парикмахера не хуже других.
С охотой стриглись немногие. Карпов, пощипывая свой темный хохолок, подумал: «Уж в бой скорей, что ли? Тогда, может, бросили бы эту затею?» Только Сутин, поглаживая рукой совсем короткие волосы, вертелся возле Курочкина и готов был тут же подставить свою большую и круглую, как арбуз, голову под машинку.
– Где она, твоя шевелюра? – сказал ему командир отделения и, вместо того чтобы стричь, послал его на ничейную землю, к болоту, где был небольшой пруд. – Нарви травы. Спать не на чем в дзоте, – добавил он строго.
Сутин, подавленно взглянув на сержанта, лениво побрел на ничейную землю.
Охотнее всех стригся Закобуня – волосы у него росли, как на породистой овце, дружно и быстро. С прибауткой оседлав выступавший из земли серый валун, он подставил Курочкину голову.
– Смотри, волосы-то у тебя кучерявятся, – сунул ему под нос машинку с выстриженными с виска волосами командир отделения. – Можно и пожалеть такие!
– А я не хочу выделяться, может, – простодушно ответил Закобуня и дунул на машинку так, что волосы снесло, как ветром; пошутил: – Без волос голова, как маковка – на мушку не враз посадишь.
Где-то к востоку послышался комариный гуд самолетов. Стоявшие рядом бойцы задрали головы. Один из них крикнул:
– Вот они! Кажись, наши «чайки». – И показал рукой.
Курочкин перестал стричь. Высоко в небе к фронту действительно летело звено наших истребителей.
– Теперь дела пойдут… Пополнение, – съязвил Закобуня.
Курочкин зло одернул его:
– Остригу, как барана. Сиди и не балагурь. Не время.
Истребители пролетели. Закобуня унялся и молча ворочал головой, подставляя ее под машинку.
Нарочно оставив на голове Закобуни хохолок, Курочкин засмеялся.
– Хорошо? – спросил он, оглядывая его.
Закобуня ухватился рукой за хохолок и, изобразив на лице нечто вроде удивления, выкатил на сержанта брызнувшие синью глаза.
– Во, – подергивая хохолок, проговорил он серьезно, – був из правобережных холопов, быдло, по прадеду, а став запорожским козаком. Добре! – И притворно попытался встать с камня.
Под общий хохот Курочкин срезал ему этот хохолок и приказал всем, кто подстригся, бежать к прудику помыть головы.
– Карпов, – крикнул он, водя машинкой по голове очередного бойца, оседлавшего валун, – ты старший! Прикажи от моего имени Сутину немедленно идти ко мне. Сколько нарвал травы, с тем пусть и идет. А то он там проволынит.
Карпов, Закобуня и два бойца вприпрыжку побежали к прудику. Почти незаметная тропка вела их, виляя среди противотанковых и противопехотных минных заграждений по земле, никогда не паханной и сплошь усеянной камнями ледникового периода. На этой земле и трава-то росла чахлой, жесткой, как проволока заграждений, опутавших здесь все вкривь и вкось.
У прудика на охапке сорванной травы лежал, раздевшись до трусов, Сутин. Окинув взглядом его нехудеющее, в складках жира, смуглое тело, Закобуня крикнул:
– Встать и живо марш к сержанту! Приказ.
Раздевались, поглядывая, как нехотя собирается Сутин. Одевшись, он связал лежавшей рядом веткой дикой яблони траву и медленно пошел, переваливаясь, как утка, на позиции отделения. Закобуня увидел на берегу прудика яблоньку с отломанной веткой и полуразодранным стволом.
– Ну и паразит… Он же изранил ее скрозь! – сказал Закобуня сам себе, осматривая яблоньку. – Разве ж так можно?
Закобуня, быстро искупавшись, оделся и стал рвать осоку, выбирая подлиннее. Сплетя из нее что-то наподобие веревки и набрав в руку илистой земли из-под ног, он направился к яблоньке. Стянув разодранный по рогатине ствол, замазал рану.
– Гриш, ты что? – удивился, подойдя к нему, Карпов. – Да тут живого места не останется, как бои начнутся.
– Нехай все равно живе, – не обращая на его слова внимания, с остервенением забинтовывал ствол Закобуня и еще раз выругал Сутина: – А ще каже, в колгоспи був. Такых гнать из колгоспу мало.
Карпов стал помогать. Придерживая ствол выше раны, смотрел, как искусно работают руки Григория, сильные, жилистые.
К вечеру над позициями соседа слева, далеко за лесом, появились немецкие самолеты. Это были бомбардировщики Ю-87. С совиными полувытянутыми лапами, они стали в круг и методично, один за другим падая за лес, бросали бомбы, а потом, взмывая, становились обратно в круг. Над лесом росло, заволакивая небо, темно-серое тяжелое облако пыли и дыма. Холмогоров, только что вернувшийся из второго взвода, постоял у своего КП, поглядел бомбежку и устало спустился по ступенькам в блиндаж. Лег на узенькие нары с соломой поверху и невольно ощутил, как земля передает удары. «Гляди, так и на нас налетят», – рассудил он.
В блиндаж ввалился перепачканный в глине Буров. Отряхнув брюки, он сел на край нар. Поглядел на Холмогорова, улыбнулся чему-то, потом сказал:
– Считаешь?
– Что «считаешь»? – не понял Холмогоров.
– Что? Ясно, бомбы. Что еще осталось считать? – Буров беззвучно рассмеялся и показал белые как снег-зубы.
– Нечего их считать.
– И я так думаю, – ответил Буров и вдруг начал рассказывать: – Сейчас возвращаюсь через первый взвод и встречаю Варфоломеева. «Как, – спрашиваю, – считаешь?» Бомбы то есть. А он: «Чего считать их? Война еще не знамо сколь продлится. Так если начать сейчас счет вести – цифр не хватит». Я, откровенно, немного даже растерялся от такого ответа. Говорю: «Ефим Григорьевич, гляжу я на тебя и не пойму: у всех в лице появилось что-то новое… ждут боя, а у тебя…» Он улыбнулся мне, отвечает: «Значит, боятся, – и задумался. – Что мне краснеть, поджидая их?.. Я не девица, и они не парни». – «Ну, не краснеть, скажем, а думать, взвешивать…» – «Я все взвесил, – говорит. – Подойдут, будем драться…» Одним словом, поговорили.
– Ложись-ка, отдохни, – пододвинувшись к стене вплотную, тихо сказал Холмогоров.
Буров отдыхать не стал. Вспомнив, что хотел провести политинформацию с бойцами второго взвода, поднялся и ушел.
Холмогоров полежал-полежал и сел, а потом вышел из блиндажа. Огляделся. От КП Похлебкина шли двое. Понял – не комбат. Немецких самолетов уже не было. Над лесом, за третьим взводом, еще плавала сизая дымка пыли. На душе Холмогорова стало тоскливо до тошноты. «Хоть бы начиналось скорей, что ли?» – И он снова поглядел на тех двоих, идущих от штаба батальона. И вдруг в одном из них узнал по угловатому телу и медведеподобной походке Чеботарева. Не веря, поморгал глазами. Опять вгляделся и вдруг обрадовался, заулыбался. Шестунину, который сидел на ящике возле землянки для отдыха личного состава и писал, видно, письмо семье, крикнул:
– Тимофей, сюда!
Тот как ошалелый, бросив все, кинулся к нему.
– Смотри! – кричал он бегущему старшине. – Чеботарев же это! Чеботарев!
Шестунин, сообразив, в чем дело, остановился. Повернулся в ту сторону, куда указывал рукой Холмогоров. Подойдя уже к командиру роты, сказал:
– Петр… точно.
Холмогоров, радуясь, засмеялся. Вспомнил разговор с Похлебкиным, когда тот, находясь на пункте боепитания роты, выговаривал ему, что плохо работает и даже не списывает со счета подразделения Чеботарева, который, теперь, дескать, ясно, не вернется.
– Пополнение, – наблюдая за подходящим Чеботаревым, говорил вслух сам себе Холмогоров. – Солдат свой дом знает.
Когда Чеботарев с сопровождающим из батальона бойцом подошел к Холмогорову и, отдав честь, начал докладывать, командир роты махнул на него и стал трясти ему руку. Выспрашивал, где был.
Чеботарев похудел. Кожа на лице потемнела, щеки ввалились, и оттого скулы выдавались еще больше. Глаза смотрели холодно и жестко. Только грудь и осталась такой же широкой и сильной да раздували рукава гимнастерки будто отлитые из железа, крепкие мышцы. Во всем поведении Петра – в выражении лица, глаз, в том, как он непринужденно размахивал руками, – во всем этом чувствовалось, что в нем что-то изменилось, чем-то он не походит на себя прежнего. «Будто лет пять жизни ему прибавило», – подумал командир роты.
Когда Чеботарев смолк, Холмогоров сказал старшине:
– Проводить прикажи кому-нибудь во взвод, а то еще на мины напорется. – И к Петру: – Обедал хоть?
Чеботарев утвердительно кивнул и покраснел, не понимая, почему так душевно расположен к нему командир роты. «Наверно, что семью вывез», – решил наконец он и покраснел еще больше, так как считал, что за это благодарить нечего, потому что поехал за семьями по приказу.
Шестунин ушел к землянке за провожатым и скоро вернулся со связным Холмогорова. Чеботарев направился во взвод. Холмогоров смотрел ему вслед и вдруг вспомнил, что еще не ел. Он попросил старшину сообразить ужин. Шестунин побежал к ротной полевой кухне. Холмогоров перевел взгляд на шоссе и почти у горизонта далеко распростершейся перед ним равнины заметил движение. «Отступают, наши отступают», – понял он и судорожно сжал кулаки. Ему не верилось, не хотелось верить, что сдерживавшие впереди фронт войска могут под ударами гитлеровцев отступить. «Тылы, наверно, отходят», – немного успокаиваясь, стал убеждать себя Холмогоров и сел на выпиравший из земли валун. Телефонист из блиндажа по его требованию принес бинокль. Холмогоров долго всматривался в полотно дороги, в движущиеся по ней машины и растянувшийся в промежутках между ними обоз. «Тылы… Пожалуй, это и не тылы, – сделал он наконец вывод. – Части какие-то идут». – И побежал в блиндаж докладывать обо всем увиденном Похлебкину. Телефон, как назло, шипел, и разобрать, что отвечал комбат, было почти невозможно. Ругаясь по телефону на связь, майор в конце концов положил трубку. Холмогоров снова вышел из блиндажа. Машины уже находились перед позициями первого взвода – въезжали в деревушку. Их хорошо можно было различить и так, но Холмогоров все-таки опять приставил к глазам бинокль.
В безветрии над машинами стоял высокий столб пыли. Саперы, размахивая руками, показали шоферам проход через минное поле.
– Отступают, – тревожно проговорил Холмогоров.
Когда старшина принес в котелках дымящуюся перловую кашу со свининой и чай, есть уже расхотелось. Холмогоров нехотя стал глотать пищу. Старшина взял бинокль и, приставив его к глазам, начал, не менее тревожно, чем командир, рассматривать дорогу. По ней сплошным потоком тянулись теперь уже брички. Рядом, передвигая устало ноги, брели бойцы.
Откуда-то из-за КП выскочил Буров.
– Что это там? – крикнул он, показывая Холмогорову в сторону первого взвода.
– Как что? – Холмогоров поднял голову. – Не видишь разве, драпают, а на военном языке – отступают, значит.
– Да не о том я! – нервно проговорил политрук. – Посмотри на первое отделение!
У Холмогорова выпала из рук ложка – подумал, что там… немцы. Взяв у Шестунина бинокль, обвел им позиции взвода Варфоломеева и удивился:
– Драка, что ли? – и, приставив бинокль к глазам еще раз, вдруг соскочил и побежал туда. За ним кинулся и Буров.
Возле дота на позициях первого отделения творилось что-то невообразимое. Холмогорову показалось даже сначала, что там играют в кучу малу…
Метрах в пятидесяти уже от свалки командир роты закричал так, что показалось ему, у него рвутся перепонки:
– Встать!
Подбежав к куче барахтающихся тел, Холмогоров снова проревел над катающейся друг по другу солдатской братией:
– Вста-а-ать! Я приказываю! – и потянул первого попавшегося за сапог.
Подбежал сержант Курочкин. Где-то недалеко гремел над окопами голос Варфоломеева.
Приходя в себя, бойцы начали подниматься. Закобуня оправлял гимнастерку и говорил:
– Вот ведь… Яка холера… це… ми… – и виновато глядел на Холмогорова.
– Да у тебя что, язык отсох? – загремел на него начавший было слушать его Варфоломеев. – Ты что, по-русски разучился?
Поднялись уже все. Одергивали гимнастерки. Стояли потупясь. Чеботарев украдкой стирал с кулака подолом гимнастерки кровь. В стороне стоял Сутин. Нижняя губа у него была разбита и залита сбегавшей из носа кровью. Под глазом и на щеке наливались кровоподтеки.
По виду Сутина Холмогоров кое-что понял.
– Смотреть мне в глаза! – приказал он Сутину и повел взглядом по раскрасневшимся лицам бойцов отделения.
– Кто дрался? – с угрозой спросил их Буров и тоже вперил в красноармейцев почерневшие глаза.
Варфоломеев молчал. Он знал по опыту – своему опыту, который приобрел, когда еще служил бойцом, – не скажут. Молчал, а сам упорно думал, пытаясь разгадать причину драки.
Вдруг чуть вперед выдвинулся Чеботарев. С ненавистью в глазах он выговорил:
– Я дрался. Я во всем виноват – бил Сутина.
Холмогоров оторопел. А Буров, приблизившись почти вплотную к Чеботареву, гневно сказал:
– Позор! Последнее дело!.. Этому ты что, в отлучке научился? – Политрук ненавидел людей, которые в спорах вместо силы разума применяли силу кулаков своих, и был с ними беспощаден. – За что ты избил Сутина?!
– За что? – обиженно переспросил Чеботарев и нашелся: – А пусть Сутин сам… скажет!.. Я… расписку дал молчать. Пусть!
Все посмотрели на Сутина, который, опустив голову, шмыгал носом. Холмогоров приказал ему идти к прудику и вымыть лицо. Буров говорил Варфоломееву, чтобы тот присмотрел за Чеботаревым и внушил ему, как надо вести себя в армии. Курочкин, отвернувшись, грыз сухую былинку.
Гнетущее состояние длилось минуты три. Потом Холмогоров отдал распоряжение всем идти на свои места, а Варфоломееву – разобраться, виновных наказать и доложить об этом лично.
– Немец на носу, – сухо бросил он напоследок, кивнув в сторону Изборска, откуда по шоссе шли, отступая, части, – а вы тут… – И пошел усталой походкой обратно к своему КП, а пройдя немного, остановился, повернулся и крикнул Бурову: – Ты разберись во всем!.. Уладь как надо.
У КП Холмогоров опять стал наблюдать за дорогой, над которой висела пыль, скрывая двигающиеся двуколки, кухни, усталых бойцов… Он сел на камень и задумался. Решил, что от этих частей для обороны укрепрайона толку будет мало. Вдруг услышал далекие раскаты орудийной стрельбы. Не поверил. Прислушался. Глухо гудело где-то за Изборском. Ухала артиллерия. Гудел приближающийся фронт, гудел, передавая через застывший, хрустально чистый воздух свой устрашающий говор.
Приказав сообщить на КП батальона, что слышится далекая артиллерийская перестрелка, Холмогоров не полез в землянку, остался на воздухе. «Все-таки это, наверно, отходят тылы. Не может быть, чтобы перед немцами не было войск», – подумал он, поглядывая на шоссе, за которым низко висело над горизонтом солнце.
Холмогоров поднялся. Решил сходить к шоссе. Узнать. У деревушки, проходя мимо сарая, в котором спала часть бойцов из первого взвода, он услышал пение. Пел Слинкин. Кто-то несмело подтягивал ему и только мешал. Высокий звенящий голос запевалы роты выговаривал, налегая на тоскливые ноты:
…Чому я не сокил, чому не литаю,
Чому мени, боже, ти крилець не дав?
Я б землю покинув и в небо злитав…
Холмогоров остановился. Слушал, как боец пел. «Да, жизнь…» – подумал он, вздохнув. Грусть песни сразу же завладела им. Он почти зримо ощутил, как голос Слинкина бился, пульсировал, будто просил кого-то помочь. И Холмогоров вдруг понял, что Слинкину не хватает Зоммера, с которым они всегда пели. А голос у сержанта был густой, с переливами. Его баритон вплетался в голос Слинкина как-то незаметно, исподволь.
Песня вдруг смолкла, и наступила тишина, в которой послышался цокот копыт да натужное гудение моторов – оттуда, с шоссе. Холмогоров еще ждал: «Запоют, поди». Но Слинкин больше не пел. А Холмогоров все стоял и ждал. Растревоженный, вспомнил вдруг о жене, а потом о вчерашнем вечере, когда Слинкин с Зоммером пели его любимую:
Лишь только вечер затеплится синий,
Лишь только звезды зажгут небеса
И черемух серебряный иней
Уберет жемчугами роса…
И припев:
Отвори потихоньку калитку
И войди в тихий садик, как тень…
…Вернулся на КП Холмогоров уже ночью.
Буров лежал на нарах и читал газету при свете коптящей семилинейной лампы без стекла. Когда Холмогоров молчком разделся и лег на застланные плащ-палатками нары рядом с Буровым, тот сказал, оторвавшись от газеты:
– Вот жили… Социализм построили. Коммунизм начали строить… Помешали, стервы…
– Что построили, тебе видней, – проговорил уставшим голосом Холмогоров, – а вот что сейчас будет, надо гадать.
Глаза Бурова нехорошо блеснули. Потом он потянулся и, задумавшись, уставился в бетонный потолок. Негромко сказал:
– Заныл. Не ожидал я от тебя… Сейчас нам надо быть собраннее, тверже. Надо верить, что все это… временные успехи гитлеровцев и что мы… обязательно победим. Смотри! – Он сел и убежденно заговорил, отсчитывая по пальцам: – У нас морально-политическое единство – раз, партия ленинцев – два, у нас передовой по сравнению с Германией и ее сателлитами общественно-политический строй – это три. – Он победно поглядел на Холмогорова и снова лег. Посмеивался: – Да мы грудью раздавим их – нас чуть не двести миллионов… – И вдруг, подавив смешок в голосе, серьезно: – Раздавим и станем строить коммунизм дальше. Ну, может, не мы, но те, кто выживет в этой жестокой схватке с фашизмом, – они будут строить. И построят… А они не успеют, так их дети доведут начатое нами дело.
– Говори, говори, – усмехнулся Холмогоров, у которого слипались глаза.
– Что говори? А я не говорю? – не понял Буров. – Говорю, что коммунизм мы все равно построим…
Глаза у Холмогорова совсем закрылись. Он уснул. Во сне командир роты увидел, что слушает Бурова. Буров вдруг переместился на трибуну, которая стояла в клубе полка в Пскове, а сам Холмогоров оказался в первых рядах битком набитого зала и слушал. Буров, выбрасывая вперед руку, говорил, то приглушая голос, то давая ему волю: «Построим, товарищи, построим! Нам, нашему поколению, возможно, и не придется его уже видеть, но дети наши будут жить в коммунизме. И наша мечта, за которую мы так дорого заплатили, так много отдали и которая для нас есть идеал самого прекрасного, которое только можно и вообразить, им, детям нашим, к сожалению, будет казаться как нечто обычное.
Мечта у наших детей будет, вероятно, еще красивее. И поведет она их в будущее дальше, вслед за нашей мечтой. И пойдут они…»
Холмогоров поглядел на сидевшего рядом пропагандиста полка Стародубова и усмехнулся: «Красиво у тебя получается, политрук, – думал он, снова посматривая на Бурова, – а вот жена от тебя ушла, изменила тебе… Помнишь, рассказывал мне, что не умела она находить и ценить красоту в человеке – только и видела все себя…»
Холмогорова разбудил зуммер телефона. Он сразу сел, посмотрел на телефониста, который, схватив трубку, слушал и одновременно водил по отекшей руке локтем другой… Буров спал на спине, рядом. По его лицу блуждала счастливая, детская улыбка.
Холмогоров осторожно соскользнул с нар, босиком прошел к телефонисту по дощатому полу и сел на скамейку у стола. Телефонист, опустив на рычаги трубку, доложил, что из штаба батальона сообщили: боевое охранение завязало бой с противником.
Холмогоров вышел из блиндажа.
Солнце уже поднялось над плешиной земли. От болота тянуло легким туманом. Холмогоров посмотрел на плавающие в тумане кусты и редкие деревья за болотом, на деревушку, через которую уходило шоссе туда, где кипел сейчас бой, и съежился в ознобе.
Даль говорила треском ружейно-пулеметной стрельбы. Чтобы успокоиться, Холмогоров начал делать физзарядку.
Вышел Буров и глядел, как он энергично махал короткими руками, рассекая свежий, остывший за ночь воздух.
Неожиданно где-то совсем близко, на шоссе, раздались оглушительные длинные очереди. Холмогоров перестал махать руками. Тут же увидел невысоко над землей пару несущихся немецких истребителей. Обстреляв деревушку, они пролетели дальше, в глубь обороны, почти над головами. И Холмогоров, и Буров, инстинктивно присев от рева моторов, тревожно смотрели им вслед.
– Вот ведь как получается: ровно уж и под бомбежкой были, – заговорил наконец Буров, – пули над головой свистели, а перед такой оказией ноги в коленках затряслись. А у тебя? – И глянул на Холмогорова, который почему-то снимал майку. Буров тихо засмеялся, поняв, что с командиром роты произошло нечто аналогичное. – Ничего, – добавил он. – Что мы, не люди? Обстреляемся вот, тогда он пусть нас заставит трястись! Правда ведь?
– Штука серьезная, – все еще глядя в сторону, где скрылись самолеты, проговорил Холмогоров. – Тут, брат, призадумаешься. Наших-то в воздухе не видно. Если бы были они, так летали бы через нас ведь и мы бы их видели.
– Мы тут на пятачке. Что мы видим? – ответил Буров неуверенным голосом. – Пойдем. Вздремнем еще. А?
Они пошли в блиндаж. Но поспать им пришлось недолго. Через полчаса их снова разбудил зуммер телефона. Слышался грохот наверху. Гудели моторы. Сотрясалась земля…
Выскочив из блиндажа, Холмогоров и Буров сразу же распластались на выжженной солнцем и вытоптанной земле. Над КП полка, который находился далеко в глубине обороны, и над деревушкой у шоссе кружили, заходя с солнца, Ю-87. Пикируя, они по одной бросали бомбы и снова становились в строй, в круг. Бомбы со страшным воем медленно неслись к земле по кривой линии. Рвались зенитные снаряды, резали воздух трассирующие пули счетверенных «максимов». Над землей поднималось облако пыли, дыма, огня. Ухала, стонала равнина. В нос Холмогорову бил едкий пороховой запах. Командир роты понимал, что опасность ему не грозит. Но нервы не слушались, и короткие цепкие пальцы впивались в сухой крепкий грунт, будто Холмогоров боялся, что вот поднимется ураган и сорвет его с места, сорвет и бросит невесть куда.







