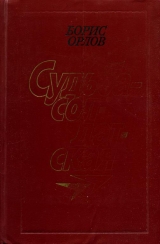
Текст книги "Судьба — солдатская"
Автор книги: Борис Орлов (2)
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 41 страниц)
Командир полка предложил задавать вопросы. Через несколько минут из заднего ряда послышался голос лейтенанта Варфоломеева:
– А как с семьями? В глубокий тыл их будут отправлять или нет?
У многих этот вопрос вызвал улыбку. Похлебкин выговорил Холмогорову шепотом:
– Несерьезные у вас командиры. Что он с таким вопросом суется?
Командир роты неопределенно пожал плечами – так, что можно было понять: примет к сведению.
– О каком еще глубоком тыле может идти речь? – вскинув седую голову, чуточку насмешливо загудел в зал командир полка. – Псков – это уже глубокий тыл. О наших семьях нечего заботиться. Это вдоль границы – там семьи временно, очевидно, будут эвакуированы глубже в тыл. – И в тишину: – Кто еще?
– Ас семьями повидаться, значит, не придется?
– Не придется. – Полковник поглядел на ручные часы: – Через полтора часа выступаем.
Командир третьего батальона спросил тревожным голосом:
– А как там УРы? Восстанавливать, что ли, их будем?
Полковник, сцепив за спиной руки, несколько минут ходил перед столом и молчал. Зал, затаив дыхание, прислушивался к шарканью его старческих ног и ждал, когда он заговорит. А полковник, видно, никак не мог собраться с мыслями и молчал.
Дело в том, что после того, как Прибалтийские республики присоединились к СССР, началось укрепление границы, переместившейся на запад. Было решено Псковский и Островский укрепленные районы и другие, оказавшиеся в глубоком тылу, демонтировать. Вдоль новой государственной границы воздвигались такие укрепрайоны, которые требовали еще большего количества средств и техники. К сожалению, к началу войны достроены они не были. Это полковник знал. Но он знал и то, что в приказе ничего не говорилось о спешном приведении Псковского укрепрайона в надлежащий вид. Полк выдвигался в укрепрайон, очевидно, временно и должен был потом куда-то передислоцироваться. Но заданный вопрос смутил полковника. Он вдруг подумал: «А что, если нашим частям не удастся сразу прорвать фронт противника вдоль границы, больше, если противник, развивая временный успех, частично вклинится на нашу территорию? Что тогда? – И ответил сам себе: – Тогда военные действия неизбежно переместятся на территорию между старой и новой государственными границами. Имея по старой границе подготовленные укрепленные районы, территорию, находящуюся перед ними, можно превратить как бы в предполье. И это предполье явилось бы на данный момент полосой, на которой изматывались бы основные ударные силы врага. А благодаря этому вскоре возник бы благоприятный момент для нанесения по противнику генерального удара… – Полковник стер ладонью с большого лба выступившие капли пота, оглядел зал и вдруг оборвал свою мысль: – В штабе военного округа, не говоря уже о генштабе, лучше знают, что делать со старыми УРами и как проучить врага».
Командир полка отыскал глазами комбата, задавшего вопрос.
– Из приказа по полку узнаете все, что надо делать, – назвав комбата по имени-отчеству, ответил наконец он.
Вопросов больше не задавали. Командиров распустили по подразделениям.
Похлебкин шел с командирами своего батальона. Все молчали. Молчал и он. Заметив, что пряжка поясного ремня у Варфоломеева, сползла на бок, майор сказал, подчеркнув каждое слово:
– Лейтенант Варфоломеев, вы совсем забыли, что находитесь в армии. Командиру полка задали несуразный вопрос – все командиры батальона краснели за вас. Сейчас идете, будто у себя дома. Поправьте ремень!
Холмогоров глядел, как лейтенант поспешно поправляет ремень, и думал о Похлебкине: «Зоркий же, все видит». Еще на совещании, выслушав замечание комбата, он решил: как вернутся в роту, Варфоломеева отругать, а тут ему стало жаль его, потому что командир он был умный, хотя и невезучий. «Другие уже ротами командуют, – размышлял Холмогоров, – а этот со своим прямым характером да честностью… И дети, семья обременяют его – четверо… Попробуй прокормить такое воинство…»
Глухо повернулся полк. Сотрясая плац, ударил по земле строевым шагом первый батальон – батальон Похлебкина – и направился к воротам мимо игравшего марш полкового оркестра, мимо полыхающего на ветру знамени.
И звуки труб, и строевой шаг, и развевающееся на ветру знамя в первую минуту показались Чеботареву лишними. Но эта торжественность, никогда не волновавшая так раньше, вдруг захватила Петра, заставив колесом выпятить грудь, шире развернуть плечи и забыть о прошлом. Он даже подумал: «На войну так на войну!..» И от этого его лицо сделалось сосредоточенным, глаза посуровели, и он стал видеть только пилотку шагавшего перед ним сержанта Курочкина.
За проходной батальон свернул направо.
Тротуары были запружены людьми, и состояние у Чеботарева сразу сменилось другим: Петр вспомнил о Вале, и глаза его лихорадочно забегали по лицам провожающих и зевак.
Весь город, казалось, высыпал на проводы. Не было только Вали, и сердце у Петра защемило.
Приближались к вокзальной площади, а он все ждал, что вот из толпы на тротуаре выскочит к нему она. Но, нет… Жены командиров давно уже шли рядом со своими мужьями. Подбежало немало и девчат к красноармейцам. Зоммер, выйдя из строя, шагал с Соней. Взявшись за руки, они взволнованно о чем-то говорили. Петра от них отделяло три ряда бойцов. Хотелось спросить, что с Валей, почему не пришла, и не мог. Подумал о ссоре. Глаза снова забегали по столпившимся на тротуарах людям… Когда батальон, пройдя площадь у вокзала, сворачивал на дорогу к Крестам, чья-то легкая рука легла на плечо Петру, и он, уже не ждавший появления Вали, сразу понял: она.
«Простила», – тут же подумал Петр и схватил горячую Валину руку.
Так они и шли, не выпуская рук, рядом. Оба припасли на прощание друг другу много хороших, теплых слов. Но сейчас все слова исчезли. Говорили только глаза, вздохи, грустные улыбки…
Валя никак не могла отдышаться.
Когда переходили через железнодорожный переезд, она тихо, все еще не отдышавшись, сказала:
– От самой части бежала… Кое-как разобралась, куда вас повели. Все гляжу: полк вышел, пошел к площади Ленина. Не пойму, почему вас нет… Спасибо людям, подсказали.
Петр еще нежнее сжал ее руку. «Родная. Любимая, – думал он. – Я всегда буду тебя помнить, всегда буду верить…» Вслух же проговорил тихо, в тон ей и чтобы не слышали другие:
– Жди письма. Напишу… Да сама-то пиши… Почаще…
Жены командиров отходили на обочину, в сторону от колонны. Начали прощаться девчата. Валя, смахнув рукой слезы, сказала:
– Ругали за вчерашнее-то? – И, не дожидаясь ответа, продолжила: – И я хороша.
– Не ругали, – выдавил Петр, еле сдерживая волнение, и понял, что надо прощаться, так как майор Похлебкин, выехав на обочину, придержал своего молодого сильного дончака и, гарцуя на нем, махал рукою: дескать, хватит, все на места, в строй.
Петр обнял Валю. Поцеловал – сначала в мокрую от слез щеку, а потом в губы.
– Так пиши! – срывающимся голосом крикнул он, уже занимая свое место во взводе.
Закобуня говорил ему виновато:
– Я забыл… Она к казарме подходила. Спрашивала тебя… А я в этой сутолоке совсем забыл…
Петру теперь было все равно. Он не слушал его. Шел, путая ногу, и, вывернув шею так, что побелел, обтянувшись кожей, большой кадык, смотрел назад, но Вали уже не видел. А она, машинально замедляя шаг, брела и брела по обочине за удаляющимся батальоном. Петр уже перестал и оборачиваться, а она все шла. Залитые слезами глаза давно не видели его широкую спину, навьюченную вещмешком, скаткой и ручным пулеметом. «Я буду ждать тебя. Всю жизнь буду ждать! – шептали ее дрожащие губы. – До смерти буду ждать. Весь век… всю жизнь буду…» А слезы текли неудержимо и заливали глаза.
К ней подошла Соня. Спокойная, собранная, она взяла Валю под руку и чуть раздраженно проговорила:
– Перестань! – И вздохнула: – Дома наревемся.
И Валя сразу будто очнулась.
– А что? Не так? – улыбнулась ей Соня, и лицо Валиной подруги, обычно холодное и строгое, подобрело. – Нюни здесь не место распускать.
Они, не сговариваясь, стали и замахали руками вслед колонне.
Петр же почти до самого шоссе Ленинград – Остров шел как во сне. И только перед выходом на него, когда раздалась команда «воздух» и батальон бросился врассыпную от дороги, он вернулся к реальности. Падая в выгоревшую от летней жары траву, Петр осознал вдруг, что то, прошлое, что было у него с Валей, похоже теперь скорее на прекрасный сон, с которым расстаться и больно, и горько, но расстаться настало вот время, и с этим надо смириться.
Немецкие самолеты появились из-под солнца. Черные, плотным косяком шли они на аэродром Кресты.
Резко и оглушительно забили где-то совсем рядом зенитные орудия, затрещали пулеметы.
До аэродрома было рукой подать. Петр, запрокинув голову, наблюдал, как бомбы не спеша оторвались от головной машины и стали падать. Раздирая воздух стонущим воем, они неслись одна за другой к земле отчетливо видимыми черными сигарами. Взрывы – глухие, скрежещущие – наводили ужас. Петр что есть силы вдавливал себя в землю. Острый камень врезался в плечо, но плечо не ощущало боли. Увидев шагах в трех канавку, в каком-то непреодолимом страхе, который раньше никогда не испытывал, пополз к ней. Пламегаситель пулемета скреб сухую землю, выдирая траву, а он даже не заметил этого. Когда свалился в канавку, понял, что она мелка. Вытаращив глаза, вертел головой, отыскивая укрытие получше. И тут увидел Бурова. Политрук лежал в еле заметной ложбинке и, чуть приподнявшись на локте, спокойно разглядывал роту. Чеботарев, стараясь пересилить страх, тоже приподнялся.
За постройками на летном поле в нескольких местах поднимались языки пламени. В просветах за деревьями виднелись взлетающие поодиночке прямо со стоянок истребители. Нескольким уже удалось подняться, и они ввязывались в бой с немецким прикрытием. Но большую часть самолетов немецкие истребители расстреливали, когда те еще были на разбеге или только отрывались от земли. «Своих бы прикрыл сперва», – жалостливо подумал Петр, наблюдая за ястребком, который гнался за немецким бомбардировщиком… Потом Петр видел, как, охваченный пламенем, немецкий самолет пошел вниз. За ним распускался клубящийся черный хвост дыма. Чеботарев замахал кулаком:
– Ладом их, паразитов! Ладом!
К нему неумело, на четвереньках, подполз Буров.
– А что же это мы-то не стреляем, а? – спросил он у Петра, будто у товарища.
– Мы? – сказал Петр. – А куда же стрелять? Далеко, не достанем.
По цепи приказали лежать – с юго-востока шла новая группа вражеских самолетов. Шла, казалось, на город. Петр, прижимаясь к земле, поглядывал на машины с черными, в желтых обводьях, крестами и вдруг, вспомнив о Вале, ужаснулся.
По самолетам все время били зенитки. Но самолеты продолжали держаться в строю, похожем на журавлиный клин. Лишь когда два наших истребителя атаковали их, строй дрогнул. Было видно, как рвались беспорядочно сбрасываемые бомбы левее нефтебазы и у вокзала. Рвались. Но у Петра не было уже страха. Была только боль, боль за близких, за терзаемую родную землю, и ударял в нос незнакомый, горький запах взрывчатки – запах войны.
3
В понедельник Валя пошла в военкомат. Не без робости открыла она дверь и вошла в прокуренный, переполненный людьми коридор. На красном полотнище жирными белыми буквами, не потерявшими свежести, было написано: «Ответим на удар врага тройным сокрушительным ударом!» Какой-то военный остановился возле ребят, толпившихся у дверей без надписи, и, явно недовольный, спросил у них:
– Вы с повестками? По мобилизации?.. Без повесток? Так что же вы топчетесь тут?! Работать мешаете! Шли бы домой. Понадобитесь, сами вызовем.
Валя вздохнула. «Гонят, – подумала с горечью она и обратила внимание на юношу, лицо которого было ей знакомо. – Где же я его видела?» Наконец вспомнила: перед сквером, у столба с репродуктором, когда вчера выступал Молотов с заявлением правительства о начале войны.
Это было на проспекте. Перед рупором собралась толпа. Слова тонули в томительной тишине. Люди, встревоженные трагической вестью, перестали, казалось Вале, совсем дышать… Когда радио смолкло, стоявший рядом мужчина горько вздохнул. А парень – тот самый юноша, которого она сейчас увидела в военкомате, – вдруг высоко подбросил кепку и, сверкнув глазами, с бесшабашной удалью выкрикнул: «Даешь Отечественную! Разомнем косточки!» Пожилой мужчина сурово посмотрел на парня и, осуждающе покачав головой, тихо проговорил почти над Валиным ухом: «Комедиант! Чему радоваться? Это же… трагедия!» И слова его остались для Морозовой непонятными.
Валя несколько раз прошла туда и обратно по коридору. Украдкой еще раз оглядела парня, подумала: «Тоже мне – трагедия… Что нам теперь – носы повесить? Воевать пойдем!»
Взявшись за ручку какой-то двери, Валя вдруг почувствовала, что робеет. Пересиливая эту непонятную ей робость, она все-таки вошла в комнату и остановилась перед столом, за которым сидел молоденький лейтенант. Он сосредоточенно просматривал какие-то бумаги и долго не обращал на нее внимания. Потом поднял утомленные глаза и неожиданно улыбнулся. Пригласил сесть. Слушая Валю, лейтенант украдкой разглядывал ее. Когда она замолчала, он вежливо произнес:
– Девушка, я лично ценю ваш патриотизм, но… Сами посудите, если мы займемся сейчас добровольцами, а их у нас тьма, когда же нам работать? А потом… вы же должны знать: женщин у нас в армию не берут. Что ж, что вы учились в Осоавиахиме!.. Возникнет необходимость, будете работать здесь, в тылу… но это – если возникнет. – И ласково улыбнулся: – К нам все приходят и говорят так, будто мы век собрались воевать с Гитлером. Поверьте, у нас сил хватит без вас, женщин. Вот войска подтянем и ударим.
Лейтенант поднялся, дав этим понять, что разговор окончен.
После военкомата улица ослепила ее светом. Бросились в глаза тяжелые стены Солодежни, а с нею охватили и воспоминания о Петре. Валя даже будто вновь ощутила и тот первый его боязливый поцелуй… Но это радостное прошлое проскользнуло в памяти мимолетно – реальность взяла свое.
Солнце плавило асфальт. «Сколько живу, не помню такой жары», – подумала Валя. Каблуки туфель тонули в асфальте, и она сошла на проезжую, устланную булыжником часть улицы. Стремление уйти в армию как-то само собой отпало уже тогда, когда узнала, что женщин, несмотря на войну, на военную службу не берут. Но здесь, на улице, в ней все запротестовало. «Что это за неравенство? – возмутилась она. – В Конституции одно, а на деле – другое». В горкоме, садясь за свой столик, Валя твердо решила искать правду. «Не может быть, чтобы девушек в армию не брали, когда у них военная специальность есть, – думала она, приводя в порядок папку с протоколами заседания. – Вечером схожу к Соне. Посоветуюсь».
В комнату то и дело заходили активисты-комсомольцы, секретари комсомольских организаций города, незнакомые парни и девчата. Все искали такого человека, который бы объяснил им, что делать в «новых условиях», как выражалось большинство из них. Обычно подходили к Вале. Потолкавшись и ничего не добившись, уходили. А на смену им появлялись новые. Это отвлекало от работы. Валя пожаловалась заведующему орготделом:
– Хоть бы совещание провели, что ли, с ними. Разъяснили задачи.
Тот велел собрать секретарей комсомольских организаций на завтра, и Валя до конца работы обзванивала секретарей, сообщая им о совещании. После работы, забыв, что хотела сходить к Соне, по привычке направилась домой. Вспомнила об этом уже за кинотеатром «Пограничник». Повернула обратно, к Запсковью. Ни на что не обращая внимания, прошла мимо летнего сада, вдоль Октябрьской площади и сквера имени Кирова, подошла к Крому… Вспомнился разговор в военкомате. И в угнетающей немоте вечернего города Валя вдруг вообразила, что оттуда, из-за белокаменной кремлевской стены, несутся набатные раскаты вечевого колокола. Под этот тревожный, призывный стон металла, виделось ей, собирался, прихватив на всякий случай с собою топор, меч или просто вилы, встревоженный люд. Как смола в котле, кипела страстями площадь перед Троицким собором. Сбивались в отряды, в полки… Валя не знала песен, которые пел тогда народ, схватываясь в борьбе с захватчиками, и поэтому, представив, как поднимается на подмогу псковитянам взбудораженная лихом Русь, она, Валя, шептала слова, сложенные о том времени в наши годы, но ей казалось, что это они, ее далекие безымённые предки, поют, взывая к родной земле: «Вставайте, люди русские, вставайте, люди добрые…» И они вставали, шли… И вот уже, виделось Вале, летели головы с надменных и безжалостных немецких псов-рыцарей. И мелькали среди богатырей русских женские платки да белые, лебединые руки, взявшиеся не за бабье дело… И это прошлое как-то слилось с нею, Валей, и представилось в сознании плотью кровной ее земли, сущностью ее самой. И оно-то, это прошлое, перенесло ее опять в реальный мир, и Валя на старинную церковь, которую огибала, перейдя через Пскову́ по мосту, смотрела уже так, будто не было ни ее, церкви, ни того прошлого, с которым она только что встречалась как наяву, ни смутно представляемого будущего. Оставалось, проясняясь, только настоящее, наполняющее страстью делать что-то для защиты Родины.
Соня с матерью занимала полдомика с отдельным входом.
Когда Валя зашла к ней, та собирала для стирки белье. Увидев появившуюся в дверях подругу, всплеснула руками:
– Ой как ты кстати, как кстати!
Они сели на кушетку. Соня обняла Валю полными, сильными руками. Светло-серые, чуть косившие глаза ее остановились, круглое румяное лицо с коротким, немного курносым носом стало серьезным. Валя посмотрела на висевшую над кроватью гитару – Сонин подарок Федору к дню рождения – и рассказала, как ходила в военкомат, о вечевом колоколе, о русских женщинах…
Соня слушала. Когда Валя смолкла, проговорила:
– Это пустяки. Война только началась. Думаешь, она в два-три дня кончится? Как бы не так. Война пока идет, мы с тобой еще доказать успеем, на что способны. Ты просто несобранная. Надо ждать. Время покажет. Я вот сегодня в цехе у нас читку проводила, так старые рабочие говорят, что война эта… надолго. Сейчас даже неясно, как она и идет: мы фашистов бьем или они нас. Надо подождать… У нас митинг утром был… Знаешь, какая сейчас задача перед нами всеми стоит?
Валя перебила, невесело усмехнувшись:
– Да уж как не знать! Ты забыла, где я работаю? За эти дни наслушалась.
– Представляю. – Соня встала, прошлась по комнате, посмотрела в окно, снова села. – Мне, например, тоже порой кажется, что надо что-то делать, идти куда-то и проситься, чтобы взяли на такую работу, где я принесла бы много-много пользы. А проходит какое-то время, и думаешь по-другому: не суй носа. Там, – она подняла руку вверх, – думают и знают, что делать. И успокаиваешься. Берешься за обычные житейские дела, например за белье. – Соня помолчала, вспомнив что-то, заговорила неторопливо, с раздумьем: – Порой я просто не разделяю охватившую всех тревогу. В эти минуты я даже не верю, что действительно началась война… А в общем, война идет… и нас бомбили.
Соня улыбалась, потому что думала сейчас о Феде, о том, что кончится война – не век же ей быть! – и они снова встретятся, и навсегда. Ее голова с зачесанными назад вьющимися светло-русыми волосами, подстриженными коротко, опрокинулась на подушку кушетки, глаза на мгновение застыли. Разрумянившееся лицо горело.
Сонино настроение передалось Вале, и она перестала думать о военкомате, о своем желании уйти в армию и тоже улыбалась.
– Ты, Сонька, счастливая. Ты можешь рассуждать, как философ, – говорила она ей. – Тебе надо было учиться, а не на комбинат идти… И я дура. Занес меня черт не знаю куда: одни бумаги…
Они разошлись поздно. Валя поговорила с подружкой, и ей стало будто легче.
Оставшись одна, Соня замочила в большом долбленом деревянном корыте белье, чтобы утром встать пораньше и успеть до работы его выстирать. Вернувшаяся от соседки мать сказала дочери, чтобы та ложилась и не думала о белье.
– Я сама выстираю, – говорила она ей, шепелявя. – Ты не простирываешь. Не люблю я, когда белье не простирано… Все торопишься куда-то.
– Когда это не простирано было? – удивилась Соня, почти всегда стиравшая сама. – Ты уж тоже, мама, скажешь!
Мать легла спать на свою деревянную кровать, накрывшись байковым одеялом. Соня ушла на кухню и стала просматривать «Краткий курс истории партии», потому что на очередном партийном собрании ее должны были принимать кандидатом в члены партии, а она к этому готовилась основательно.







