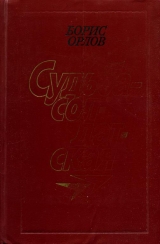
Текст книги "Судьба — солдатская"
Автор книги: Борис Орлов (2)
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 41 страниц)
Глава седьмая
1
Рота Холмогорова, не успев убрать из классов слежалое, разбитое до трухи сено, ушла своей дорогой, а на смену ей пришли другие люди – отряд псковского истребительного батальона. Людей в нем было немного, двадцать шесть человек. Все в отряде выглядело проще, чем в армии. При его организации еще в Пскове люди сами разбились на три группы, выбрали каждая себе старшего. Отрядом командовал лейтенант, присланный из штаба погранотряда. На какое время был он прикомандирован, никто не знал. Не знал и сам лейтенант. Обязанности комиссара исполнял Спиридон Ильич Морозов. Райком так распорядился. «У нас у многих сердца слабые. До срока изнашиваемся… – сказал ему один из секретарей, когда Спиридон Ильич заартачился. – У тебя опыт по гражданской есть. Кому же еще быть политической головой отряда?» Одеты были каждый кто в чем пришел и походили на допризывников, сбитых в кучу для прохождения военной подготовки, что практиковалась перед войной (только винтовки были у допризывников деревянные, а у этих настоящие, хотя и послужившие на своем веку предостаточно).
Когда отряд, придя в Вешкино, остановился у школы, председатель колхоза не захотел пускать его в здание.
– По избам давайте, – грубо сказал он, насупив такие же, как у Спиридона Ильича, густые, нависающие на глаза седые брови. – Что тут у меня, приют? – И, заметив, как поползли желваки по скулам лейтенанта, добавил, явно начиная хитрить: – Школу надо ремонтировать, к зиме готовить. Дети ждать не будут.
Бойцы нахмурились. Не понравилось им отношение председателя. Будто не война привела их сюда, а на досуге время они убивают.
Лейтенант вспылил. Спиридон Ильич отвел председателя в сторону и сказал:
– Ты… что?.. Обстановки не понимаешь? Мы это… ради себя, что ли? На кой нам леший эти пушки нужны бы, если не война? – потряс он винтовкой. – Половина из нас – твоих лет: кто сердечник, кто что… Наше ли дело по лесам да болотам просто так таскаться? А ты… – и укоризненно уставился ему в лицо, на шрам от клинка через весь лоб.
Взгляд председателя остановился на ощеренном носке сапога Морозова.
– Размещайтесь уж, – вдруг сказал он и добавил: – Не стесняйтесь, заходите в правление артели, мало ли что понадобится!
Разместились хорошо. Разравнивая сено, чтобы спать, Спиридон Ильич даже пошутил со своим бывшим приятелем – в одном партизанском отряде дрались в гражданскую войну, – бойцом Фортэ, который в истребительный батальон пришел тоже сам, по своей воле, но, как выяснилось, вояка оказался из-за слабости зрения еще хуже, чем Морозов:
– Ну вот, в школу, считай, нас приняли. Теперь не балуй, учись знай!
Фортэ посмотрел на него сквозь сильно увеличивающие стекла пенсне, улыбнулся и сказал в ответ:
– Намекаешь?.. Кое-как доплелся сам, а все бодришься.
Приставив винтовку к стене, Спиридон Ильич вышел из класса. По-хозяйски оглядел неширокий коридор, раскрыл окна – пусть проветрится. В учительской сказал лейтенанту, который изучал по крупномасштабной карте местность:
– Схожу в колхоз. Может, питанием помогут. И газетку опять же добыть следует – второй день не читали.
– Давайте действуйте, – не переставая смотреть в карту, ответил лейтенант. – Уломайте этого председателя. Может, барашка заколет – не убудет.
Морозов сходил в правление колхоза. Газет не достал – не было. Договорился о барашке. Послал за ним бойцов и вышел на крыльцо. «Умыться бы, пока то да се», – поглаживая острую нерасчесанную бородку, подумал он и поглядел вдоль улицы, отыскивая колодец. Его взгляд остановился на крайней пятистенной избе с высоким летником, резными наличниками и венцами, обветренными временем. Сердце Спиридона Ильича екнуло: в восемнадцатом году в этом доме располагался штаб карателей. «Как его? – силился вспомнить фамилию хозяина дома Морозов. – Нет, запамятовал… Паразит, предатель поганый. Из-за него пол-отряда потеряли… Да-а… А дом стоит, и ничего ему не делается». Спиридон Ильич отвернулся – о колодце забыл. Смотрел на кладбище – тогда его не было. Росли на том месте молодая малина да кустарник… Каратели свалили туда трупы… Тут и захоронили их крестьяне. Потом уж на месте захоронения поставили памятник – сбитые пирамидой доски венчала звезда, вырезанная из жести. Только надпись и была хорошая – в Пскове мастер-ювелир сделал… Так и началось это кладбище… Спиридон Ильич вспомнил, как в пятую годовщину гибели товарищей партизаны, оставшиеся в живых, посадили молодые березки вокруг братской могилы. «Матереют», – подумал о деревьях Морозов. В это время из-за кладбища показался военный. Он шел к школе. Спиридон Ильич спустился с крыльца. Ждал. В фигуре военного, в его походке, движениях было что-то знакомое. Спиридон Ильич протер полусогнутым пальцем заслезившиеся от напряжения глаза и вдруг… узнал. «Да Петр же это! Он!.. Конечно он, чертяка!» – И Морозов торопливо засеменил к нему навстречу. Видел, как Чеботарев сначала замедлил шаг, а потом совсем остановился.
– Петь!.. Петр!.. – кричал отец Вали. – Ну и встреча! – А сердце защемило: куда его несет в одиночку, что с ним случилось?
Он облапил Чеботарева длинными сухими руками, прижался к нему, как к сыну, похлопал по спине. Глаза Спиридона Ильича повлажнели. Не обращая внимания на упавшую с головы кепку, топтался перед Петром, мял его.
– Откуда ты, чертяка? – последнее время Морозов к месту не к месту часто употреблял слово «чертяка».
– Рота наша тут… стояла, – неуклюже высвобождаясь из его рук, ответил Чеботарев – понял уже, что роты здесь нет.
Он наклонился, поднял кепку Спиридона Ильича, держал ее и, думая о том, как потерял Валю, вдруг осознал, что обо всем придется рассказывать старику. «Убьет его эта весть, – Петр даже отвернулся. – Что же делать?» Смяв в руке кепку Морозова, он сошел с дороги. Отдал кепку. Они сели на камень-валун, где Шестунин любил играть в шахматы. Петр поправил пилотку. Смотрел на Спиридона Ильича, который, по-стариковски согнувшись, бил кепкой о голенище сапога, вытряхивая из нее пыль. Это был тот, довоенный, Морозов и не тот. Нос у Спиридона Ильича заострился, лицо осунулось, скулы отливали синевой. Этому Морозову можно было дать и за шестьдесят – старик стариком.
Спиридон Ильич повернулся к Петру и тут заметил, что на рукаве у Чеботарева рваная дыра, гимнастерка и брюки не то в машинном масле, не то еще в чем-то.
– Откуда ты такой? Уж больно того… будто кобели драли.
Петр встал. «Разве можно ему рассказывать что о Вале?» – в тревоге подумал он. Проговорил, ощутив, как пересохло горло:
– Так… С машины свалился. – И добавил твердо: – В батальон пойду. Может, штаб еще на месте.
Морозов тоже поднялся. Сочувственно положил на плечо Петру руку. Вглядываясь в его усталое лицо с ввалившимися щеками и сухими, утомленными глазами, заговорил:
– Ты ел?.. Не ел?.. Ну вот. Тогда давай пойдем к нам, поешь: у меня в мешке краюха есть, сала кусок… А там видно будет. Расскажешь, как служится… Я думал, вы воюете уже. Письма-то получаешь?
Петр видел, как блеснули его глаза, слышал, как дрогнул на слове «письма» голос. «О своих думает», – догадался Чеботарев.
У крыльца Петр сказал Морозову, что писем ни от кого не получал.
В коридоре, у окна, откуда Петр любил смотреть на открывающийся перед школой простор, стоял мужчина в темно-синем однобортном костюме, в изодранных, видно в лесу, штиблетах и протирал пенсне. «Тоже воевать собрался», – с горькой усмешкой подумал о нем Петр и спросил Морозова:
– Чем хоть занимаетесь?
– Как чем? – удивился тот. – Армии помогаем, вам. За порядком следим… Работы много.
Петр почти не слушал – его мучил окаянный вопрос: сказать все же о Вале или не сказать?
В классе – здесь размещался второй взвод роты – Петр сел за парту, придвинутую к стене. Отбивал носком сапога такты приставшей песни «Соловей, соловей – пташечка…». Отбивал медленно, тихо, отчего мотив казался ему грустным. Спиридон Ильич нашарил в большом, обрезанном сверху холщовом мешке краюху и сало. «Бережливый, – узнал Петр мешок – реликвию Морозовых. – С гражданской бережет… Поди, и не думал уж, что носить придется снова».
Ел Петр один. Ел устало, без охоты. Морозов достал из мешка пол-литровую кружку с отбитой во многих местах эмалью, засуетился:
– Сбегаю, может, кто воды принес, – и ушел.
Вскоре Морозов вернулся с кружкой воды. Петр напился, Спиридон Ильич уселся рядом и стал любовно, по-отцовски следить, как лениво жует Петр хлеб и сало. Следил и думал, понимая, что неспроста глаза Чеботарева все уходят в сторону: «Что-то случилось у него».
– Рассказал бы… – попросил он.
– О чем рассказывать-то? – печально поглядел ему в глаза Чеботарев. – Вы тут как?.. Я говорю, тяжело вам ведь… Как здоровье-то?
– Что о нас спрашивать? До здоровья ли, – вздохнул Спиридон Ильич, поняв, что Петр ни о чем не расскажет. – Война идет, в меру сил воюем… Я вот вижу, тебе жалко нас. Думаешь, знать, ноги еле волочим?.. А мы вот уже четверых фашистов на счету отряда имеем. Одного убили, правда. Так сам виноват – не стреляй, когда захватывают тебя.
– Убивать их всех надо на месте, – обозленно вставил Петр. – Как паршивую скотину, безжалостно.
– Да неудобно, когда руки он тянет вверх, – оправдывался Морозов. – А по газетам судя, как они с нами обращаются, то и убивать мало. Согласен… Письма-то были тебе? – спросил он, забыв, что уже спрашивал об этом.
– Письма? – Петр приложил руку к карману и вспомнил, что единственное письмо от отца с матерью осталось в вещмешке. – Да были, – сказал он. – Из дому письмо. Так, ничего особенного.
Глаза Спиридона Ильича, вспыхнув, сразу погасли.
– О своих ничего не знаю. Бомбят все там. Когда стояли ближе, так слышно по ночам было… Валентина-то, чертяка, – не слыхал, поди? – в госпиталь устроилась. Боевитая, непоседа… в меня.
Петр с силой надавил на собранные в шарик хлебные крошки, подумал: «Может, рассказать все же? Попытается найти – я же больше ничего не смогу». Но что-то идущее или от боязни расстроить старика, или просто от стыда, что не уберег ее, удерживало.
– Уходить мне надо, а то как бы и штаб батальона не снялся… – сказал он, почти упрашивая. Знал: посидит еще немного и расскажет все, не выдержит.
– Отдохнул бы. Больно уж ты того, усталый. Да и рукав зашить надо. – Спиридон Ильич встал, взял свой мешок и извлек из него в носовой платок завязанные нитки с иголками.
Уверенности, что следует отдохнуть, в голосе старика Петр не почувствовал. «Сам понимает, что идти надо», – решил он. Неумело Петр начал пришивать выхваченный углом кусок материи. Глянул на зашитую дыру рядом – след от самоволки – и подумал: «Обе – дыры как дыры, а кто поймет, которая от чего».
Закончив, Петр встал.
– Так я пойду, – грустно сказал он.
– О тебе-то я так и не услыхал, – с трудом выговорил Спиридон Ильич.
– Рассказывать не о чем. Вот тут стояли. По лесам за немецкими парашютистами гонялись, как и вы…
Расстались они на шоссе, пустом и мертвом, словно на рассвете.
Пожав Спиридону Ильичу руку, Петр пошел торопливым шагом. Не оглядывался, чтобы не видеть сгорбленной фигуры Морозова. Шел и думал о Вале, терзал свою совесть тем, что не уберег подругу.
…Штаба батальона на месте не оказалось. Петр у колхозника переночевал и рано утром поднялся.
Отказавшись ждать завтрак, он выпил стакан молока и торопливо вышел на безлюдное шоссе. Направляясь к Пскову, с тревогой думал: а вдруг не найдет роту? Может, и в комендатуре не знают теперь, где она находится? Вспомнив, что в казармах еще оставались полковые склады, решил сначала зайти туда.
Мимо, шурша шинами о сухой асфальт, бешено неслась к Пскову колонна военных машин с накрытыми брезентом кузовами. «Боеприпасы, видно, везут», – подумал он и поднял руку. Последняя притормозила, молодой шофер в военной форме крикнул:
– Не положено, видишь, – и кивнул на кузов.
Колонна, пыля, скрылась за пригорком. И снова стало тихо. Поднимаясь, плыло над лесами солнце. Позже стали встречаться беженцы, как вчера, и поодиночке, и группами, а где-то даже целой партией, не меньше той, что была у Крестов. Но беженцы были уж не в диковинку: он не обращал на них внимания, потому что сам находился в положении не лучшем, чем они, да и устали глаза видеть человеческую беду.
В одном месте взгляд его остановился на двух женщинах, и то потому лишь, что они сидели на изуродованной консоли сбитого немецкого самолета и ели. В стороне торчал хвост машины и фюзеляж. На скрученном металле желтела свастика. Петр даже замедлил шаг. Пристально глядел на желтый цвет, и не верилось, что вот так просто можно повергнуть вражескую машину и она будет лежать изуродованной, жалкой.
Женщины заметили, что Петр с таким вниманием смотрит на самолет. Перестали жевать. Петр, встретившись с их глазами – укоризненными, насмешливыми почему-то, – отвернулся и прибавил шагу. Ожило в памяти вчерашнее утро, обстрел, Валя… И чем ближе он подходил к тому месту, где потерял ее, тем настойчивее думы о ней вытесняли из головы все остальное. Наконец… вот и обгорелая машина, сваленная уже кем-то в кювет… Петр остановился напротив пня, где сидел перед убитой девушкой. Рядом возвышался свежий холмик земли – кто-то похоронил… Огляделся, соображая, правильно ли он искал Валю. И вдруг ему показалось, что она могла убежать только в лес, а там, если ранена, упасть и… – это слово он не мог выговорить – «умереть». Оно не укладывалось в его сознании.
С какой-то дрожью в теле Петр сошел с обочины и направился, подминая траву, через узенькую полоску болота по опушке к лесу. Вошел в лес. Мягко ступая по прошлогодней листве, приглядывался. Ждал, что вот наткнется глазами на свежий холмик… Раздвинув кустарник, вышел на тропку, пересек ее и, пройдя через редкий березняк, оказался на опушке. За полем, на небольшом отлогом взгорке, разбросалась деревушка. Петр тяжело вздохнул. Сделав еще несколько шагов, остановился, тоскливо уставился на деревню, будто молил ее сказать правду, которую та должна была знать и поведать ему.
2
Открыв глаза, Валя увидела оконце, уставленное горшочками с цветами, полураздвинутые занавески и сразу все вспомнила. Попробовала повернуться, но, почувствовав острую боль в ноге, притихла. Так лежала она в пуховиках, может, минуту, может, час. Все виделось ей шоссе. Думала о матери, Петре… Боль в ноге поутихла. Валя долго смотрела в простенок неоштукатуренной, бревенчатой стены – на фотографию мужчины, сделанную, видно, очень давно. По сторонам висели фотокарточки поменьше – женщина в платке и парень, в чертах которого угадывалось что-то знакомое. Потом ее взгляд пополз по пазам… В красном углу чуть тлела перед иконами богоматери и Христа лампадка. К глухой стене прижалась русская печь. Напротив печи, у среднего окна, стоял квадратный стол без скатерти. Валя стала припоминать, как попала сюда.
…Глухими, цокающими ударами рассы́пались вокруг Вали пули. Острая, обжигающая боль разбежалась по ноге. Валя увидела кровь… Бросилась с шоссе к лесу – вслед за другими. Выскочила на тропинку. Сколько бежала, не помнила. Остановилась, когда почувствовала слабость. Стараясь не упасть, села на бровку вьющейся между молодыми березами тропы. Пробовала оторвать от подола платья ленту, чтобы наложить жгут, но в руках не было сил. Чувствуя, как теряет сознание, огляделась. Людей нигде не было. Схватившись рукой за жиденькую ветку, начала валиться на бок. Сейчас ей казалось, что тогда она плакала и звала маму… а ветка гнулась, гнулась… И еще: будто окровавленной рукой прижала подол к ране…
Заскрипела дверь.
К кровати подошла женщина лет пятидесяти, в черном платке и темном платье. Перекрестившись, сказала грубым, почти мужским голосом:
– Полегчало, дочка? Бога молю.
– Спасибо, – прошептала Валя.
Женщина погладила ее шершавой, как у мужика, ладонью по собранным в косу спутанным волосам. Спросила:
– Поесть, может, дать? За полдень уж время-то… Надо есть, а то крови вон сколько вышло.
Валя не ощущала голода. При мысли о пище затошнило. Отрицательно покачала головой.
Женщина вышла в сени и скоро вернулась с глиняной кринкой. За печью на кухонном столе она налила в стакан парного молока и принесла его Вале.
– Выпей, – садясь на кран кровати, ласково попросила она. Приподняв голову Вали, поднесла стакан к ее бескровным губам.
– Не хочу, – сказала слабым голосом Валя и, отпив полстакана, положила голову на подушку.
– Тебе больше есть надо сейчас. Сил набираться, – заговорила женщина.
– Как вас звать-то? – спросила Валя.
– Да все теткой Надеждой величают. Зови так.
– Спасибо вам, вы спасли меня…
– Да что уж! Чего тут считать. Я ведь человек, поди… А ты, поди, не помнишь ничего?.. Не помнишь? Ну вот… Иду это с работы – в поле была… гляжу, на тропке-то… ты. А тут уж через поле и деревня наша, рядом. Побежала за соседкой. Врачует она у нас… Ты без памяти, значит, была. Я-то не понимаю, а соседка, она мастер лечить. У нас все к ней идут, как занемогут чем… Ну, вот… Оглядела она тебя. Нога не сломатая. Так, рана одна. Перепугалась ты, наверно… Приложила она к ране что-то, да и сюда, ко мне перенесли тебя.
Тетка Надежда подняла на икону в углу глаза и зашептала молитву. Валя глядела на ее губы и старалась понять, что она шепчет. Валин взгляд был нежен и добр – не такой, каким она окатывала свою мать, если заставала за молитвой, хотя мать ее и молилась от случая к случаю, больше из суеверного предположения, что коли бог есть, то услышит, а нет, так не переломится она оттого, что перекрестилась.
Помолившись, тетка Надежда снова подала Вале стакан.
– Допей, – сказала она, вздохнув. – Чуть и осталось. Не выливать же добро, грех.
Валя покорно взяла дрожащей рукой стакан. Приподнялась, искривив от боли лицо. Тетка Надежда придерживала одной рукой ей голову, другой помогала держать стакан. Валя с трудом глотала парное молоко. Выпив, откинулась на подушку и спросила, начав сомневаться во врачебных способностях соседки:
– А фельдшер хоть у вас есть в деревне? – и стала думать о красноармейце, который умирал от гангрены в госпитале, где она работала.
Фельдшера в деревне не было. Все здесь, оказывается, лечились сами – травами да заговорами. И только по большой надобности, когда эти средства не помогали, люди ехали в Псков.
Тетка Надежда встала. Отнесла стакан за печь. Вернулась. Постояла над кроватью. Потом сказала, что побежит в правление, и ушла. Валя уснула. Сквозь сон слышала, как то приходила, то снова уходила куда-то хозяйка. Изредка открывала глаза. Бездумно глядела в черный от копоти потолок и не замечала, как глаза снова закрывались и ею овладевал сон. Сон часто прерывался – пулевая рана в икре ныла и при малейшем движении «стреляла», давая о себе знать. Нога казалась деревянной, чужой. Вале хотелось повернуться на бок, согнуть в коленке ногу. Не решалась. Когда сон больше уже не приходил, а тело отекло и лежать стало невмоготу, Валя осторожно приподнялась на локте, стала поворачивать раненую ногу. Жгучая боль разбежалась от икры вниз и вверх по ноге… Валя все-таки повернулась на бок. Уснула. Проснулась, когда в комнате стояли сумерки…
Нахмурившись, долго глядела в темноту, прислушиваясь. Не то из сеней, не то откуда-то через окно или полуоткрытую на крыльце дверь доносился неясный шепот. Женский голос, более громкий, принадлежал – узнала Валя – тетке Надежде, а другой – мужской, приглушенный – почти не доходил и скорее угадывался по паузам да ворчливому и злому шипению.
Когда утром Валя открыла глаза, то первое, о чем она вспомнила, был таинственный ночной шепот. «Или померещилось? – подумала она, не доверяя себе. – Может, бредила?» – и пощупала лоб. Лоб показался холодным. «Разве своей рукой определишь, есть или нет температура?» – вздохнула Валя и стала прощупывать пульс, зажав большим пальцем артерию на руке выше кисти. Пульс был частым. «Температурю», – подумала Валя. Но боль в ноге ослабла, и она радостно улыбнулась.
Прошла из сеней с ведром картошки тетка Надежда. Валя слушала, как она гремела за печью кастрюлями, и все думала: что это – сон был или хозяйка действительно с кем-то шепталась?
Хозяйка еще несколько раз выходила и входила в избу. Потом стала топить печь. И тут впервые Валя как следует разглядела ее.
Тетка Надежда была женщиной невысокой, но телосложения крепкого. Тугая коса, уложенная на затылке в большой пучок, выпирала из-под черного ситцевого платка. Сейчас на ней была серая кофточка и длинная черная юбка. Обута тетка Надежда в мужские сапоги, никогда, видимо, не чищенные и уже сильно поношенные.
Почувствовав на себе взгляд, тетка Надежда повернула к Вале строгое, с узким подбородком и толстыми губами лицо. Она улыбнулась Вале, но улыбка тут же, едва появившись, сошла с лица. Отвернувшись опять к печи, тетка Надежда сказала:
– Полегчало?
– Полегчало ровно, – в тон ей ответила Валя и, подумав, что звать хозяйку теткой Надеждой все-таки неудобно, спросила: – А как ваше отчество-то?
– Семеновна, – орудуя в топке ухватом, проронила хозяйка и, снова повернувшись к Вале, полюбопытствовала: – Откуда будешь-то?
– Из Пскова я. – И Валя рассказала ей все: и как они с матерью решили уехать в Лугу, и о том, что отец их где-то в истребительном батальоне, словом, все, что знала о себе и своей семье.
Надежда Семеновна, поставив в печь чугун и две кастрюли, подошла к Вале. Скрестив на груди крепкие руки, стояла так, о чем-то думая. Валя молчала. Грустно смотрела на противоположную стену, где висели фотографии. Вспоминала о матери и отце. Еле сдерживала слезы, потому что хозяйка казалась ей такой же ласковой и доброй, как мать.
– А кто это на фотографиях у вас, – спросила Валя, чтобы только о чем-то говорить, так как боялась, что Надежда Семеновна опять уйдет, и останется она одна тут, в чужой избе.
– На фотографиях-то? – Хозяйка будто даже удивилась: – Семья моя это. В середке, там муж. Считай, что и не жила с ним: как забрали в армию белые в революцию, так и сгинул, а это сын… Сын у меня есть. Ладный сын, – и заулыбалась, вытирая углом платка нос. – Вся жизнь в нем теперь. Пришел вот, увидишь, – и села к Вале на кровать, вдавив постель до перекладины. – Все образуется, господь бог милосерден. И ты найдешь своих. Мама твоя в Луге, поди уж, да и отец где-нибудь так же…
Надежда Семеновна снова, как вчера, гладила Валю по голове, спрашивала, болит ли нога, не перевязать ли рану? Валя отнекивалась, боясь бередить ее, а сама думала, что перевязать бы надо… Больше всего она страшилась гангрены.
В это время в дверях показался парень, похожий на Надежду Семеновну. Он переступил блестевшими черными штиблетами через исшарканный порог и остановился. На нем были темно-синие с острой стрелкой брюки и темно-синяя тенниска. Валя глянула на него и… обомлела. Жмурясь, она с силой свела веки. Открыла глаза. Снова закрыла. «Не может быть!» – пронеслось в голове ее. Но это был действительно Саша – Саша Момойкин.
– Вот он, сын мой! – с гордостью произнесла Надежда Семеновна и увидела, как смутилась Валя. – В Пскове жил… Приехал вот. Встречались, что ли?
Забыв о боли, о том, что лежит в одной рубашке, Валя приподнялась на локте и, уставив на Сашу остекленевшие, широко раскрытые глаза, спросила полушепотом:
– Оставили… Псков?
Саша молча подошел к кровати, взял Валю за плечи и уложил на подушку, прикрыв ей грудь одеялом. Сказал, стараясь подавить свое замешательство:
– Лежи. Отчет после дадим…
А Валя ждала ответа. Щеки ее горели нездоровым румянцем. Надежда Семеновна женским чутьем поняла, что лишняя, и ушла за печь. Саша сел на место матери, взял неизувеченной рукой Валину руку.
– Что же ты молчишь? – Не отнимая руки, тихо сказала Валя. – Совсем там плохо, что ли? Как ты оказался здесь?
– Плохо, – соврал Саша, боясь, что она может его упрекнуть за то, что убежал из города. И сбивчиво заговорил, переменив тему: – Представляешь, какая встреча! Как в романе… А мне мама говорит о тебе ночью, когда я пришел, а я думаю… О чем думаешь, я думаю? О тебе думаю. Куда, думаю, занесла тебя судьба?.. Куда забросило?..
Валя вспомнила последнюю с ним встречу в горкоме. Высвободила руку.
Из-за печи вышла Надежда Семеновна. Пытливо уставив на них глаза, она всплеснула руками, шлепнув ими по крепким, мясистым бедрам. Все в ней так и говорило: «Вот бы пара была!»
– Да вы, никак, знакомы уж? – услышали они ее голос.
– В горкоме вместе работали, мам, – поднялся с кровати Саша. – Морозова, Валя. – И шутливо: – Конфликтует все со мной… на личной почве… А я ее люблю, вот и все.
Валя поморщилась, краснея. Придержав одеяло одной рукой, приподнялась на локте и, пересиливая пронзительно разбежавшуюся по ноге боль, спросила:
– А ты не удрал?
Саша резко повернулся к ней. Лицо его стало непроницаемым – такое оно бывало у него тогда, когда он сидел на совещаниях или разговаривал с людьми ниже себя по должности.
– Ляг, Валя, – по-хозяйски сказал он. – Что бежать-то? Ты речь товарища Сталина не знаешь… В Пскове слышно, как стреляют пушки. Того и гляди, фашисты здесь будут.. Гибель идет. Конец.
– Как… гибель?! – крикнула Валя, следя за рукой Надежды Семеновны, отмахивавшей кресты – молилась. – Где эта речь? У тебя есть она? – Забывшись, Валя сбросила с себя одеяло и, как была в рубашке, свесила с кровати ноги, встала и, перекосившись от боли, тут же села. Заплакала.
– Ты сдурела? – укладывая ее, сдержанно говорил Саша. – Нет у меня этой речи! На черта она? Речь, речь… Речью немца не остановишь. Теперь пушки нужны, самолеты, танки…
Валя не слышала его слов. Она плакала. Плакала навзрыд, представив вдруг, что действительно всему, что она любила, без чего не мыслила свою жизнь, – всему этому пришел конец. В голове ее путались слова, сказанные Сашей, со своими мыслями: она могла поверить чему угодно, но тому, что когда-либо мог наступить конец Советской власти, – этому она верить не хотела, не могла, боялась поверить, потому что, сколько помнила себя, знала, что Советская власть – народная власть, а народ – всю жизнь учили ее, и она так считала – победить нельзя и нельзя уничтожить. И к этой мысли она привыкла, как дети привыкают к родителям и носят в себе любовь к ним до конца дней… Валю начало знобить. Потом бросило в жар. Надежда Семеновна захлопотала. Принесла и положила на голову мокрое полотенце. Охала. Саша ушел за печь. Что-то пожевав там, вышел из комнаты в сени…
В беспамятстве Валя била сжатым кулачком по мягкой перине и тихо выкрикивала:
– Где эта речь?
Надежда Семеновна сходила к соседке – та была на работе в поле. Вернувшись ни с чем, обессиленная окончательно и растерянная, она встала перед красным углом, еле освещенным бледным пламенем лампадки, и, поедая глазами лики Христа и Богоматери, исступленно начала молиться. Молилась долго. Став на колени, била в поклонах лбом о крепкий выскобленный пол. Ее взгляд, окаменело застыв на образах, казалось, уносил всю ее, ограждая от зла, куда-то в другой мир, где все было просто и ясно устроено, где добродетель исцеляла страждущих и они жили тихо и отрешенно от всех сует, готовые по первому зову чьей-либо грешной души пойти ей на помощь…
Помолившись, она поднялась. Глядела на Валю, как на родную дочь. За вздохами и слезами вспоминала нелегкую свою жизнь. Когда мужа мобилизовали конники Булак-Балаховича, остался у нее на руках несмышленыш Сашка да дочка, родившаяся месяца три назад… Так и мыкалась. Одна мыкалась с ними. Все ждала, придет муж, а потом и перестала ждать… Только исступленней все отвешивала поклоны иконам да старилась вместе с ними…
Надежда Семеновна посмотрела на фотографию мужа в простенке между окнами – она знала на ней каждый штрих, каждую точку, насиженную мухами. В расшитой белой холщовой рубахе с откидным воротом, глядел он на нее немного испуганными, покорными глазами, вздернув острый обросший подбородок. Лоб, нос сильно походили на Сашины. Только глаза да губы у сына оставались ее, материнские, да сам он был такой же, как она, коренастый, широкоплечий. «Был бы ты с нами, – прошептала Надежда Семеновна горько, – может, наша Таня и выжила бы».
Валя снова начала бредить. Обессиленно что-то выкрикивала. Надежда Семеновна вдруг решила: «Надо Сашку послать за соседкой в поле», – и пошла в сени.
Сына она нашла в огороде. Он сидел на старом, полусгнившем чурбаке – остатке от давно сваленного тут ветром вяза, которому было бог знает сколько лет. Возле Саши лежал пес – дворняжка белой масти с черным пятном вокруг одного глаза. Саша тихо гладил по шее собачонку, которую еще щенком притащил в дом и назвал Трезором.
3
Петр долго стоял против деревни, где потерял Валю. Не заметил, как вошел в гречиху между лесом у шоссе и избами. Остановился. Подумал: «Да что я! Разве теперь найдешь ее?» Подумал и, резко повернувшись, твердым шагом направился через лес к шоссе. «Роту найти надо, а не пустым делом заниматься», – ругал он себя, поднимаясь на обочину.
Шел минут десять – двадцать по безлюдному шоссе. Солнце начинало припекать спину. Гимнастерка прилипла к лопаткам. Когда за спиной что-то затарахтело, Петр, не сбавляя шага, повернул на звук голову: за ним, пристраиваясь к нему, полз мотоцикл с коляской. В коляске, придерживая укрепленный ручной пулемет, сидел ефрейтор, а за рулем – лейтенант. «Командир связи», – догадался Петр.
– Куда, сержант? – крикнул лейтенант, когда мотоцикл поравнялся с Чеботаревым, и улыбнулся.
– В Псков, товарищ лейтенант, – ответил на ходу Петр.
– А я в Остров. Садись. До Крестов подвезу, а там рукой подать, – и затормозил машину.
Петр, радуясь неожиданной удаче, быстро сел в седло.
Поехали с ветерком. Лейтенант все время что-нибудь рассказывал, шутил – громко, чтобы слышал Петр, выкрикивал слова. Петр понял его по-своему. «Все в дороге, – рассудил он, – без людей скучает, а свой поднадоел изрядно, видать», – мельком глянул на ефрейтора, дремавшего в люльке. Спросил, как идут дела на фронте.
– На фронте? – лейтенант даже обернулся. – Об этом солдат не должен спрашивать: немец наступает – мы отступаем, мы наступаем – немец отступает… Война, как еще она может идти?.. Так и воюем.
Сбоку, замаскировавшись в старом еловом лесу, стояла колонна военных автомашин. По лесу, рассыпались солдаты. Глянув на них, лейтенант крикнул Петру:
– Немец научил: боятся теперь днем ездить. Авиации его боятся… А я вот не боюсь. Все езжу – ничего. Что ее бояться?.. Волков бояться – в лес не ходить.
Почти сразу после колонны, за некрутым поворотом, солдаты расчищали шоссе: немцы разбомбили колонну автомашин. Обгорелые полуторки опрокидывали в кюветы. Лейтенант, съехав с шоссе, погнал в объезд. Зазмеился проселок. В одном месте сидели на траве и жевали черные ломти хлеба женщины. Лейтенант притормозил, крикнул им:







