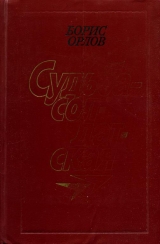
Текст книги "Судьба — солдатская"
Автор книги: Борис Орлов (2)
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 41 страниц)
– У-у, гад…
Афанасий, желая, видно, Матрену выгородить, примиряюще произнес:
– Ну что бабенку мучить? Темная она… Советы над ней измывались, а теперь…
Матрена повернула к дезертиру залитое кровью лицо. Не отнимая от носа руки, посмотрела на Афоньку, вымолвила, не дав ему договорить:
– Иуда ты проклятый! Дезертир несчастный! – и потупила глаза, в черноте которых не то плескалась обида, не то горел стыд.
Старичок лет восьмидесяти с белой от седины бородой сказал, обращаясь к старшему полицаю:
– Что же это получается?! Разве так можно? Ето разве ослобожденье? Нет, ето… – и смолк, увидав, как начальник над полицаями потянулся к нему рукой с растопыренными желтыми пальцами.
Люди тихо загалдели. Полицаи, насторожившись, подскочили от подводы к скамейке. Валя, протиснувшись к Матрене, тянула ее за полу поддевки. Шептала:
– Давай сюда, – но та не сдвинулась.
Старший полицай выволок за воротник шубы упирающегося старика к скамейке. Зверовато глянув на людей, крикнул:
– О розгах забыли! – И старику, мотнув очками на голый куст сирени за скамейкой: – Марш! Ломай прутья. – Он толкнул старика к кусту, посмотрел на полицаев, рявкнул народу: – За-се-ку-у! – Походил вдоль скамьи, посмотрел, как старик ломает прутья, успокаиваясь, заговорил снова: – Было таких много… Вон… В лесах… Всем партизанам пришла крышка. Всем! А вы? – И зыкнул: – Туда же норовите?
Валю охватила тревога – за отряд Пнева, за Петра, за отца… «Может, и за одеждой поэтому никто не приходит? – рассудила она и вдруг усомнилась во всем, что сказал этот предатель о партизанах: – Врет он. На страх берет. Стращает». А полицай пониже ростом толкал уж старика от сирени. Тот, запнувшись в длиннополой шубе, упал. Поднялся. Подойдя к старшему полицаю, протянул ему прутья. Рука его мелко дрожала. Гневно проговорил:
– Держите, ваш благородие, или как вас там, разлюбезный… Не знаю, как вас там вели́чат… эти… ослобонители-то ваши.
Старший полицай вырвал из рук старика прутья и сунул их полицаю. Старик, не дожидаясь, начал скидывать с себя шубу. Скидывал, а сам продолжал с нотками издевки в голосе:
– Уж и не припомню, когда пороли-то нас. При царе, сказывают, только… – И вдруг, начав было снимать рубаху, остановил на старшем полицае несмирившиеся глаза: – Я позор такой снесу – в могиле уж одной-то ногой. Что мне! Ето вам… О себе бы подумали… В Росею ети… как их… ослобонители… много раз наведывались, да потом, как молвит люд, салом пятки смазывали, а то и еще похлеще – головы свои басурманские клали здесь. А вот ваш брат… ему завсегда одна дорога… Ему некуда было… улепетывать-то… Его завсегда… – и обжег матерными словами представителя новой власти.
Старший полицай не вынес. Взревев: «Большевик!» – он приказал полицаям валить старика на скамейку.
Те, передав винтовки полицаю пониже ростом, схватили старика под мышки, приподняли и бросили на затоптанную, грязную доску. Их же начальник, сунув наган под ремень, выбирал прутья пожиже. Слушая, как старик выкрикивал: «Какой ето я большевик? У меня одна партея – Росея. Русский я, вот и вся моя партея!..» – сунул отобранные прутья полицаю и проговорил, глотая со слюной последнее слово:
– Двадцать розог…
Старика держал один из полицаев, хотя он и не барахтался – только задирал кверху подбородок и что-то выкрикивал. Слова его тонули в поднявшемся ропоте и причитаниях родственников.
С первыми ударами прутьев толпа качнулась и замерла. Подернутые ненавистью лица крестьян уставились на начальника полицаев. От людей что-то передалось Вале. Остановив похолодевший взгляд на вздрагивающей от ударов спине старика, она вдруг сунула за пазуху руку. Не помнила, как выхватила пистолет. Выстрелив почти в упор в старшего полицая, звонко выкрикнула:
– Бейте их, гадов! – и бросилась вперед.
Люди – будто только этого знака и ждали – кинулись на гитлеровских холуев. Матренин сосед вырвал из рук полицая винтовки. Полицаев сбили с ног… Мужики пинали их в бока, в животы…
На старшего полицая насели бабы. Матрена, не простив обиды, вцепилась ему в горло. Под сильными пальцами хрустел кадык… Гитлеровский прислужка пучил на нее тускнеющие глаза, на одном из которых, свисая с ресницы, стыла крупная, как горошина, кровяная капля…
Люди пришли в себя минут через пять. Сначала бросились было разбегаться по избам. Но тут Матренин сосед крикнул:
– Куда же вы?.. Узнают – засекут ведь!
Все остановились. Нехотя, как с повинной, стали возвращаться к скамейке. Отворачивали глаза от убитых полицаев и их начальника, потому что трупы напоминали о страшных минутах возмездия.
Кто-то заметил, что нет Афанасия. Побежали за ним.
Валя только сейчас поняла, что произошло и чем грозит деревне происшедшее. Она шепотом попросила Матрену увести дрожавшую Варвару Алексеевну, а сама присоединилась к мужикам, решавшим, как быть дальше. После небольшого спора договорились: убитых на их телеге отвезти за взлобок, к ручью, и, повернув подводу оглоблями в эту сторону, бросить. Тележный след от ручья к деревушке и обратно порешили затоптать. Выделили мужиков, и те поехали. Когда расходились, привели Афанасия. Один мужик сказал ему нарочито громко:
– Смотри, вместе дело делали – вместе и след заметать будем, – и, сунув Афанасию грабли, приказал заравнивать тележную колею.
Матренин сосед, подойдя к Афанасию, пригрозил:
– Учти: искупать измену надо делом. Чуть что, так ты тоже соучастником был…
Валя уходила со всеми. У крыльца обернулась. Глядела, как удаляется к взлобку воз с властью, за которым топали мужики, тщательно размешивая в колеях граблями густую грязь.
В избе Варвара Алексеевна тихо плакала. Во рту у Вали стало сухо.
– Успокойся. Теперь не воротишь, – проговорила она, уронив голову.
– Не воротишь, знамо, – Варвара Алексеевна подняла на дочь глаза. – А ты, прежде чем стрелять-то, подумала о матери?.. А ну, как нагрянут? Куда мы теперь? – И к Матрене: – Вот так всю жизнь и маюсь. Счастья не видела. Для детей живу, а они… Мне своя жизнь что? Я прожила свое. Хочется, чтобы они жизнь увидели.
Валины брови поползли к переносью, губы упрямо сжались и стали напоминать отцовские. Она сказала:
– Увижу еще. – И прошептала: – Что мне даст такая жизнь, как сейчас? Розги?
– Не бури глазами-то, – остановив взгляд на лице дочери, проговорила Варвара Алексеевна. – Я ведь любя все это… Жалко мне тебя. Жизни для тебя хочется, – и, будто Валин поступок нуждался в ее оправдании, вдруг рассудила, имея в виду немцев: – Они кого хошь из себя выведут. Терпенью тоже есть конец. Правда. Я вот старая, а и то… Насмотрелась в Луге-то… да и натерпелась…
Через час-полтора в сенях послышались шаги. В избу, пропустив вперед Шарика, вошел Матренин сосед с винтовкой полицая. Объяснил, что некоторые из деревушки уходят в лес. Матрену предупредил, чтобы если что, так знать дала. Рассказал, где их искать в лесу… Посоветовал примкнуть к ним и Вале. Дескать, мало ли что гитлеровцы задумают, когда узнают о расправе, а в лесу, мол, надежнее, да и стыдно быть в стороне от борьбы с гитлеровцами. После этого он смолк. Въедливо всматривался в Валины глаза, старался понять ее мысли.
– Смотри, ты девка боевая, – сдерживая голос, проговорил он наконец. – Решай. Помехой не станешь… И починить у кого что… Щи сварить какие… Решай.
Вале сразу вспомнилась жизнь в отряде отца, разговоры Фортэ о том, что вот он подучит-де ее и сделает кашеваром, а сам за мужское дело возьмется – воевать с гитлеровцами. Думала, горько усмехаясь в душе над тем, что снова прочат ей ту же участь… Ожило в памяти и Залесье, Саша – ушел бы вовремя и не погиб. Жалко стало его, а еще обидней показалось вот так же нелепо погибнуть самой. Поняла: оставаться в деревушке сейчас ей опасно. «А где же теперь не опасно, если ты не шкурник?» – вдруг возмутилась Валя, поймав себя на том, что думает лишь о себе. К ней подошла Матрена.
– Может, и правда уйти тебе с ними, а? – проговорила она негромко.
– Вот что… – Валя смотрела на мать, которая, чувствуя, что дочь уйдет, подперла сухим кулаком лицо и молча глядела на нее скорбными глазами. – Пойду… А ты, – она обращалась уже к Матрене, – как придут связные, дашь знать. Буду пробовать попасть к Пневу. Там и Петра встречу… Дашь?
Матрена утвердительно кивнула головой.
Сосед вышел на крыльцо.
Валя быстро надела ватные брюки, сапоги, фуфайку. На голову накинула теплый платок. Браунинг сунула в боковой карман. Прощалась с матерью и не верила, что перед ней мать, потому что Варвара Алексеевна вела себя очень с держанно, не плакала, а широко раскрытые глаза ее будто говорил: иди, дочь, надо идти – на печи лежать и правда теперь не время.
Они уходили гуськом – семеро мужиков и она, Валя. Впереди шагал по лесной дороге, ведущей от деревушки на север, Матренин сосед. Неуклюже шагал. Ноги переставлял тяжело, не разбирал, где грязь, где сухо. Говорил частившему за ним парню лет шестнадцати:
– Ничего… мы еще свое возьмем: не мы от гитлеровцев, а они от нас драпать будут…
Он не договорил – замер на месте, приглядываясь к чему-то впереди. Разглядев на дороге колонну немцев, предостерегающе поднял руку и, пригибаясь, шарахнулся в сторону, к неглубокому оврагу, заросшему кустарником и высокой некошеной травою. Другие, тоже пригнувшись, бросились следом.
Валя упала за молодой куст орешника, в траву. Вскоре увидели гитлеровцев. Впереди с автоматами и ручными пулеметами на изготовку ехало пятеро всадников. Следом за ними, немного приотстав, тряслись на конях офицеры, а за ними солдаты… От усталости кони еле шли. Вслед за отрядом ползли телеги. На первых лежали, подмяв под себя сено, раненые немцы.
С чувством злой радости глядела Валя на гитлеровцев. «Вот кто-то угостил! – думала она. – Да наши, наверно? – И вдруг в ней эта мысль утвердилась: – Конечно, наши, партизаны. Кому еще? Кому?»
На последних подводах навалом лежали убитые гитлеровцы. С ними же ехал, привалившись спиной к трупу, парень в красной от крови нижней рубахе. Руки у него были прикручены к туловищу веревкой. Голова его держалась нетвердо, свисала набок… Всмотревшись, Валя признала в нем партизана из отряда Пнева – Непостоянного Начпрода. И сердце ее будто остановилось. Она машинально поднесла к губам руку, закусила палец. Вспомнились зловещие слова старшего полицая о разбитых партизанах. Тут же подумалось о Петре. И словно не губы ее прошептали, а душа издала стон: «Так вот что?!» Оцепенев, широко открытыми глазами смотрела Валя на медленно движущуюся телегу. Старалась понять, что с отрядом Пнева, потому что в гибель его не верилось, и как Непостоянный Начпрод оказался в плену. Глаза ее начали вдруг сужаться и моргать – их застилали слезы. И тут сознание ее прожгла мысль, что отряд выдал Провожатый. Эта догадка была такой неожиданной, что в нее сначала не верилось. Наконец, утвердившись в ней, Валя вырвала изо рта закушенный до крови палец и подумала, с ненавистью обращаясь к Провожатому: «Ты! Конечно, ты!.. Ведь мама же говорила, как при облаве… Тебя схватили, а ты… Кто же, как не ты, выдал, негодяй!» И после ухода от отца она впервые, вот в этот момент, по-настоящему поняла, как ненавидит и гитлеровцев, и их прихвостней. А с этим – неожиданно для нее – наступило успокоение. Вместо боли, отчаяния росло какое-то новое, не изведанное доселе чувство – когда все ясно, нечего ждать от настоящего, а будущее, что бы оно ни сулило, предстает определенным, заранее принятым разумом и совестью.
В этот день в избе Матрены не шили. С неохотой отобедали. Варвара Алексеевна, сославшись, что ноет спина («Не к снегу ли?»), убралась на печь. Матрена, позвав с собой Шарика, ушла в поскотницу – выкидывала наружу скопившийся в углу навоз, растаскивала его по огороду. Растаскивала, а сама нет-нет да и поглядывала на взлобок – ждала, вот покажутся немцы… И немцы появились. Только появились они не оттуда, а на дороге, бегущей к деревне от леса. Матрена кинулась в избу.
– Гитлеровцы, – проговорила она полушепотом, и Варвара Алексеевна – не спала еще – стала спускаться с печи.
Обе они подошли к окну, смотревшему на крыльцо. Ждали. И когда немцы показались, Варвара Алексеевна удовлетворенно вздохнула:
– А и потрепаны же!
Лицо Варвары Алексеевны напряглось и сделалось суровым и жестким.
Многие солдаты были перевязаны, и свернувшаяся кровь чернела на бинтах пятнами. В седлах большинство сидело, понуро свесив головы…
Матрена тянула Морозову за рукав в глубь комнаты. Под крыльцо, делая большие прыжки, метнулся откуда-то из-за дома Шарик. Варвара Алексеевна, отступая от окна, шептала, будто произносила проклятие:
– И собакам от вас спасу нету.
Они стали возле печи. В окно было видно, как колонна рассыпалась.
– По избам направляются, – тоскливо произнесла Матрена.
– Как же, не жрамши, поди, – с озлобленьем в голосе сказала Варвара Алексеевна и снова подошла к окну.
Шарик, высунувшись наполовину из-под крыльца, боязливо затявкал. Варвара Алексеевна посмотрела на собаку и вспомнила о своей семье. Ярко представилось ей знакомое до мелочей улыбающееся лицо мужа – Спиридона Ильича. Это видение сменилось другим – видением Вали, а потом сыновей, Данилы и Евгения… Варвара Алексеевна зажмурилась. Когда открыла глаза, то увидела, как к дому подходит офицер, – Шарик, наверно, спрятался под крыльцо. Она смотрела, как гитлеровец на ходу вынимал парабеллум. Видела, как возле крыльца он остановился. Сказав что-то подошедшим солдатам, офицер нехорошо улыбнулся и выпустил всю обойму в крыльцо.
В избу офицер вошел в сопровождении солдат.
Бросив на Варвару Алексеевну и Матрену злой взгляд, он сказал что-то солдату, и тот угрожающе проговорил по-русски:
– Зольдат хотчет кушайт.
От одного вида немца Матрену взяла оторопь. Разводя руками, она пробовала объяснить, что приходил обоз и все забрал. Солдат не дослушал. Схватил Матрену за руку. Выворачивая руку, повел из комнаты. Офицер шел следом.
Варвара Алексеевна, окаменев, опять стала смотреть в окно. Услышала истошный Матренин крик из поскотницы:
– Парша же!.. Пропаду я без нее!..
Два солдата гнали к крыльцу Чернушку. Чуть сбоку семенила, сжав ладонями искаженное от горя лицо, Матрена.
Возле крыльца немцы корову остановили. Третий солдат принес из сарая топор. Примерившись, он изо всей силы ударил скотину обухом между рогами. Чернушка, теряя равновесие, грохнулась на землю. Не дожидаясь, покуда она умрет, и, не свежуя, он стал рубить ее на части, которые тут же растаскивали по избам подходившие гитлеровцы.
К Матрене внесли заднюю ногу. Солдат следом втолкал обалдевшую Матрену. Взяв с кухонного стола нож, он сунул его ей в руки и приказал сдирать с ноги шкуру и готовить из мяса жаркое. При этом он пересыпал немецкую речь русскими ругательствами и жестикулировал, показывая то на сковороду, то на печь.
Матрена принялась за дело. Из ее глаз, когда она жмурилась, выкатывались крупные, тяжелые слезы. Нож в руке вздрагивал. Не слушался.
Ждавшие жаркого солдаты бросали на Матрену нетерпеливые взгляды. Устало посмеивались. Изредка говорили друг другу что-то по-немецки. Лица их были, очевидно, не мыты несколько дней и лоснились от пота и грязи.
Мясо ели они еще недожаренным. Уехали, как только поели. К Луге. Им было не до жителей деревушки – они походили на драных, полуголодных волков и спешили засветло добраться до своего логова.
На уезжавших гитлеровцев тревожно поглядывали из окон – понимали, что у ручья те наткнутся на телегу с убитыми полицаями. Уцелевший каким-то чудом Шарик выполз из-под крыльца и лихо лаял им вслед, пока они не скрылись за взлобком.
В избах после гитлеровцев остались только кости от полуобжаренной Чернушки и грязь, которую они нанесли сапогами, а по улице – разбросанные охапки сена из крестьянских стожков, кучки конского навоза да потроха от Чернушки у Матрениного крыльца.
Остаток этого дня Матрена просидела пришибленной на лавке в избе, а Варвара Алексеевна убирала: скоблила стол, как это любила она делать по субботам у себя, в Пскове; брезгливо отшаркивала голиком грязь от пола, а потом смывала ее чистой колодезной водой; выносила в сарай ненужные теперь кринки для молока. Работала с остервенением – так, что немела спина. Работала и думала то о Вале, то о муже и сыновьях. Не могла никак представить, что сулит каждому из них судьба. И понимала – отчетливо, ясно – только одно: встреча их всех, если ей суждено сбыться, зависит лишь от того, как скоро перестанут хозяйничать на родной земле гитлеровцы.
Глава седьмая
1
Сентябрь был дождливый. Разбухали проселки. Становились непроходимыми тропы. А дождь с короткими перерывами лил и лил… Опадали листья. Рябина, оголяясь, краснела и обжигала глаза. На уставшего Петра находили минуты, когда он начинал зло смотреть в покачивающуюся впереди спину Семена. Оборачивался назад. Окидывал тяжелым взглядом Момойкина и бойцов, уцелевших от отряда Пнева после «бани». Порой казалось, что к лужанам Разведчику никогда их не привести. Вспоминал, как выбирались из болота возле пневского лагеря, как пришли на место, где Семен встречал лужских партизан раньше. Дошли они туда к вечеру и увидели… пустые шалаши с вытоптанной вокруг травой. «Ушли», – проговорил, смахивая рукавом фуфайки с лица пот, Разведчик и стал вслух прикидывать, куда могли они перебазироваться. Пунктов таких наметил он четыре. За неделю скитаний они побывали в трех. И вот шли к последнему. За эти дни все страшно исхудали: ели редко и не сытно, потому что заходить в деревушки и на хутора всей группой побаивались, а тем, кто заходил, продуктов крестьяне отпускали в руки скупо.
Лужан не оказалось и на последнем предполагаемом месте. Сделали привал. Съели остатки сала и хлеба. Семен, совсем растерявшийся, предложил пойти к знакомому леснику, который жил отсюда верстах в десяти у затерянного в лесах озера.
– Обсушимся… Наедимся вдоволь, а потом… и ночь в сухости проведем.
Он говорил виновато, хотя ни перед кем не был виновен, и про себя думал: «Может, леснику и известно, где лужане».
И они пошли.
Километрах в четырех от избушки лесника их остановили трое вооруженных парней и девушка. Они потребовали бросить оружие и поднять руки. Чеботарев раздумывал, что делать. Медлил, выигрывая время. В этот момент и послышался из-за его спины обрадованный голос Семена:
– Настя, ты что, не узнала? – И Семен пошел навстречу девушке, опустив автомат дулом вниз. – От Пнева мы, – говорил он, уже здороваясь с ней за руку.
Настя была знакомой Семена по Луге. Некрасивая, с большими толстыми губами и сплюснутым широким носом, она застенчиво трясла Семену руку и краснела. Семен приветливо поглядывал на нее, низенькую, одетую в легкое демисезонное пальто и стеганые брюки, посмотрел на синий берет, из-под которого торчали две жиденькие косички, заглянул в карие, глубоко сидевшие глаза.
Когда пневцы со всеми поздоровались и Чеботарев объяснил, в чем дело, старший лужан попросил Настю отвести их в штаб истребительного батальона, который теперь назывался Лужским партизанским соединением.
Всю дорогу Семен, не переставая, разговаривал с Настей. К нему вернулась живость – будто и не измотался за эти дни.
Пока шли, их дважды останавливали постовые.
Штаб располагался в замаскированной кустами землянке с плоской крышей. В землянке стоял полумрак. Чеботарев долго привыкал к нему. Постепенно стали различаться предметы, люди. В дальнем углу виднелось растянутое знамя Лужского райисполкома. Ближе, у стены, попыхивала железная печурка, а напротив нее пустовали застланные соломой нары.
В землянке находились трое: капитан пограничных войск и двое штатских, один в фуфайке, а другой в костюме.
Капитан, отпустив Настю, предложил пневцам садиться. Чеботарев остался стоять. Начал докладывать, что случилось с отрядом Пнева. Капитан хмурился, а те, двое, поднялись со скамейки возле стола и так стояли, пока Чеботарев не кончил.
Пауза длилась минут пять. Наконец человек в фуфайке задумчиво проговорил:
– Правильно я рассуждал, что Пнев разводит у себя партизанщину, и настаивал: «Пневу немедленно влиться в батальон, а вы… – Он посмотрел осуждающе на человека в костюме, лицо у которого окаменело, напряглось: – Вот вам и «Пнев там уже прижился. Подождем… Что его срывать без надобности?»
В землянку, прихрамывая на одну ногу, вошел немолодой уже мужчина с большущей темной бородой. Капитан посмотрел на него и сказал:
– Батя, вот остатки от отряда Пнева, – и мотнул головой в сторону нар. – Прими к себе. Парни боевые, не пожалеешь.
Но на разъяснения и уговоры, прежде чем Батя дал согласие, ушло у капитана минуты три.
Оказалось, Батя командовал одним из отрядов соединения.
О чем-то переговорив шепотом с капитаном и теми, штатскими, он забрал пневцев и вышел из землянки.
Отряд Бати располагался неподалеку от штаба.
Чеботарева и других пневцев Батя поместил в шалаш, где жил всего один боец. Уходя, командир сказал, приглядываясь к ним небольшими хитрыми глазами:
– Скоро землянки будем строить. Место ищем. А пока… обвыкайтесь.
Забравшись в шалаш, все сразу же повалились на разостланное сено и вскоре заснули.
Чеботарев проснулся к вечеру. Высунувшись из шалаша, он задумчиво смотрел на затянутое серыми тучами небо. Приглядывался к проходившим мимо бойцам. Вспоминал о Вале как о чем-то хорошем, милом сердцу, но теперь уже далеком, безвозвратном.
Вскоре поднялся Момойкин. Передернувшись от озноба, он подсел к Петру. Тоже стал посматривать на шалаши, на бойцов возле них. Увидав у дальнего шалаша дежурного по отряду, проговорил с тоскливыми нотками в голосе:
– Да-а, здесь не у Пнева, здесь прижмут… дисциплинка, по всему видать, строгая.
– Вред бывает не от дисциплины, а от разболтанности, – сухо посмотрев на Георгия Николаевича, бросил Петр. – Было бы у Пнева построже да поосмотрительней налажено дело, так… Сам погиб и людей погубил через это.
Чеботарев снова, как тогда, после боя у бани, вспомнил, что ему во время танцев на «пятачке» приходила мысль о непонятном поведении Егора. Опять получалось, что и на его, Петра, совести лежит частица вины за гибель отряда. Стараясь оправдать себя, он поглядывал на дежурного по отряду, который, переходя от шалаша к шалашу, приближался сюда, и с болью в душе думал: «Конечно, расхлябанность, она и другим передается: о бдительности никто не говорил, не настраивали на это ни Пнев, ни другие… ну, вот и притупилось это чувство… жили, как в таборе. Никаких бесед, никто не настораживал… а остроту надо прививать бойцу. В отряде каждый должен видеть насквозь друг друга. Иначе таких, как Егор, не сразу выведешь на чистую воду. Провокатор, от тоже не лыком шит, чаще… с умом».
Мимо их шалаша проходил дежурный. Бесстрастным, негромким голосом он проговорил, дольше обычного задержав взгляд на Чеботареве и Момойкине – присматривался:
– Сейчас поешьте да спать. Предстоит операция всем отрядом – связник приходил.
А к Батиному шалашу уже подвозили на телеге горячую гречневую кашу в ведрах и ящик с черствыми черными лепешками.
Отряд подняли чуть свет.
Пробирало утренней изморозью. На востоке, в просветах между вершинами сосен, алела, разгораясь, заря. Чистое после ненастных дней небо приветливо смотрело на землю, украшенную разноцветными осенними красками, приглушенными сизым инеем. И может, от этого, а возможно, и потому, что кругом находились крепко сбитые в отряд люди, – Чеботарев почувствовал вдруг себя собранным, в теле ощущалась давно не испытываемая солдатская бодрость. Затянув потуже бечевкой фуфайку, Петр даже позволил себе шутку: становясь в строй, он похлопал себя по пустому животу и с усмешкой сказал Момойкину:
– Теперь хоть на двадцатикилометровый марш-бросок – в брюхе пусто, а ноги, как у хорошего рысака, куда хочешь понесут.
Георгий Николаевич, поглядывая на стоявшего перед строем Батю и комиссара отряда Ефимова, который был в таком же возрасте, как и сам командир, в тон Чеботареву проговорил:
– Ноги, они что! Нужда – вздыхать, а они – махать.
Всем выдали по три теплых картофелины и по такой же, как вчера, лепешке черного и жесткого, как кирпич, хлеба с какой-то примесью. Жевали их на ходу, шагая куда-то на юго-запад – сначала по тропке, а после неторным лесным проселком с залитыми водой и грязью колеями от тележных колес. Возле Чеботарева, припадая на раненную еще в гражданскую войну ногу, растирал оставшимися зубами лепешку Батя. Увидав рядом Петра, он долго приглядывался к нему, а потом сказал, пронзив его острым, колючим взглядом:
– Не дали и отдохнуть вам с дороги, мо́лодцам.
Петр не понял его. Смутившись, он молча поглядел, как Батя увлеченно жует лепешку, и подумал: «Остряк… Только чем остришь?!»
Прошли развилку. Боец из головного дозора подвел к Бате крестьянина, которого тот сразу узнал. Крепко пожав ему руку, Батя спросил:
– Ну, не уехали еще?
– Что ты! – рассмеялся тот. – Куда бы они на ночь глядя?! Дотемна грабили: хлеб, картошку грузили на подводы… Потом напились. Охрану выставили… Всего было. – И стал объяснять: – На подводах так себе, по-моему… только что вооружены. А вот на машине, тут головорезы. – Крестьянин подумал и добавил: – А староста, холуй он все же их. Не станет он нам служить. Притворялся нашим.
– Ну, а для партизан собрали что из продуктов? – не останавливая отряда и сам не останавливаясь, спрашивал Батя.
– Крохи, – смутился крестьянин.
– Крохи, – с иронией повторил Батя и, укоряя: – Вам вот помоги, а вы нам… Я не о тебе, о других…
Так, разговаривая, они и шли, то отставая от Чеботарева, то снова оказываясь рядом. Разговор вели больше о связных и агентах по снабжению, которые по окрестным деревням собирали для партизан сведения о немцах и их передвижении и попутно занимались сбором продовольствия.
Километра через полтора Батя остановил отряд. Свел с проселка. Взвод послал с комиссаром Ефимовым дальше, а сам с оставшейся половиной отряда устроил здесь засаду.
Партизаны растянулись вдоль дороги метров на сто, по обе ее стороны.
Чеботарев выбрал место под елочкой, которая в мирное время сгодилась бы и для новогоднего праздника. Из-под ее мягких лапок виднелся весь проселок, а Петра с Момойкиным она укрывала от глаза надежно.
Под этой елочкой Чеботарев и Момойкин лежали часа два, пока на дороге – оттуда, куда ушел во главе с Ефимовым взвод, – не появился немецкий обоз. Низкорослые местные лошадки, запряженные в пары, тянули набитые мешками фургоны. Кони шли медленно, с трудом вытаскивали из грязи ноги, и их то и дело подстегивали с сидений ездовые в зеленоватых шинелях.
Петр нацелил пулемет на немца с четвертой подводы. Различил настороженные, уставленные вперед глаза – они изредка воровато шарили по кромке леса. Вспоминая «баню» и гибель Пнева, Чеботарев с силой прижал к плечу приклад, озлобленно следил за гитлеровцем. Нетерпеливо ждал команды, чтобы открыть по нему огонь. Но в это время Батя крикнул:
– Хэнде хох![20]20
Руки вверх! (нем.)
[Закрыть] – И по его приказу с двух сторон на проселок бросились бойцы с винтовками наперевес и автоматами. «Пожалел!» – осуждающе подумал о Бате Чеботарев и тоже рванулся к фургонам.
Некоторые немцы, среди них и тот, в которого целился Чеботарев, подняли руки и замерли на сиденьях, а большинство схватили лежавшие возле них винтовки и открыли беспорядочную, бесприцельную пальбу. Партизаны сначала опешили, но тут же пришли в себя и, не дожидаясь Батиного приказа, начали на ходу стрелять в гитлеровцев.
Бой не длился и минуты. Когда все затихло, по распоряжению Бати убитых немцев начали сбрасывать с фургонов на обочину дороги и волочить в лес.
Петр подскочил к подводе с немцем, в которого стрелял. Сунув пулемет подоспевшему Момойкину, он схватил ездового за ногу в обмотке и потянул на себя. Потянул и… услышал, как немец еле слышным дрожащим голосом шепчет: «Киндер… киндер…»[21]21
Дети… дети… (нем.)
[Закрыть]. По телу Чеботарева пробежал какой-то странный озноб, на висках выступила испарина. «Не убил», – пораженный тем, что немец жив, подумал Чеботарев и метнул взгляд на бледное, немолодое уже лицо гитлеровца. Увидел, как губы немца чуть двигаются, а из закрытых глаз, вернее, только левого, видного ему, выкатываются – одна за другой – крупные слезинки и убегают по виску к шее, за грязный, залоснившийся ворот…
Вцепившиеся в ногу немца пальцы Чеботарева сами собой разжались – она безжизненно упала на дно фургона, – и Петр услышал, как раздался короткий глухой металлический звук от удара подковы на ботинке о что-то железное. Тут немец открыл глаза. Испуганно остановив взгляд на Чеботареве, он снова тихо сказал что-то и, еле оторвав правую кисть от мешка, на котором она лежала, показал четыре пальца. Чеботарев – еще не остывший от боя и способный убить недобитого врага – поглядел на его растопыренную ладонь с грубой, в трещинах и закостенелых мозолях кожей.
Момойкин, догадавшись, что Чеботарев в замешательстве, забросил свою винтовку за плечо, вздохнул тяжело, видно, вспомнил о сыне – Саше, с тревогой в голосе проговорил:
– Ишь, четверо детей, видать, у него… Пальцы-то кажет. Уж лучше бы сразу порешили, вражину. Сблизи-то – человек как человек.
– Лучше бы сразу… – согласился Петр, все еще думавший о заскорузлых, разбитых работой руках гитлеровца. – Теперь он пленный, а куда нам его? – Тоскливо поглядел он вдоль обоза, увидел, что партизаны уже садятся в фургоны, берут в руки вожжи, а Батя, размахивая автоматом, опять разговаривает о чем-то с крестьянином. «Уж убить бы сразу!» – с тоской подумал Чеботарев о немце и сказал Момойкину, беря у него пулемет:
– Стой тут. Доложу Бате.
Широко шагая вдоль фургонов к головному, возле которого остановился Батя с крестьянином, он рассуждал сам с собой: «Куда теперь его? Вот навязался на мою душу! Но мы же – не гитлеровцы, чтобы расстреливать пленных?! Да по всему видать, этот немец и не по своей воле на войну пошел. Ясно, фашисты его сюда пригнали… – Тут ход его мысли сбился на другое: – Так что, с собой возить?.. Лагерь для военнопленных в отряде открывать?..»
Батя даже не до конца выслушал Чеботарева. Маленькие темные глаза его замерли и почернели – впились в зрачки Петра.
– А ты думаешь, что говоришь?! – проговорил он так, что в голосе его появились угрожающие нотки. – У нас в отряде своих раненых да больных некуда девать. А потом… гитлеровцы нас за людей не считают. Мы для них – бандиты, все равно что жулье. В плен они нас не берут, знаешь сам. На месте расстреливают. Чего же нам с ними церемониться?!
– Противозаконно это, – нашелся Чеботарев. – Красная Армия пленных не убивает.
– Красная Армия? – Батя тут от гнева чуть было не задохнулся. – Для тебя и для меня мы – Красная Армия. Повторяю: мы для фашистов – бандиты. В этих лесах, пока не вернется Красная Армия и не установится снова Советская власть, мы – и государство, и правительство, и судьи… Как решим, так и сделаем. Наш закон – вот: как гитлеровцы с нами, так и мы с их братом… – И через паузу с насмешкой: – Или ты забыл уж «баню-то»?







