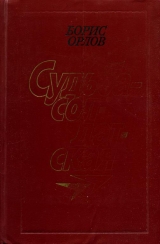
Текст книги "Судьба — солдатская"
Автор книги: Борис Орлов (2)
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 41 страниц)
Глава шестая
1
На сутки присмирев, снова зарядила непогода. Тянуло холодом. Стыла, отражая серое, низкое небо, вода в озерке перед лагерем Пнева. У березок на поляне совсем пожелтели листья. На фоне желтизны леса еще видней стали ели, потемневшие до синевы.
По палаткам бойцы чинили одежду, охочие играли в подкидного. Чеботарев чаще лежал, уткнувшись в стенку палатки. Тревожась за Валю, он старался понять, почему так долго не возвращается Провожатый. Тоскливо становилось у него на душе. Казалось, что Валю с Провожатым схватили гитлеровцы… Момойкин, чтобы отвлечь его от грустных мыслей, часто рассказывал ему, как плохо жил он в буржуазной Эстонии, о том, насколько был слепым человеком, пока не попал в отряд к Пневу и не понаслышался от бойцов о жизни крестьян в советское время.
Пнев, скучая в палатке, изредка прохаживался по лагерю, подолгу засиживался у других. Как-то забрел он и в палатку к Георгию Николаевичу.
– К зиме бы готовиться надо, – сказал ему Момойкин.
Пнев помолчал, потом ответил:
– Вот помоемся в бане и пойдем на зимние квартиры, к лужанам. Если они разрешат врозь жить, тогда выберем где-нибудь место и обоснуемся.
– Правильно, – вставил Петр, вспомнив Морозова, и добавил: – Долго живем на одном месте. Убираться отсюда давно пора, мало ли что…
Петр стал объяснять, как осторожен Спиридон Ильич, какие у него в отряде порядки. Пнев слушал. Когда Чеботарев сказал: «А у вас, товарищ Пнев, в этом смысле не все гладко, прямо говорю», тот оборвал его:
– Я думаю тебя своим замом сделать. Ты военный – тебе и карты в руки. Наводи порядок.
– Мне к фронту надо, – ответил Петр.
– Теперь везде фронт для честного гражданина. А воевать хоть где одинаково: и пули одни, и смерть одна… Если армия только одна будет с гитлеровцами вести войну, так скоро их не перебьешь.
Пнев смолк. Надолго установилась тишина.
– Я соглашусь, – нарушив наконец молчание, проговорил Чеботарев, засмущавшись. – Но условие мое такое: дисциплина была чтоб как в армии… ни выпивок, ни разболтанности – ничего чтоб не было.
Пнев слушал Чеботарева. Когда тот замолчал, вымолвил, не сумев скрыть обиды в голосе:
– Вот и займешься. Я человек штатский, в этом деле… военного образования не получил. Винтовку в руки взял так, по необходимости, долг заставил. Командую, как чутье подсказывает.
В палатку заглянул Егор, и Пнев замолчал.
Егор объяснил ему, что баня к утру будет готова. Отпустив его, командир поднялся на корточки и, сгибаясь, выбрался из палатки.
Чеботарев после этого долго еще думал о предложении Пнева. Потом поднялся и пошел к нему; Петру казалось, что с обязанностями заместителя он не справится и об этом надо сказать. Но возле палатки Пнева Чеботарев остановился. «Еще подумает: навязываюсь, цену набиваю себе», – вдруг решил Петр и, повернувшись, пошел обратно.
Перед ужином, когда дождь на час-полтора перестал лить, Пнев построил отряд и отдал распоряжение свертывать лагерь. Петр с волнением ждал, что вот он вызовет его из строя и объявит: с этой-де минуты вводится должность заместителя командира отряда и назначается им, мол, Чеботарев… И когда расходились уже, Момойкин сказал Петру:
– Пнев-то забыл о тебе, что ли?
Чеботареву стало неудобно. А стоявший рядом Семен проговорил:
– Да разве он назначит! Он власть любит. Вон, как комиссар погиб… сколько Луга требовала нового назначить? Не назначил.
Почти всю ночь отряд не спал. Укладывали боеприпасы, снимали ближайшие мины, – упаковывали продукты… Работая, Георгий Николаевич прошептал Петру:
– А Пнев к твоим словам все же прислушался. Иначе зачем такая спешка? – И добавил: – Своенравен он, кичлив.
– Что-то не замечал, – удивился Петр. Через какое-то время бросил в темноту: – От партизанщины что-то есть у вас в отряде. Военного порядка совсем нет, а наводить его придется, иначе… и до беды недалеко.
Уснули где-то к утру, а чуть свет, когда еще плотно окутывали землю неуютные, серые сумерки, их подняли.
Оставив для охраны лагеря четырех бойцов, Пнев приказал остальным взять оружие и повел их в баню.. Шли по узкой лесной тропе, то и дело переходившей в болото. Дул леденящий северо-западный ветер. Угрюмое небо давило на землю, окропляя ее мелкими холодными каплями дождя.
– Это надолго, – проговорил, когда уже подходили к бане, Георгий Николаевич, подразумевая ненастье.
Баня – небольшая, бревенчатая – стояла метрах в пятидесяти от речки и столько же от леса. С той стороны поляны, за лесом, находилась деревушка, оттуда слышался заливистый одинокий петушиный крик. Возле бани когда-то стоял хутор. Но он давно сгорел, и ничего от него не осталось, кроме этой бани да фундамента от избы, сложенного из дикого камня.
Перед входом в баню был широкий навес, опирающийся на два столба. Под навесом – полусгнивший стол.
Подойдя к бане, бойцы сгрудились под навесом и в предбаннике. К Чеботареву подошел Пнев.
– Ты поскорей помойся с первыми бойцами да веди их в лагерь, – сказал командир отряда, – а тех, которые там остались дежурить, сними и посылай сюда. – Пнев помолчал, оглядел кромку леса. – На всякий случай выставлю пост, два. Хоть гостей по такой погоде ждать и бесполезно, а на всякий случай не помешает…
Командир, прихватив с собой трех бойцов, пошел к лесу. Чеботарев посмотрел на хмурое небо и, расталкивая толпившихся под навесом людей, направился в баню.
Петр по-настоящему не мылся уже два месяца – с тех пор, как началась война. Забравшись на полок, он с наслаждением хлестал себя крепким березовым веником. Сверху, прямо над головой, висели, отдавая прелью, крупные черные капли. Обрываясь, они падали и ударяли в тело. Обжигая, рассыпались. Степану, стоявшему внизу, у каменки, с погнутым банным ковшом, Петр то и дело кричал:
– Парку! Парку поддай еще!
Тот, зачерпнув из бочки с деревянными обручами какую-то малость, плескал на раскаленные камни и отскакивал в сторону. Пар густым, горячим облаком охватывал Петра… Кто-то говорил, моясь из ушата на нижней приступке, кажется Непостоянный Начпрод, что париться Чеботарев мастак, а Момойкин, тоже хлеставший себя с необъяснимой яростью, бурчал под ухом Петра:
– Сибиряк… Из Сибири, что ему. Там без веничка, говорят, как и у нас, на Псковщине, баня не баня…
Петр сполз сверху, когда тело его горело, а голову слегка покруживало.
Георгий Николаевич, красный после парной, стоял в предбаннике уже одетый. Возле него топтались, напяливая на себя белье, Семен и незнакомый Петру боец. Чеботарев, одеваясь, сказал им, что пойдут с ним в лагерь сменить дежуривших там бойцов. Когда оделся и вышел из предбанника, увидал такую картину: под навесом стоял с выбитой крышкой бочонок, до половины наполненный самогоном. Петр удивился. Искал глазами Пнева. Но командир был в бане, парился.
– Кто приволок эту сивуху? – набросился он на захмелевших бойцов.
Все молчали. Петр толчком ноги опрокинул бочонок. Оглядел бойцов. Увидав Егора, который только перед этим, очевидно, выпил, потому что вытирал своей клетчатой кепкой губы, подошел к нему вплотную и строго спросил:
– А где завтрак? Это вы что, – и мотнул головой на откатившийся в сторону бочонок, – вместо завтрака? Где завтрак?
– А завтрак еще будет, – ответил Егор. – Приволокут с минуты на минуту… А самогон… ето как десерта. – И вдруг спросил: – А ты, извиняюся, кто тута? Замом тебя еще не сделали, кажись, ведь?
Вокруг заулыбались.
Петр не нашелся, что ответить. Посмотрев на Егора презрительно, он сплюнул и попросил Семена, чтобы тот вел к лагерю – сам дорогу туда знал плохо.
В лесу Семен предложил идти прямиком.
– Я тут каждую тропу знаю, – говорил Семен. – Охотиться здесь любил. Вообще, я люблю природу, – и стал рассказывать, как за год перед войной они здесь с Непостоянным Начпродом охотились и, заблудившись, еле вышли.
Минут через сорок впереди показалась прогалина, залитая водой и усеянная кочками. Кочки стояли близко друг к другу. Все запрыгали по ним, мокрым, прогибающимся под ногой. Георгий Николаевич, уронив коробку с дисками от пулемета, ругался и тянулся рукой к холодной воде. Достав наконец коробку, он снова запрыгал по кочкам.
Семен и боец стояли уже с той стороны прогалины на мшистой, обросшей багульником и болотной травой тропке.
– Ну и завел! – сказал в сердцах Петр, когда оказался рядом с Семеном. – Тут сам черт не пройдет. Видел я топи на Оби, а таких, правду скажу, еще не видывал.
Тот посмеивался:
– Хочешь, в топи заведу тебя? Это еще не топи. Топи, где и мне пройти трудно, а тут что! – Семен вдруг повернул голову в сторону бани. И все повернули, потому что оттуда, показалось, совсем рядом, донеслась четкая дробь немецкого тяжелого пулемета, в которую почти сразу же вплелись, приглушив ее, режущие автоматные очереди.
Все четверо присели, пригнув головы. А когда разобрались, что стреляют у бани, встали. Цепенели от страшной догадки.
– Что же это такое? – выдавил Георгий Николаевич и посмотрел на всех чуть не плача. – Немцы же это стреляют… Каратели.
Петра начало знобить. Слышал, как под самым ухом, перебивая огонь немецких автоматов и пулеметов, постукивают о листья дождинки. Видел, как у Георгия Николаевича бледнело лицо. Боец до крови закусил верхнюю губу и так сидел не шелохнувшись, будто замороженный.
А низкое, серое небо поливало осенний лес мелким холодным дождем. Облаков не было – плыла сплошная туманообразная масса. И даже не плыла, а как бы стояла на месте, готовая вот-вот снизиться и поползти по земле, утюжа все живое.
Первым опомнился Семен. Он посмотрел на Чеботарева и спросил, что же делать. Петра это привело в себя, и он бросился, будто его подхватило ветром, через прогалину к бане. Следом кинулись остальные. Бежали, не разбирая где вода, где кочки. Момойкин начал отставать. Петр вырвал из его рук коробку с дисками.
Когда подбежали к опушке, за которой стояла баня, стрельба уже стихала, только слышались отдельные одиночные выстрелы да рванула сырой воздух лимонка.
Немцы – взвод, не меньше, – скучившись у глухой стены, что-то горланили, размахивали руками… Перед навесом виднелись убитые бойцы отряда, они лежали и на поляне, особенно много в направлении к речке, вероятно, в последние минуты бросились на гитлеровцев, чтобы вырваться из кольца, но не сумели.
Но в бане еще были партизаны.
Петр и остальные, кто находился с ним, бросились на землю.
Среди немцев появился возбужденный Егор в клетчатой кепке набекрень. Показывая автоматом в руке в сторону лагеря Пнева, он торопливо говорил что-то офицеру-эсэсовцу. Появление среди гитлеровцев Егора как ошпарило Петра. «Сволочь!» – с ненавистью прошептал Чеботарев и нажал на спусковой крючок пулемета. Воздух рванула длинная очередь. Егор и офицер сразу рухнули на землю. Стоявшие возле них гитлеровцы бросились за угол бани, на поляну, к лесу и к речке. Петровы пули настигали их и навечно укладывали на сырую, чужую им землю.
С той стороны бани занялась, выплескивая пламя, стена. Из предбанника в белых кальсонах, без рубахи вышел Пнев. Левая нога у него была залита кровью и ступала нетвердо. В руке он держал трофейную немецкую гранату.
Гранату Пнев не бросил – только успел поглядеть в сторону стрелявшего Петра; гитлеровская пуля сразила его наповал, и он, выпустив деревянную ручку гранаты, ухватился за столб навеса и пополз по нему вниз…
Израсходовав диск, Петр понял, что вести бой дальше бессмысленно: оставшиеся в живых гитлеровцы спрятались за горевшую баню, а от деревни по лесной опушке бежали к ним на подмогу немцы с собаками.
Осознав это вовремя, Петр махнул рукой своим товарищам на лес и стал отползать.
Немцы за баней опомнились не сразу. А когда опомнились, Чеботарев с бойцами уже бежал по лесу вглубь.
Сзади, приближаясь, слышалась стрельба и собачий лай. Семен свернул вправо.
– Сюда! – кричал он на Момойкина, который все бежал прямо. – Слышишь, с собаками гонятся.
Почти тут же они очутились в болоте. Вода была по колено, а кое-где и выше. Уставшие, еле перебарывая одышку, шли они по ней, обходя островки земли, заросшей кустарником и чахлой березой да осиной. Минут через тридцать, когда лай за ними стих, выбрались на островок. Залезли под березу с жесткой, почти совсем опавшей листвой. Семен проговорил:
– Надо бы к лагерю… Пока каратели не поспели туда, взять бы оттуда людей. – И добавив: – Ждите меня тут, – сполз, как сидел, в болотную воду.
Момойкин, глядя вслед удаляющемуся Семену, громко прошептал:
– Уж идти, так всем бы.
Боец задвигал губой с засохшей на ней кровью.
– Кто-то нас предал, – сказал он, задумавшись.
Петра слова его как ужалили. В голове зазвенело. Сурово посмотрев на него, он вспомнил сраженного пулеметной очередью Егора и процедил, постукивая от холода зубами:
– Сами вы себя предали! Бдительней надо было быть друг к другу и строже.
Тот повернулся к нему корпусом. Повернулся и замер, пораженный жестокостью этих слов… А Чеботарев смутился, по лицу его пошли красные пятна. Рассуждал сам с собой: «Не «вы», а «мы» все. И я. Я же на пятачке… пусть случайно, а ведь обратил внимание… Вале вот сказал, а Пневу – даже с ним не поделился этим. Забыл даже об этом!» Чувство какой-то доли ответственности за гибель отряда не проходило. В то же время появлялось недоверие уже и к Семену, и Петр вдруг поднялся.
– Уйдемте отсюда, а то… если и этот, – кивнул он головой в сторону, куда ушел Разведчик, – если и он… и не договорил: так тяжело было произнести это слово – «предатель».
– Ты что?! – возмутился тут же боец. – Да я его по работе знаю! Комсомолец он, в активе у нас ходил.
– Комсомолец или не комсомолец, – решительно заявил Петр, – а отсюда уходим… Вон туда переберемся. – И махнул рукой вправо. – Там подождем. Оттуда видно будет, если он придет.
Поднялся дрожавший от холода Момойкин.
Петр, ничего больше не сказав, ступил в воду. За ним пошли остальные.
В болото уходили кое-где по пояс. Метров через двести выбрались на островок. Сквозь кусты и чахлые березы, облепившие этот кусок земли, было видно и то место, где они находились раньше. Петр сел на сырой мох под голыми ветками.
Семен показался на болоте через час, а может, и больше, когда Петр уже начинал думать, что надо куда-то идти. Разведчик постоял на кочке, поглядел по сторонам и скрылся в кустах, потом снова показался, всматриваясь в болото.
– Ну что? Откликнемся? – стуча зубами, обратился к Петру боец.
Но Разведчик их уже заметил.
– Успел, – выбравшись к ним на островок, обрадованно говорил он, а сам счищал ребром ладони со стеганки темно-коричневую торфяную жижу. – Ждут неподалеку. – И спросил, ни к кому не обращаясь: – Так пошли?.. К лужанам пойдем?
– Пошли, – ответил, поднявшись, Петр и ступил в воду.
Вода сначала обожгла его. Потом ледяной ее холод перестал ощущаться.
Егор навел на отряд Пнева роту полевой жандармерии.
Невысокий, щупленький фельдфебель переходил от трупа к трупу и, когда замечал, что партизан еще дышит, пристреливал его из автомата в голову. Солдаты стаскивали трупы к навесу и бросали в предбанник горевшего с глухой стены сруба.
Из деревни к бане подъехали телеги, запряженные кавалерийскими лошадьми. С передней спрыгнул обер-лейтенант.
Солдаты стали грузить, складывая рядком, убитых немцев. Офицер, не найдя среди топтавшихся немцев Егора, подошел к фельдфебелю и спросил:
– Где этот парень?
– Убили его партизаны… Мы его бросили туда же, в баню. Пусть горит вместе с ними, – и показал на еще не убранные трупы партизан по полю.
– Кто же нас поведет на партизанскую стоянку? – сказал обер-лейтенант.
Они пошли отыскивать оставшегося в живых партизана. У речки, под одичавшим кустом смородины, заметили прижавшегося к земле Непостоянного Начпрода. Он лежал на груди, в нижней рубахе, с залитыми кровью губами, рука сжимала цевье автомата без патронов – расстрелял.
Фельдфебель, вскинув автомат, шел на Непостоянного Начпрода, готовый при малейшем его движении выстрелить. Тот понимал это и не двигался. Охваченный горькой мыслью: «Эх, не успел до речки добраться, Павлуша! Капут теперь тебе!» – он не мигая смотрел потерявшими яркость глазами в лицо фельдфебелю.
Обер-лейтенант взмахом руки приказал Непостоянному Начпроду встать, когда фельдфебель выбил ударом сапога у него из рук автомат, отбросив его в сторону.
Парень тяжело поднялся. Откинув нависшие на лоб колечки мокрых волос, облизал с губ выбегающую изо рта кровь и хрипло, с трудом выговорил:
– Кончайте. Ваша взяла покуда.
Непостоянный Начпрод, через силу напрягая тело, выгнул колесом крепкую, с сильными грудными мышцами простреленную грудь. Заложил за спину руки. Из раны сочилась, стекая на подол выпущенной из-под брюк рубахи, кровь. От слабости его пошатывало.
Обер-лейтенант крикнул переводчика.
Фельдфебель, вывернув у Непостоянного Начпрода карманы, нашел самодельную карту. Передал офицеру. Тот долго рассматривал ее, решил, что перед ним если не сам командир партизанского отряда, то все равно птица важная. Через переводчика потребовал объяснить, кто он, что за знаки на карте? В ответ же услышал:
– Не скажу. Ничего не скажу.
– Расскажете, в Луге расскажете, – пряча карту в карман, через переводчика пригрозил ему гитлеровец и, идя на хитрость, заставил перевести: – Вы храбрый человек. Мы даруем вам жизнь, если вы покажете стоянку, лагерь ваш… Там ваши еще есть?
Непостоянный Начпрод с трудом улыбнулся. Сначала чуть было не сорвалось: «А шиша не хотите?» Но он вдруг смекнул, что можно идти на это, а там… завести их в топи. «Авось и удрать сумею», – появилась у него слабая надежда. И Непостоянный Начпрод, отхаркиваясь, вымолвил:
– Попробую. В лагере человек двадцать осталось.
Обер-лейтенант, которому хотелось посмотреть на партизанский лагерь, решил идти и сам. Взяв два взвода солдат и собаковода с тремя собаками, он приказал Непостоянному Начпроду идти первым. Тот пошел. От связанных на спине рук его тянулась веревка к солдату.
С километр он шел действительно по тропе, которая вела в лагерь. Дальше она шла по залитой дождями земле. Воспользовавшись этим, Непостоянный Начпрод, свернув на другую тропу, стал уклоняться влево. Вспоминал, как блукал в этих местах когда-то с Семеном, и вел гитлеровцев к топям.
Шли то по поросшей зыбким мохом земле, то водой, проваливаясь в илистый грунт по щиколотку.
Обер-лейтенант вынул компас и, следя по стрелке, куда их ведет Непостоянный Начпрод, вслух удивлялся, как могут партизаны жить в таких болотах.
Идти Павлу было уже невмоготу. Глаза заливало едким холодным потом, грудь горела от боли, слабел… Но он шел. И чем дольше шел, тем грозней становились топи. Ноги начали вязнуть в торфяной жиже так, что казалось, их не вытащить.
Немцы уже с тревогой таращили по сторонам глаза.
Насколько можно было видеть, вокруг стояла черная болотная вода, по которой, как конопатинки на лице офицера, пестрели островки земли, поросшие густой желтеющей травой, чахлыми березами, хилыми елями да мелким кустарником.
Офицер приказал остановить Непостоянного Начпрода. Тот, поглядывая на офицера, с трудом выдавил:
– У нас к лагерю дорога такая.
Переводчик перевел.
У офицера схлынула настороженность в глазах, таял страх.
Объяснив, что идти осталось малость, Непостоянный Начпрод пошел дальше. С тропы свернул. Переходил от островка к островку через воду, которая кое-где поднималась до колена. Наконец на одном из них остановился и сказал, через силу улыбнувшись:
– Вот тут мы и живем.
Непостоянного Начпрода стали бить. Вывернули руки. Обессиленный, он катался по мокрому моху и твердил свое:
– Вот тут…
Вспомнив вдруг о самодельной карте, офицер приостановил избиение. Приказал его поднять. Но Непостоянный Начпрод уже не мог стоять на ногах и падал. Тогда ему привязали сзади к поясу связанные руки, просунули между спиной и ими палку. Подняли. Офицер приказал идти обратно.
Но через некоторое время немцы сбились с тропы, по которой вел их Непостоянный Начпрод. Тогда они пошли по компасу. Уходили в воду где по пояс, а где и по грудь. Собаковод, провалившись в трясину, выпустил поводки от собак, и те поплыли в сторону. Зацепившись за торчавшую из воды березку, они стали кружить вокруг нее. И собак и собаковода бросили, испугавшись лезть к ним…
К ночи гитлеровцы из болот выбрались, но многие солдаты остались там, в трясине. Терявшего сознание Непостоянного Начпрода офицер упорно волочил с собой, думая, что на карте партизана помечено бог весть что.
2
Валя несла в лес сшитое за ночь.
После дождей из-за туч проглянуло солнце. Сосны, краснея темной чешуйчатой корой, тянули вершины к холодному осеннему небу.
В лесу было сыро, стояла первозданная, нетронутая тишина. Подойдя к вкопанной бочке, Валя неторопливо расшвыряла ногой хвою, отодвинула крышку. Затолкав в почти полную бочку связанные кипой фуфайки, еле закрыла ее. Обратно шла тихонько. Под ногами мягко пружинил мох. Увидев на брусничнике сережку сочных ягод, нагнулась было, но не сорвала: вдруг уловила далекий прощальный журавлиный крик. Прислушалась. Знакомое с детских лет «курлы» тоскливо отдалось в сердце, и показалось, что это не журавли кричат прощальным криком, покидая родную землю, а она сама кричит… К Вале подскочил, выбросившись из-за куста, пес, которого привела Варвара Алексеевна и которого в доме Матрены звали Шариком.
– Фу, леший! – выдохнула Валя и потрепала пса по пушистой шее.
Матренино вытертое пальто не грело. Поежившись, Валя пошла из лесу. Загибая пальцы, подсчитывала, сколько уж дней не приходили за одеждой партизаны. Поймала себя на том, что нужны-то ей не столько они, сколько хоть какая-нибудь весточка о Петре. Под ногами крутился, причудливо петляя и прыгая, Шарик. Смотреть на его игру было забавно, и Валя в конце концов заулыбалась. Будто и не думала с минуту назад ни о чем грустном.
В избе Матрена резала на кухонном столе хлеб – по куску на едока. Варвара Алексеевна сидела рядом – чистила вареную картошку. На шестке шипел никелированный самоварчик.
Валя пододвинула к столу табуретку и села.
– Значит, завтракать? – спросила она, а сама смотрела, как Шарик, обнюхав Матренины ноги, сел возле печи и загляделся на хозяйку, выпрашивая еды.
Матрена, задумавшись о чем-то, положила хлеб в эмалированную хлебницу и сказала:
– Задним умом мы богаты. Что бы в яму все попрятать! Так нет, надеялись – обойдется. А они, ироды, – она имела в виду немцев, – все позабирали.
Варвара Алексеевна поняла хозяйку по-своему.
– Мы тебя век не забудем, – произнесла она тихо. – Ты вот и сама недоедаешь, наравне с нами столуешься. Мало нынче таких людей встретишь…
Матрена не то чтобы обиделась на Валину мать – ей просто неудобно стало от ее слов. Оборвав Варвару Алексеевну, она сказала:
– Я ведь не к тому. Как подумаешь, какие мы простофили, вот и сосет.
Они стали есть. Пес приподнялся на задние лапы. Издав звук, похожий не то на жалобу, не то на просьбу, старательно завилял хвостом. Просящие глаза его зорко следили за руками. Матрене сделалось жалко собаку. Отломив от своего ломтя кусочек хлеба, она обмакнула его в молоке и бросила Шарику прямо в рот.
– Мышей бы бежал ловить, – укорила его Матрена. – Чем кормить-то тебя? Вишь, самим есть нече.
– Он благородный, – пошутила Валя. – Сырое не употребляет, – и смолкла, увидав, как к избе подходит Афанасий – мужичонка, никудышный на вид, мобилизованный в начале войны в Красную Армию, но потом, когда немцы, подтянув свежие силы, прорвали фронт под Лугой, дезертировавший из нее. Спустя какое-то время заезжавшие гитлеровцы из полевой жандармерии назначили его как бы головой над деревушкой. Но голова эта, по рассказу Матрены, была пустой и безобидной. На днях Афанасий объявился перед Матреной в сенях. Начал было спрашивать, кто такая у нее проживает. Мол, наказ был никого чужого не приголубливать. Матрена окинула его злющими глазами, а потом… Вале тогда так и показалось, что Матрена изобьет его. Но Матрена бить Афанасия не стала. Напирая на него полной грудью, она лишь вытолкала его на крыльцо и, оперевшись рукой на перила, зашипела на спускающегося задом по ступенькам Афанасия: «Рук марать не хочу. Чтоб духу твоего г........ у меня больше не было! Ишь власть! Лодырь ты, а не власть. Как был лодырь, так и остался им… Не лупи бесстыжие-то шары. Не лупи. – А когда он спустился, добавила, успокаиваясь: – Родня она мне. Из Луги. Не подыхать же ей там с голоду». В избу Матрена вернулась разгоряченная. Щеки ее, и так румяные, пылали. Кивнув на окно, в котором еще виден был удаляющийся Афанасий, говорила: «Ишь командовать ему захотелось! В армии бы и командовал… так нет, удрал ведь, дезертир несчастный. Привык в колхозе-то лодыря гонять, и тут захотелось на готовое. – И в его сторону: – Смотри-ко, жди-подожди!..»
После этого случая Афанасий к Матрене больше не заходил. При наезде гитлеровцев, обобравших деревушку, сидел смирно: был тише воды ниже травы; вел себя так, словно его и на белом свете не значилось.
Сейчас, подойдя к Матрениной избе, Афанасий осторожно стукнул по наличнику смотревшего на крыльцо окна. Матрена, приняв грозный вид, пошла в сени. Афанасий что-то сказал ей и потрусил от избы. Вернулась Матрена встревоженная. Кинулась прятать машину. На бегу Вале крикнула:
– Начальство какое-то с полицаями объявилось. Всех сзывают к погорелью. Убери товар!
Валя сгребла в кучу вату и цветной ситец – сатин уж весь кончился. Потащила в сарай.
Все убрав, они оделись. Валя заскочила в боковушку, где из-за холодов больше не спала. Сунув руку в тайничок, достала оттуда браунинг и спрятала его под лифчик. Вышла и, спустившись с крыльца вслед за матерью и Матреной, пошла. Под ногами беспокойно крутился Шарик.
Телега, возле которой терлись три полицая, стояла перед сожженным немцами домом. Неподалеку, на скамейке, сидел их начальник – старший полицай. Перед ним, охватывая его полумесяцем, собиралась, насторожившись, деревушка.
Около подвод Шарик вдруг повернул назад и убежал к крыльцу.
Не здороваясь, проходили Морозовы и Матрена мимо полицаев. Варвара Алексеевна сказала, имея в виду пса:
– Может, признал кого из тех, кто хозяев его разорил?
Никто ей не ответил. Знобким чем-то пронизало Валю оттого, как поглядели на них вооруженные трехлинейками полицаи, как поднялся и заходил возле скамейки, по-хозяйски ставя ноги, их начальник, с виду человечишко хилый, но с горячим, волевым блеском в глазах.
Матрена стала перед самым носом старшего полицая, Валя с матерью – сзади, среди мужиков и баб.
Бросались в глаза дубленые полушубки приезжих, повязки на рукавах, крепкие яловые сапоги, какие носил в Пскове и Петр.
Когда народ собрался, старший полицай приказал одному из полицаев охранять толпу, а сам с остальными, прихватив и Афанасия, пошел по избам. Шарили. Искали охотничьи ружья, винтовки, пистолеты, наганы, гранаты… В ведомость заносили живность. Когда подходили к Матрениной избе, Шарик, взлаяв, исчез под крыльцом. Старший полицай, выматерившись на собаку, вошел в избу. В поскотнице они записали в ведомость Чернушку и после этого вернулись к толпе.
Афанасий, боязливо оглядывая людей, встал в первый ряд, подле Матрены, и всем видом своим показывал, что он-де, как и вся деревенька, в этом деле подневольный.
Старший полицай, чтобы всех видеть, а может, и для солидности, забрался с грязными сапогами на скамейку. Озирая с нее народ, расстегнул полевую сумку, извлек из нее приказы немецкой комендатуры и, нацепив на большие красные уши очки в медной оправе, начал читать.
Приказы были страшнее один другого. Валя, слушая их, старалась понять, что за времечко наваливается на людей, на нее лично. Душа ее бурлила негодованием, глаза выплескивали ненависть к немецким оккупантам и этим вот их прихвостням в одежде полицаев.
Прочитав один за другим все приказы, старший полицай аккуратно свернул их и спрятал в сумку. После этого он сказал, что армия Гитлера принесла крестьянам освобождение и что теперь, мол, каждый из них может жить по-своему – как до революции. Спросил, нет ли желающих из молодежи ехать в Германию, чтобы трудом своим помочь освободителям. Обещал: все-де, кто поедет туда, найдут там чуть ли не молочные реки с кисельными берегами.
– В бостонах да шелках ходить будете, – хрипел он. – Вернетесь с мешками денег, а это для хозяйства подспорье агромадное… А кто поизворотливее да спать долго не любит, так тот и на «оппеле» прикатит…
Холодно смотрели ему в глаза люди. Так холодно, что он начал нервничать и заходил по скамейке из конца в конец. Заговорил о том, что вести себя враждебно по отношению к немцам нельзя, что не чураться, а благодарить их надо… Валя, слушая его, всем сердцем ощущала, что борьба между оккупантами и теми, кто не хочет мириться с позором, нависшим над ее родной землей, идет не на жизнь, а на смерть. «Прихвостни эти, – сурово оглядывая полицаев и их начальника, думала она, – вынуждены так вести себя. Предательство всегда ставит человека в положение холуя. Но как они не поймут своего позора?!» С неприязнью вспомнила она о Соне с Зоммером. Старалась понять природу предательства. «Против своего же народа идут, – еле сдерживая гнев, рассуждала Валя. – Родину свою поганят…» Долетели слова старшего полицая, который, опять упомянув, что немцы являются освободителями, стал рассказывать, где теперь фронт. Получалось, гитлеровцы вот-вот возьмут Ленинград, с неделю на неделю падет Москва, а «с этим и всем Советам вместе с большевиками наступит крышка». В толпе завздыхали бабы. Насупив брови, стояли мужики. Матрена не стерпела. Проворчала, с издевкой поглядывая на старшего полицая:
– Когда еще падут… Чего загодя-то языком чесать?!
Гитлеровский прихвостень недобро сверкнул стеклами очков. Спрыгнув со скамейки, он подскочил к Матрене. Прохрипел с угрозой:
– Повтори! – и, вытянув шею, оглядел толпу.
– А что повторять-то? – чуть попятилась Матрена. – Что думала, то и сказала. Разве…
Не дав ей договорить, он резко, не размахиваясь, ударил ее по лицу. Из Матрениного носа хлынула кровь. Она зажала нос рукой. Кто-то сзади тянул ее в толпу. Валя, машинально прижав руку к груди, ощутила через пальто браунинг. В ее душе вспыхнуло и не гасло что-то несговорчивое, злобное. Она заметила, как мужики и бабы тесней прижались друг к другу. Остановила глаза на старшем полицае, который, выхватив из кобуры наган, размахивал им перед народом и кричал:
– Это вы так хотите помогать уважаемым освободителям?! Как можно идти супротив?.. – Не найдя, видно, подходящего слова, он накинулся на Матрену: – Где твой мужик? Где? В Красной Армии? Сказывай!
Сбоку от Вали кто-то проворчал – так, чтобы гитлеровские прихвостни не слышали:







