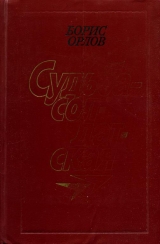
Текст книги "Судьба — солдатская"
Автор книги: Борис Орлов (2)
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 41 страниц)
Каждый понял Валю по-своему. Сашина мать сказала, что, может, надо это бумагу выбросить. Сам Георгий Николаевич насупился. Им овладело беспокойство: угрожает… Ему и в голову раньше не приходило, что Красная Армия еще вернется. Потом, он совсем не думал, что ехал сюда работать на немцев. Он только видел в этой бумажке свой щит. И Георгию Николаевичу стало не хватать воздуха. Надежда на семейное счастье, на тихую жизнь, о которой он так мечтал долгие годы и которую вот обрел, – все это представилось ему вдруг шатким, призрачным. Будто пригрезилось во сне, и вот, просыпаясь, осознал он, что это – сон, а раз сон, то, как откроются глаза, все уйдет, исчезнет и, как жил долгие годы, окажется он один-одинешенек…
Саша, перестав следить через щель в ставне за гитлеровцами, поглядел на отца, на справку в его руке и проговорил:
– Может, мне все-таки уйти из деревни, – и глаза его наполнились страхом. – Я уйду сейчас. Хоть на время… в Полуяково… а то… еще донесут, что работал в горкоме.
Он кинулся в горенку укладывать вещи в мешок, приготовленный им раньше, но вскоре вернулся.
Машины давно скрылись, уйдя к центру деревни. Но Момойкины продолжали смотреть в щель ставен.
Утреннее небо казалось синим. Высоко над горизонтом, подкрашенные снизу розовым, висели перистые облака. Это будило мысли о покое и вечности… Но в глаза бил острый, как нож, луч солнца, и сердце не оставляла тревога.
2
Обер-штурмфюрер барон Генрих фон Фасбиндер приказал остановить машину на площади перед правлением колхоза. Распахнув дверцу, он вышел из машины. Посмотрел на часы. Оглядел улицу. Снял черные роговые очки, протер надушенным носовым платком стекла.
Настроен он был благодушно. Путь от Пскова показался экзотическим. Настоящее путешествие! Но импонировало не только это. Больше, пожалуй, понравилось то, как слаженно, ни в чем не нарушая инструкцию, действуют солдаты. Два отделения сумели быстро оцепить деревню. Остальные врывались уже в избы. «Главное, чтобы ни одна мышь не успела скрыться». Вынимая из кобуры парабеллум, он вдруг подумал: «Пожелай Адольф Гитлер, и мы не только покорим всю землю – мы поставим на колени самого господа бога, если он существует». Барон, по годам уже не юноша, но худой и прямой как жердь и потому казавшийся моложе своего возраста, представил вдруг себя владыкой мира. В голову ударили слова марша «Херст Вессель»: «Если весь мир будет лежать в развалинах… К черту! Нам на это наплевать…» И его вдруг охватила радость, что родовые земли в Лифляндии снова принадлежат фамилии Фасбиндеров… А то ли еще будет у Фасбиндеров!
Барон снова поглядел на часы. Прошло пять минут. Подняв парабеллум дулом вверх, дважды выстрелил. Знал, что по этому сигналу солдаты начнут немедленно сгонять людей сюда, на площадь. И ничто не остановит солдат фюрера!.. Как подтверждение, из-за церкви, где находились артельные склады, долетела короткая автоматная очередь.
Постреливали теперь везде. «Хорошо, – улыбнулся барон, посматривая, как неторопливо, по-хозяйски ведет, возвращаясь от пруда, грузовую машину шофер, возле которого сидит толстый унтерштурмфюрер. – Так и надо. Русские – страшный народ. Не поставь Россию на место, она разнесет большевистскую заразу по всему свету». Вдоль домов с противоположной стороны улицы бежал солдат Карл Миллер. Фасбиндер насторожился. Ждал, играя в руке парабеллумом.
– В доме покойник! – выпалил, остановившись перед ним, солдат. – Я хотел выполнять инструкцию, а Лютц… – И стал, привирая, рассказывать, причем себя он рисовал в выгодном свете, а Лютца чернил. Получалось, что Ганс Лютц вроде ж а л е е т русских и только мешает быть таким, как требуется в «Памятке германской победы», написанной специально для солдат пропагандистским аппаратом третьего рейха…
Фасбиндер дослушивать Миллера не стал. По-прежнему играя парабеллумом, он бросил взгляд сначала на подошедшего унтера-толстяка, а потом на избы. Сказал:
– Случай исключительный… Сходим… – И уже направляясь в сторону дома Захара Лукьяновича: – Я вас, Миллер, благодарю за предусмотрительность и за гибкость ума. Вы, помню, с хорошей стороны показали себя в Польше. У вас как у верного солдата фюрера нет сердца, но есть душа. Вашими поступками руководит господь бог и фюрер… Отпуск домой вы заработаете скорее других.
Когда они вошли в избу, Захар Лукьянович стоял у изголовья дочери, женщины – подле окон. И только мать покойницы не сдвинули с места ни стрельба, ни вошедшие немцы.
В семье Фасбиндеров воспитание было поставлено строго. Детей учили не только родному, немецкому языку, но и иностранным, в том числе и русскому, с двухлетнего возраста. Почему и русскому, Генрих не знал, потому что семья жила всегда в Пруссии, в своем родовом замке. На лето выезжали в Швейцарию, Ниццу и на другие курорты Европы. Чтобы русский язык не забывался, Генрих изредка почитывал русских писателей в подлинниках. Придя на службу в армию, барон, однако, по-русски старался не говорить, если в этом не было необходимости. Так, считал Генрих, лучше. Пусть думают, что он как все: знает этот язык в меру того, что нужно знать офицеру. Но здесь, в Залесье, Фасбиндер не удержался и спросил, мягко произнося фразы, по-русски:
– У вас несчастье? О-о, как это печально! – И, видя, что покойница еще совсем молода, добавил, заподозрив неладное: – Как же это случилось?.. Такая юная и…
Все молчали. Захар Лукьянович поднял на офицера усталые глаза и тут же опустил их. Такое обращение немецкого офицера разжалобило. Задеревенелое сердце расслабло. Сдерживая слезы, он, будто жалуясь, промолвил:
– Вот… повесилась.
Фасбиндер сразу потерял ко всему интерес (обычный случай!). Вслух сказал жестко и сухо:
– Большевики в деревне есть?
Захар Лукьянович сначала не понял его вопроса. Когда же до его сознания дошел смысл слов, насупился. Смахнув кулаком со щеки слезу, сразу вспомнил о Момойкине.
– Нет у нас таковых, – сказал наконец он. – Откуда им быть, когда все убежали с фронтом.
Но тут жена Захара Лукьяновича издала такой крик, что Фасбиндер зажал ладонями уши.
– Не выгораживай! – поднялась она. – А Сашка?.. Убивец твоей дочери… Что он… не большевик? – И к эсэсовцам: – В Пскове в горкоме служил. Через него и дочь… – И заплакала.
– О-о, как жесток отец! – театрально воскликнул Фасбиндер и сказал Лютцу по-немецки: – Этих всех веди на площадь. – И к Карлу Миллеру: – С этим мужиком иди… Живым мне доставить этого большевика.
Миллер вытолкал Захара Лукьяновича на улицу.
Фасбиндер вышел следом. Довольный тем, что напал на след коммуниста, слушал, как в доме завопили. Думал по дороге к площади: «Мне везет. Я не Иоганн» (был у него такой приятель, который занимался по части снабжения в Пскове).
В сторону от машин, сбивая в плотную кучу, сгоняли народ. Вокруг стояли, угрожая автоматами, солдаты. Возле легковой машины унтер-толстяк вертел в руках наган.
– Откуда это? – Фасбиндер взял у него наган.
Унтерштурмфюрер показал на стоявших отдельно от толпы Опенкиных. Обер-штурмфюрер поглядел на них.
– Неужели? – не поверил он. – А на вид такие смирные.
Подойдя к Опенкиным, Фасбиндер дулом нагана подцепил счетовода за подбородок. Лицо счетовода покорно задралось вверх. Глаза застыли в немом страхе.
«Трус», – решил про себя Фасбиндер.
– Где взяли наган? – вежливо спросил барон Опенкина-старшего; он считал (и отстаивал свою точку зрения, еще когда готовились перейти границу СССР), что с русскими надо в отдельных случаях быть добрее, это даст дополнительный эффект.
Счетовод, видно, не подозревал хитрости и стал рассказывать правду. Обер-штурмфюрер выслушал. Узнав, что сыновья Опенкина имели пулемет, но ночью кто-то его выкрал (проделали в крыше сарая дыру, влезли и, пробравшись в сени, уволокли), насторожился. Заставил счетовода сказать, кого из жителей нет на площади (к этому времени сюда пригнали уже всех, кроме Момойкиных). Тот долго всматривался в лица выстроенных по дворам людей. Недосчитывалось заместителя председателя с сыном, уполномоченного милиции, сына коммуниста и всех комсомольцев, молодицы – соседки Опенкиных, у которой муж служил в Красной Армии, и еще многих. Назвал, все еще боязливо поглядывая на гитлеровцев, кого нет. А о том, что люди эти, вооружившись кто чем мог, ушли в лес, промолчал.
Фасбиндер учинил Опенкиным целое дознание.
Солдаты вынесли из правления стол и стулья. Фасбиндер, пригласив к себе унтерштурмфюрера и унтера-толстяка, сел на стул. Заставил объяснить сыновей Опенкина, для чего им понадобился пулемет, где они его взяли. Более хитрый Осип, смекнув, в чем дело, перехватил инициативу и рассказал все сам. Лобастый, с бронзовым от загара лицом, он блудливо поводил глазами, заискивающе горбился, старался выказать свою преданность новой власти. Фасбиндер, внимательно приглядываясь к нему, посматривал вдоль улицы – начинал волноваться: «Не сбежал бы этот Момойкин?» – и морщил гладкий белый лоб.
Льстя гитлеровцам, Осип закончил свой рассказ так:
– Новой власти хотели мы помочь, ваше… степенство (смутно помнил из книг, что так каких-то господ величали при царизме).
Обер-штурмфюрер остался доволен. «Этого, – он имел в виду Осипа, – можно и старостой временно назначить. Будет служить. Из него так и просится наружу холопье». Барон поднялся. Солдат по его знаку оттеснил, взмахнув автоматом, Опенкиных к грузовику. Опенкин-старший трясся всем телом, а сыновья его, опустив головы, косили глазами на народ, сбившийся под угрозой эсэсовских автоматов в кучу, пытались понять: что думают о них люди? Поглядывали боязливо. И это опять понравилось Фасбиндеру, потому что, догадался он, от него Опенкины ждали защиты, а от тех – кары.
В представлении Георгия Николаевича, сначала все шло гладко. Правда, шумно ворвался в дом немецкий солдат – эсэсовец. Ну и что? Естественно, он – победитель. Вошел, как хозяин. Как же еще ему входить? Естественно, что, поводя автоматом, кивком головы приказал всем стать к стене. Боится: он один, а их четверо.
У стены Георгий Николаевич стоял степенно, полуприкрыв плечом супругу. Миролюбиво посматривал на солдата, который, увидав на кухонном столе остатки от вчерашнего пиршества, простодушно показал желтые зубы и потянулся к недопитой поллитровке. Сунув ее в карман брюк, он схватил большой кусок жареной телятины и начал есть. Набив рот мясом, подошел к Вале. Показывая себе на руку, пытался знаками объяснить, чтобы сняла часы. Валя не поняла, а Георгий Николаевич, догадавшись, почему-то стал совсем добрым и подсказал:
– Отдай, Валя. Часы он просит. Отдай, наживем еще, – даже забыл, что она не из его семьи.
От слов его, произнесенных ласково, умиротворительно, ко всем пришло успокоение. Мать перестала шептать молитву, Саша даже улыбнулся, а Валя поняла, что Георгий Николаевич ее не выдаст.
Расстегнув, ремешок, Валя с насмешливой, снисходительной издевкой в глазах бросила часы в протянутую руку эсэсовца. И не пожалела, что отцовский подарок. Солдат, улыбаясь, сунул часы в карман и снова принялся за кусок телятины. Вынув поллитровку, налил в стакан водки. Выпил. Бутылку сунул опять в карман. По деревне постреливали. Солдат торопливо глотал недожеванное мясо и показывал всем усмешливо на нацеленный в них автомат. Насытившись, он швырнул недоеденный кусок телятины на пол и всем показал на дверь.
– И ей? – кивнув на Валю, заискивающе спросил Саша. – У ней нога болит, – и ткнул рукой на ногу, еще забинтованную чистой белой тряпкой.
Солдат потребовал, чтобы выходила и она, хотя, видно, сообразил, в чем дело. Валя взяла батожок. В это время в дверь ввалились, подталкивая Захара Лукьяновича автоматами, два немца. Солдат с веснушчатым лицом – Миллер – грозно направил на Момойкиных и Валю автомат. Все попятились в угол. Напарник Миллера грозно изрек, обращаясь к Захару Лукьяновичу:
– Кто… сказывайт… комиссар?
Тот хмуро смотрел в окно. Понимая, что для немцев его горе пустяки, молчал. Бросив растерянный взгляд на Сашу, промямлил наконец, обращаясь к Миллеру:
– Одним словом, баба… ум… как решето… Горе ее сковало.
– Вер ист комиссар? – взревел на Захара Лукьяновича Миллер и ткнул его прикладом автомата в спину.
– Сказывайт! – поддержал Миллера второй эсэсовец, которого он прихватил с собой по дороге сюда.
– Вот, – отскочив от повторного удара в сторону, ткнул рукой на Сашу Захар Лукьянович и добавил, будто этим можно было предупредить нависшую над Момойкиным-младшим угрозу: – Только не комиссар он. Просто служил в Пскове.
Миллер схватил Сашу за руку, выволок на середину комнаты, к столу. Солдату, который тут был до них и ел, приказал обыскать дом.
Через каких-то пять – десять минут комнату нельзя было узнать. Кровать сдвинули с места и поставили набок. Солому рассыпали по полу. Из сундука у двери выбросили небогатые наряды Надежды Семеновны. Топтались по подвенечному белому платью, которое она хранила всю жизнь. Высыпали на солому все из чемодана Георгия Николаевича. Пиджак его, вывернув в нем карманы и выбросив все из них на пол, швырнули под стол.
Георгий Николаевич сник. Увидев на полу свою справку, просил Миллера, порываясь к нему, чтобы тот поднял ее и прочитал. Миллер в ответ размахнулся и ударил его кулаком в лицо. Пошла из носа кровь. Растерянный, не понимающий, что делается, Георгий Николаевич пятился к сбившимся в углу женщинам.
Валя, уставив глаза на побледневшего, бессмысленно переступавшего возле стола Сашу, думала: «Вот дура! Уговорить его надо было, чтобы скорее уходил, когда фашисты фронт прорвали». Ее взгляд, ставший вдруг гневным, колючим, метнулся к растерянному Захару Лукьяновичу. В ее представлении он выглядел сейчас страшным человеком, вроде двурушника, о которых она читала в «Кратком курсе истории партии». Не сдержавшись, Валя процедила так, чтобы Захар Лукьянович услышал:
– Мало вас разоблачали, иуды… Не всех… вывели.
Немцы в горенке нашли Сашин комсомольский билет. Потрясая им, Миллер вытолкал Сашу на улицу. Приказал выходить и остальным.
Захар Лукьянович топтался у крыльца, не зная, с кем ему идти. Эсэсовец подтолкнул его к Момойкиным и Вале.
Как скот, окриками погнали их к правлению. Валя, прихрамывая на больную ногу, шла между Надеждой Семеновной и Георгием Николаевичем. Косила глаза на Сашу, которого вели сбоку, то и дело тыча ему в спину дулами автоматов.
На площади их всех подвели к столу.
– Этот? – видимо, чтобы еще раз убедиться, спросил у Захара Лукьяновича сидевший за столом Фасбиндер и показал на Сашу длинным пальцем с фамильным перстнем, сверкнувшим бриллиантовыми гранями.
– Этот, – глухо подтвердил Манин отец и, уставившись в черные очки эсэсовца, делавшие бледное лицо похожим на череп, встрепенулся: – Только он не комиссар. Пожалейте его. Он… От горя же это моя баба, от обиды…
Захар Лукьянович не договорил. По знаку Фасбиндера Миллер толкнул его к толпе. Крестьяне раздались. Захар Лукьянович остановился в образовавшемся проходе. Повернулся лицом к гитлеровским офицерам и так остался стоять один, пока не пробрались к нему убитые горем жена и сын его Прохор.
К толпе оттеснили и родителей Саши и Валю.
Надежда Семеновна, понимая, что случилось непоправимое, все плакала и вытирала подолом юбки мокрые от слез щеки. Неотрывно глядела на сына. Губы шептали молитву.
Фасбиндер, сняв очки, разглядывал Сашин комсомольский билет. Приказал Осипу подойти ближе к столу. Поднялся.
– Вот что, голубчик, – сказал он ему сурово, – будешь искупать свою вину перед великой Германией, – и рявкнул, вытянувшись: – Назначаю тебя старостой деревни. – Фасбиндер взял со стола наган и, небрежно вложив его в руку Осипа, указал на Сашу: – Кто он?
Осип, пораженный, что ему дали такой важный пост, радея перед новой властью, вытянулся по стойке «смирно».
– Момойкин он, вша степенства! – выпалил Осип.
– Не степенство, а господин офицер, – поправил его барон и добавил: – Болван, я спрашиваю, он коммунист?
– Не знаю, вша… – И поправился: – Господин офицер! – Осип, придурковато вытаращив серые глаза, добавил: – В Пскове он работал… в горкоме… А кто он, не знаю… Может… все они там были большевиками. Это когда вы пришли… Тут они, может, и отказались от большевитства… Точно, коммунистом был, поди…
– Вот что, – довольный, перебил его Фасбиндер, – найди веревку. Пошли кого-нибудь, брата можно. Коммунистов вешать надо. У нас с ними язык один – петля.
Но Осип брата за веревкой не послал. Взглянув на Дмитрия, стоявшего у грузовика вместе с отцом, он сорвался с места и по-мальчишечьи, будто надо было кого-то догнать из сверстников, пустился домой сам.
Фасбиндер проводил его глазами. Подошел к Саше. Комсомольским билетом приподнял ему опущенную голову и плюнул в лицо. Направился к толпе. Глаза эсэсовца сверкали злобными звероватыми огоньками. Валя сжалась. Ее взгляд встретился со взглядом гитлеровца. Никто не хотел уступать. Барон постоял перед ней и пошел вдоль толпы. Вернулся. И опять жестко смотрел в глаза Морозовой. К барону подошел унтер-толстяк. Осклабившись на Валю, он стал говорить что-то по-немецки эсэсовцу. Барон, выслушав, бросил ему какие-то обидные слова и отошел. Остановившись, заговорил. Потрясал комсомольским билетом Момойкина, уверял, что армия великого фюрера скоро уничтожит большевистские Советы по всей России и что с большевиками у немцев разговор короткий. Прозвучало несколько фраз о новом порядке, который-де несут миру они, немцы. Зловеще прорычал: что́ не покорится их, немцев, воле, то будет сметено с лица земли огнем и железом. Заговорил о Саше. Объявил крестьянам, что Момойкина сейчас повесят. Вина его, получалось, состояла в том, что он активный большевик, работал в горкоме Пскова. Потрясая в воздухе длинной рукой с золотым кольцом и перстнем на пальцах, Фасбиндер кричал, что Сашин билет – это прямая улика. Он подошел к столу и швырнул на него комсомольский билет Момойкина.
Осип, изогнувшись в лакейском поклоне, показывал Фасбиндеру залоснившиеся ременные вожжи – четыре года назад его отец украл их в колхозе. Барон приказал солдатам лезть с вожжами на старый вяз.
Надежда Семеновна истошно завыла. Рванулась вперед. Солдаты автоматами теснили ее к толпе. Она кричала, захлебываясь в слезах:
– Меня, меня наперво… За что его-то, ироды. Бога побойтесь… Меня.
Георгий Николаевич, вспомнив о справке, которая так и осталась на полу, тянул скрюченные руки к солдату и хрипел – пересохло горло:
– Ваш благородие, ваш благородие, у меня… документ… Дайте возможность…
Солдат слушал, слушал и вскинул на него автомат. Георгий Николаевич попятился… Двое солдат во главе с унтером-толстяком связали Саше руки и повели его к покачивающейся на легком ветру петле. Саша увидел петлю и только тут, видимо, поверил, что это – его смерть. Воздух прорезал, заглушив все, его жалобный, хриплый крик:
– Ма-а-ам!
Откуда-то появился Трезор. Распрямляя пушистый белый хвост, он подбежал к Саше. Скосил недобрый собачий взгляд на гитлеровцев. Залаял. Хищно оскалил зубы, вцепился в толстую ляжку унтерштурмфюрера. Осип крикнул на собаку. Унтер-толстяк в упор разрядил в Трезора кольт. Фасбиндер презрительно посмотрел на Осипа.
– Выбьешь из-под ног скамейку, – приказал ему обер-штурмфюрер.
Осип сразу сник. Жалкий, скованный ужасом, оглядывал он народ. Унтер-толстяк схватил Сашу за плечо широкой пятерней и толкнул к вязу.
Саша не сопротивлялся, не кричал больше. В его движениях появилась исполнительность. Только глаза еще лихорадочно поблескивали и то устремлялись на растянувшуюся в луже крови собаку, то искали в притихшей, одеревенело застывшей толпе мать, отца. С необычной для него покорностью подошел он к скамейке, принесенной из правления. Занес на нее ногу. Потом… Сашу подталкивал сзади Миллер, и Саша, поднявшись на скамейку, вдруг обезумел. Издав страшный, нечеловеческий вопль, он так толкнул ногой Миллера, что тот, упав, покатился по сухой, пыльной земле…
Надежда Семеновна билась, повиснув на чьих-то руках. Георгий Николаевич, прикрыв полуоткрытый рот ладонью, окаменел.
Сашу, вцепившись в ноги, держали эсэсовцы. Один, заскочив на скамью, сунул ему в рот кляп и стал ловить петлю. Саша, втянув в плечи голову, уже полусознательно боролся за жизнь.
Унтер-толстяк, став вдруг необычайно подвижным, бегал с «лейкой» вокруг виселицы и фотографировал ее с разных сторон.
Толчок ногой по скамейке, Осип сделал слабый. Качнувшись, скамья осталась на месте. Фасбиндер приободрил его:
– Посильней!
Осип зажмурился и так толкнул скамейку, что она, вывернувшись из-под Сашиных ног, метра на два отлетела в сторону.
Толпа глухо застонала. Валя перестала плакать, а Надежда Семеновна с искаженным лицом схватилась руками за волосы, и пошла на Фасбиндера, повторяя шепотом:
– Теперь меня, ирод… меня казни… – но не дошла, ноги ее подогнулись, и она повалилась головой вперед…
3
Горе, обрушившееся на семью, Георгий Николаевич переносил по-своему. Отвыкший за долгие годы скитаний от мысли, что встретится с семьей, и вот нашедший ее, со всею силой ощутивший ее тепло, теперь он никак не мог смириться с тем, что семье этой нанесен непоправимый удар… Вернувшись с судилища, он поднял справку, повертел ее в руках, надорвал, уж хотел было разорвать в клочья, но Валя остановила его и посоветовала сходить с ней к гитлеровцам.
– Может, тело хоть разрешат взять.
И он пошел. Фасбиндер принял его в правлении колхоза. Настроен он был благодушно. Выслушав Георгия Николаевича, он прочитал справку, спокойно посмотрел на Осипа, крутившегося тут же, и сказал наставительно:
– Тело разрешаю отдать: мертвый враг – все равно что друг… – И к Георгию Николаевичу: – Но помните, у нас с вами одна судьба: вы страдали от большевиков, и я страдал от них… Проявите твердость духа. Будьте мужчиной. В борьбе все равны: и брат, и сын, и отец. Если они не с тобой, значит, они твои враги. А врага уничтожают. Это сказал ваш Горький. Я люблю русскую литературу за прямоту.
Георгия Николаевича поразили слова Горького. Кто такой Горький, он не знал. Имевший за плечами два класса церковноприходской школы, он кое-как умел писать и читать. «Сердца у этого Горького нет», – думал он остаток дня, а вечером в горенке передал Вале свой разговор с немецким офицером. Валя слушала не перебивая и, когда он смолк, ответила:
– Во-первых, вы от большевиков не страдали – пожалел волк кобылу, а во-вторых… этот фашистский мерзавец занимается демагогией. Горький говорил не так. Он сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». А то, что сказал вам гитлеровец, и то, что на самом деле писал этот пролетарский писатель, – вещи разные. Горький – гуманист, а эти – варвары, поработители народов, скоты, зверье.
Трудно было Георгию Николаевичу разобраться во всем. Трудно. Как могли, все защищали себя и обвиняли своих противников. Получалось, каждый по-своему прав и виноват. «Все мы, люди, скоты, враги друг другу», – мысленно спорил он с Валей. Из горенки, где разговаривали они, прошел в комнату. Поглядев на прибранного на столе Сашу, вынул из кармана справку, сложенную вчетверо, измятую, надорванную. Вырвалось: «Не уберегла». Но бумажку он не порвал, не бросил. Сунув ее снова в карман, Георгий Николаевич подумал: «Все одно не помогла бы…»
И Сашу, и Маню хоронили в один день, когда эсэсовцы уехали куда-то к Вешкину. И могилы им выкопали рядом, на краю кладбища, у молодого серебристого тополя.
После похорон Георгий Николаевич задумался: кто же все-таки виноват в гибели сына? «Кто-то должен быть виновным?» – ломал он голову. Когда Валя объявила ему, что уходит, он тоже решил переселиться на время к брату, в Полуяково. Взяв в горенке мешок, который Саша готовил для себя, сказал Вале:
– Вместе уйдем. Жить тут нам теперь никак пока нельзя. – И попросил, чтобы она сложила в мешок остатки продуктов – яму не трогал.
Надежда Семеновна отнеслась к переселению безразлично. Только вымолвила, с недоверием поглядев на иконы:
– Бога мы, знать, чем-то обидели… Или сердца у него… нет.
Сложив во второй мешок вещи, Георгий Николаевич сел на лавку возле стены. Опять его одолела мысль, что должен же кто-то быть виновен в смерти сына. И тут он вдруг вспомнил, как Захар Лукьянович указывал немцам на Сашу. И в груди Георгия Николаевича все вскипело. «Подлец… Вот кто виновник». Сильными пальцами Георгий Николаевич тер коленные чашечки… Он искал способа отмщения. Поглядев на противоположную стену, увидел старый кованый нож, воткнутый в паз и служивший когда-то для забоя скота. Георгий Николаевич тут же поднялся. Выдернул из паза нож. Вышел в сени и стал точить его на полукруге – остатке от точила. Сталь еле поддавалась. Он то и дело проверял на пальце острие лезвия. Когда нож стал острым, сунул его за голенище. Нож был длинный, и ручка чуть высовывалась.
Мешок Валя собрала. Георгий Николаевич решил почему-то уходить ночью, и они молчаливо ждали вечера.
Георгий Николаевич нет-нет да и щупал ручку ножа за голенищем. Уж смеркалось, когда он поднялся и, опустив на плечо жены большую крестьянскую руку, сказал:
– Не убивайся, жена… и это пережить надо… Переждем, а там видно будет, как жить, – и вздохнул, на минуту закрыв покорные, на всю жизнь сохранившие в себе испуг глаза. – Что делать-то? Вишь, жизнь-то нам, как сучка бездомная, горести одни да нелады ворохом приносит…
Валя посмотрела на него. Подумала с гневом: «Тоже – утешил… Забыл за двадцать-то лет, как утешают близких!» Проговорила, обращаясь к нему:
– За счастье надо уметь бороться. Вокруг вас много хороших людей. Настоящих… Это фашисты принесли всем горе. Вот их и надо… бить. О Родине надо думать! – и застыдилась, невольно подумав о своем бездействии.
Георгий Николаевич убрал с плеча жены руку. Вымолвил:
– Тут я темный… Никого из людей я не помню, кромя урядника да на кого спину гнул… – и поглядел в окно, в сторону дома Захара Лукьяновича. – Да вот этого, который сына лишил… запомнил. На всю жизнь запомнил.
Было уже темно, когда Георгий Николаевич, взвалив оба мешка на плечи, вынес их на зады дома. Вернулся. Закрыл ставни, забил двери в избу… Возле хлева жалобно мычала недоеная корова, на насесте кудахтали несушки… Ничего не стало жалко. Безучастно посмотрел он на хлев, на корову… Подойдя к мешкам, взвалил их на спину и тоскливым голосом спросил Валю:
– Не тяжело ходить-то?
– Не тяжело, – ответила та, опираясь на палку.
Пошли.
По гречихе они вышли к лесу. На опушке, возле шоссе, Георгий Николаевич остановился. Сбросил на землю мешки.
– Вы тут постойте, а я вернусь на минуту… Забыл…
Сказал и направился обратно в деревню. В деревне долго стоял напротив дома Захара Лукьяновича. Вслушивался. Деревня спала.
Георгий Николаевич пересек улицу, подошел к дому. У крыльца постоял. Вынул нож… Наконец решившись, он негромко постучал в окно. Поднялся на крылечко. Ждал. Когда дверь в избу скрипнула, позвал миролюбиво, просяще:
– Захар Лукьянович, выдь… на минутку.
Отец Мани открыл двери в сени. Перешагнул порог. В его усталой, разбитой горем голове было пусто. Не понимая, зачем пожаловал гость, он остановился, почти столкнувшись с Георгием Николаевичем.
– Что скажешь? Заходил бы в дом уж, раз…
Договорить ему Георгий Николаевич не дал. С силой послав нож вперед, он воткнул его почти по рукоять.
Захар Лукьянович даже не крикнул.
– Вот. За Сашу это тебе… За сына, – прошипел Момойкин над сползающим на ступеньки телом. – Вот.
Не пряча ножа, Георгий Николаевич пересек улицу. Огляделся. Вышел к гречихе и направился по тропе.
Стояла чуткая тишина. Где-то в стороне подавала жалобный голос волчица. Георгию Николаевичу захотелось упасть в гречиху и рвать грудь… Когда подходил к опушке, голос волчицы вдруг смолк, оборвавшись на высокой-высокой ноте, в которой она пыталась, показалось ему, вылить всю свою боль, а из Залесья, широко раскатившись по полю, долетел нечеловеческий вопль Прохора, брата Мани: «У-би-и-ли-и-и!»







