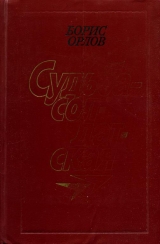
Текст книги "Судьба — солдатская"
Автор книги: Борис Орлов (2)
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 41 страниц)
Соня стала остерегаться ефрейтора. Она почти не отходила от Зоммера, который все сидел на кухне, угрюмый и неразговорчивый. Перед вечером ефрейтор, войдя в кухню, все-таки ущипнул Соню за грудь. Соня от боли вскрикнула. Мать, неотступно следившая за дочерью, нахохлилась. Загородив ефрейтору дорогу, стала стыдить. Соня тихо тянула ее за рукав кофты – не ввязывайся, мол. Немец, не понимая слов, но догадываясь, о чем она говорит, нагло смотрел ей в глаза, дерзко улыбался, а когда она смолкла, показал, пригрозив, кукиш. Остальные немцы – они толпились в дверях кухни – засмеялись над ефрейтором. Это приободрило и Сонину мать. Засмеявшись тоже, она так стукнула по его кулаку с кукишем, что он отдернул руку, выругался. Гитлеровец уже готов был ее ударить, но тут в дом вошел офицер, и солдаты побежали в свою комнату.
Перед тем как ложиться спать, ефрейтор снова вышел в кухню. Вылив через окно кипяток из чайника, он приказал жестами Соне снова набрать воды и вскипятить, а когда это стала делать ее мать, отстранил ту и сунул чайник дочери. Соня вскипятила. Зоммер отнес его ефрейтору. Ефрейтор тут же вернулся в кухню вместе с чайником, демонстративно вылил кипяток опять за окно, приказал вскипятить снова, а потом еще раз вылил. Вылил и, злобно засмеявшись, ушел к своим.
Утром немцев подняли чуть свет. Спешно перетаскав из комнаты узлы, ранцы, винтовки, они забрались в кабины машин и поехали. Ефрейтор, выглянув из кабины, осклабился и крикнул стоявшим у окна в кухне Зоммеру и Соне:
– Ауфвидерзеен![6]6
До свидания! (нем.)
[Закрыть]
– Глюклихе рейзе[7]7
Счастливого пути (нем.).
[Закрыть], – ответил ему Зоммер и вдогонку послал: – Сволочь!
– Что ты ему сказал? – спросила Соня.
– Что? Ты же слышала. Попрощался…
– Я тебя прошу, так не надо. Хорошо, что он не вернулся.
Но в душе Соня одобрила Зоммера. Она и любила-то его за эту решительность.
– Я, Соня, не знаю, как их вынес. Какие это, к черту, немцы! Это просто гады… Мне надо уходить… К своим уходить, – тяжело вздохнул Зоммер, – немедленно уходить, иначе я решусь… – И он заговорил о другом: – Вчера слушаю их, а они радуются: говорят между собой, что на днях падет Ленинград и в нем-то уж они поживут… Мыслимо ли? Во мне все бунтует. Не вы бы, передушил бы всех… Вслушиваюсь в их разговор, а сам вижу, как где-то истекает кровью в боях родной полк, рота… Да, может, наших уж и в живых нет, по их телам, может, фашисты прошли от Пскова вперед… Слушаю, умом соглашаюсь, что гитлеровцы могут и Ленинград взять, если так пойдут, а сердце протестует. Хочется… – И Зоммер достал из кармана нож.
Соня испуганно посмотрела на нож. Проговорила:
– Успокойся. Уйти ты еще не можешь. Надо немного переждать. Ты же еще слаб. Тебе не дойти до фронта, да и неизвестно пока, где он. Как ты пойдешь, если тут то и дело за голову хватаешься… Давай лучше подумаем…
Соня не договорила – выскочившая из комнаты в коридор мать не своим голосом позвала ее. Соня, вздрогнув, бросилась на материн вопль, Зоммер – следом.
Мать держала в руках грязную тряпку, и Соня сразу все поняла.
– Что же это за люди за такие?! – не то возмущалась, не то жаловалась мать. – Все платья твои из шкафа до единого взяли, пальто, из сундука все повытаскали, а потом… посмотри, – и, заведя их в комнату, толкнула дочь к раскрытому сундуку.
На дне сундука… Соня старалась не глядеть на то, что ей показала мать в сундуке, а думала: в чем она теперь будет ходить, ведь осталось одно платье – старое, ситцевое, которое было на ней.
Зоммер, брезгливо отшатнувшись от сундука, сказал:
– Может, они и дома по этому новому порядку ходят прямо там, где приспичит… Какие это немцы? Это хулиганье, циники, мародеры!
Сонина мать, понюхав в кадушке, где рос фикус, сморщилась. Подняла ее и вытолкнула через окно в палисадник.
– Хулиганы и есть, – вздохнула она, приходя уже в себя.
Зоммер негодовал. В нем все кричало, стонало. Готовый сгореть от стыда, он горько думал: «И почему моя мать оказалась немкой?! Почему не родился я от русской женщины или там татарки, узбечки, белоруски?! Позорно быть немцем, если все они там, в Германии, такие, как эти!..» Но вдруг он начал переубеждать себя: «А почему я должен стыдиться своей нации? Моя мать немка, но она настоящая немка. Она учительница. Она учит детей добру, любви к своей, Советской Родине. И отец у меня хороший… Нет, народ не бывает целиком порочен. Порочны бывают те, кто управляет им, толкает его на низменные поступки…» Но Зоммер не смог переубедить себя. Стыд не проходил.
Соня, захлопнув крышку сундука, отошла к кушетке. Хотела сесть на нее и увидела, что кушетка вместе с чехлом прорезана, через все сиденье. Онемев, глядела она куда-то перед собой и слушала, как сокрушается мать:
– Ну платья взяли, ну пальто, тряпки из сундука, а к чему им мои штаны из байки? Да я их и носила-то, когда зима лютовала больно.
Зоммеру вдруг стало радостно, что ни Соня, ни ее мать не знают немецкий язык и поэтому не представляют, о чем тут говорили гитлеровцы, и, чтобы как-то ободрить их, сказал:
– Да, хорошую опору себе подобрал Гитлер! С ней он быстро голову сломит.
Днем к Соне зашел Еремей Осипович.
– А-а, сержант? – входя в комнату и увидав хмурого, немного растерявшегося Зоммера, сказал он и протянул ему руку. – Что, не ушел еще к фронту? Или того… и хочется и колется, как говорится?
Зоммер обиженно процедил, что, пока цел, надо действительно уходить. Жал парню руку. Кисть Еремея Осиповича состояла, показалось ему, из сухих, ломких косточек, и он старался сильно ее не жать… Сонина мать на чем свет стоит ругала непрошеных гостей. Еремей Осипович слушал ее серьезно. Выслушав, проговорил:
– Бесчинствуют, что тут говорить. Поживем, увидим, что будет дальше. Плакаты понаклеили везде. Объявления. Регистрируют население… Бургомистрат организуют – орган их власти. Призывают идти в него работать…
Зоммер только сейчас по-настоящему разглядел Еремея Осиповича. Парню было лет двадцать восемь – тридцать. Он был страшно худ. Кожа на его костлявом лице отдавала синевой. Большие светлые глаза сидели глубоко и оттенялись почти белыми ресницами, а шишковатый лоб венчали льняные, зачесанные назад длинные волосы. «Не то тут, да и не пара он Соне, – все еще в чем-то сомневаясь, заключил про себя Зоммер. – Другое их связывает. Другое!» И у него защемило сердце, потому что неожиданно для себя он стал догадываться: они от него скрывают что-то значительное. Подумал: «Зачем же так? Я же свой!»
Соня провела Еремея Осиповича на кухню. Парень, посматривая в окно, рассказал, что фронт ушел к Луге и там гитлеровцев остановили, что делается в городе, передал приказ:
– Живи пока, как живешь. Пусть все уляжется. Ничего не делай. Присматривайся ко всему. Я с недельку в отлучке буду.
Заговорил о Зоммере.
Из его слов получалось, что Зоммеру верить во всем нельзя. Если он настоящий советский человек, то сам должен понимать, что его место в армии, а если он хитрит, тогда для него же хуже. Значит, он просто изменник, предатель.
– Ну а если он не изменник, не предатель? – Соня строго посмотрела ему в глаза. – Он же еще больной! Ему сейчас и до фронта-то не дойти – сил не хватит, да и…
– Если не изменник? – По улице шел немецкий патруль, и Еремей Осипович, пожалев, что занавеска не задернута, потянул Соню за локоть в глубь кухни. – Если не изменник, тогда иное дело. Тогда ему все равно надо что-то придумывать – сейчас каждый честный человек борется. – И наморщив лоб: – Он принимал присягу. Если не может пока идти, пусть здесь пользу приносит своей Родине. На этот счет, кстати, есть указание партийного центра: нам нужны знающие немецкий язык люди позарез…
– Не понимаю, – вставила Соня. – Ты же предупреждал, что раскрываться перед ним, хоть я ему и верю, нельзя?
– И сейчас повторю: нельзя. Пока человека не проверили в деле, нельзя… Но ему можно намекнуть: пусть идет на службу к немцам, а там, мол, видно будет. Кто-то, мол, остался же в городе и борется – только связь придется установить с этими людьми… – И объяснил: – На заседании партийного центра решили, что наши люди должны быть и в учреждениях у немцев. Гитлеровской администрации сейчас переводчики нужны будут. Полицию формируют… Без чиновников им тоже не обойтись. Вот и пусть идет туда. Поработает – присмотримся, на что годен. Появится у нас уверенность в нем, тогда и приобщим к подполью. Сейчас все представления о людях меняются: война всех обнажает.
Соня молчала. Сама она согласилась работать в тылу у немцев легко. Вопрос о том, что ей, как и другим на ее месте, может угрожать гибель, Соню не беспокоил. «Надо так надо. Кто-то должен бороться и, если понадобится, умереть», – решила она тогда. Но сейчас, когда встал вопрос о жизни Федора, ей сделалось тяжело. Что-то запротестовало в ней. «А вдруг гитлеровцы скажут: «А, красный командир?!» – и убьют его», – метнулась мысль.
– Но он, наверное, уйдет все-таки через день-два к фронту? Полегчает и уйдет, – сказала наконец Соня, веря, что в армии ему будет надежней. – К своим уйдет.
В дверях показался Зоммер. Уловивший, видно, ее последние слова, он нехорошо улыбался. Сказал, обращаясь к парню:
– Мою судьбу решаете? Вы о себе подумайте! – И к Соне: – А ты не бойся, не задержусь. Вечером действительно уйду… ночью, может. Как-то надо пробираться к своим.
– Ты не кипятись, – ответил ему вместо Сони Еремей Осипович. – Куда ты пойдешь один? Фашисты кругом. Схватят – прикончат на месте, а то вон в лагерь… говорят, в Крестах он уже есть. – И замолчал, о чем-то задумавшись.
Зоммер обиженно посмотрел на парня и ушел в комнату.
Соня и Еремей Осипович снова зашептались.
Выслушав Еремея Осиповича, Соня проговорила:
– Но как же он здесь бороться будет? Как он к фашистам устроится? Если бы еще был гражданский, с паспортом, а то у него же красноармейская книжка… Схватят и…
– Вот и пусть хватают… – улыбнулся, чуть сощурив глаза, Еремей Осипович и сказал: – То, что у него книжка, может, и лучше. Ему надо самому к ним прийти. Пусть объяснит: так, мол, и так, немец, мол, всю жизнь ненавидел большевиков, сознательно остался, хочу служить Гитлеру и своей великой арийской расе… Понятно? А попадет туда, первое время надо притихнуть – в доверие по-настоящему войти. А чтобы к ним попасть и в доверие войти – тут надо идти на все, и на вранье… На Зоммера они клюнут: им люди позарез нужны, а кому верить в первую очередь, как не собрату по крови. – И помолчав: – Ну… в общем-то, дело его. Только пойми, Соня, борьба – это всегда риск, всегда как на острие бритвы.
Еремей Осипович встал, пристально поглядел Соне в глаза, будто испытывал ее на стойкость. Не сказав ничего больше, подал руку и ушел.
Соня мучительно решала, что посоветовать Федору. Знала: что ему скажет, так он и поступит, – а это значило решить его судьбу. И Соня выбрала… Войдя в комнату, села рядом с ним на кушетку – мать уже починила ее. Прижалась к нему. Будто размышляя, говорила, что уходить к фронту, наверное, не надо – это действительно рискованно сейчас, – что лучше прикинуться у гитлеровцев своим и, поступив к ним на работу, служить у них нашим.
– Ведь кто-то же остался в городе и борется?!
Зоммер впился глазами в ее бегающие зрачки. Выдавил:
– Непонятно и обидно: если вы и есть те борющиеся, то нечего… Ты же меня знаешь!
Зоммера душила обида. Казалось, что находится он в каком-то ложном положении: ему и хотят доверить что-то серьезное, и боятся это сделать. А почему? И в памяти вдруг всплыла встреча в последний день на УРе с Чеботаревым. Привалившись к стенке окопа, Петр поглядывал по сторонам и шептал: «Не хотел говорить, да надо тебе знать об этом: Сутин на тебя Вавилкину ябедничает, в неблагонадежности обвиняет. Сам у Вавилкина бумажку видел, Сутиным написана». Рассказал о встрече со старшим оперуполномоченным – видно, хотел успокоить Федора, потому что тот стоял от обиды чуть не плача.
Лицо Зоммера сделалось суровым. Отстранившись от Сони, он думал о том, как его встретят в полку теперь, когда он явится из-за линии фронта. Что станет говорить о нем Сутин? Как поведет себя Вавилкин? Поверят ли там ему с е й ч а с? И если не поверят, то что его будет ожидать?
Лоб Зоммера покрылся испариной. Он неторопливо провел по нему ладонями, посмотрел на плотно сжатые Сонины губы и подумал: «Какого черта мне рваться к фронту, лезть на глаза этим сутиным? Бороться с гитлеровцами можно и здесь».
Соня сидела все так же неподвижно. Зоммер понял, что ей не легче, чем ему. Старался угадать ее мысли. Вспомнил, что́ сказала ему она о Еремее Осиповиче в первый раз, когда потребовала ничего у нее об этом человеке больше не спрашивать. И Зоммера вдруг осенило: «Конечно, они и есть эти – борющиеся!» И решение пришло само собой.
– Вот что, – проговорил он твердо. – Я остаюсь здесь. Пусть будет что будет: пойду в эту самую комендатуру, а там… Если все хорошо получится и примут меня, не растерзают сразу же… я тогда покажу гитлеровцам! Самое сердце рвать им стану. – Он на минуту смолк. Налившиеся гневом глаза его, казалось, уже видели, как происходит это сведение счетов с гитлеровцами. – У меня выбор небольшой, – посмотрев на Соню, Зоммер невесело усмехнулся, – по русской сказке: налево пойдешь – в пасть попадешь, направо пойдешь – на беду набредешь, прямо пойдешь – там тоже горе ждет. Вот какой у меня выбор. Счастье мое в одном: где бы ни оказался, везде оставаться солдатом своего Отечества. Дело не в том, конечно, где драться с фашистами, важно – драться, и результативно. А раз так… может, ты и права: незачем тащиться куда-то за тридевять земель, чтобы бить эту погань.
Глава пятая
Похлебкин лежит на санитарных носилках на дне окопа.
Приближается ночь. Последние лучи багровеющего солнца еще цепляются за макушку чудом уцелевшей неподалеку одинокой сосны, ствол которой сильно иссечен осколками. Комбату жарко, и он то и дело шепчет, еле размыкая синеющие губы:
– Воды… Горит… Воды…
Над ним склонились Стародубов и Буров. Похлебкину не нужно воды: он умирает – пуля пробила ему шею под ухом.
Уставившись на комбата черными утомленными глазами, Буров удивляется, что Похлебкин совсем маленький, оказывается, и думает, вспоминая.
…Два дня, дерзко преградив немцам путь к реке Луге, отбивался полк от озверевших гитлеровцев, которым во что бы то ни стало надо было прорвать его оборону и двинуться вперед, к Ленинграду.
Лесной холмистый массив, на котором окопался полк, немцы почти беспрерывно обстреливали из пушек и минометов. Но танки после атаки в первый день, когда четыре из них были подожжены, а два застряли в болоте между озерками, гитлеровцы больше не пускали. Зато они не жалели пехоты, снарядов и мин. Сообразив, что так просто полк им не сокрушить, на третий день они пригнали откуда-то пленных красноармейцев. Тех, которые отказались идти впереди их цепи на зарывшийся в землю полк, расстреляли тут же. Остальных погнали под устрашающие окрики и автоматные очереди.
Полк замер. Замешательства не было. Просто никто не хотел стрелять по своим – все выжидали минуты, чтобы броситься в штыковую, а там… Когда до линии окопов осталось метров сто пятьдесят, среди пленных что-то произошло. Упал на землю сначала один. Упал и пополз по зеленой с редкими кустами лужайке. Потом, будто сговорившись, попадали остальные. Немцы начали было стоя, как шли, стрелять по уползающим красноармейцам, но в это время откуда-то с фланга ударил «максим». Длинная очередь пошла гулять по цепи. Немцы падали. Отстреливаясь, уползали за кочки, за кустарник. Атака их захлебывалась. Но гитлеровцы быстро пришли в себя: заметив, что огневое взаимодействие на левом фланге батальона Похлебкина организовано с соседом без учета местности, и, перегруппировавшись, бросились, пригибаясь, на батальон Похлебкина по еле заметной лощине. Пулемет с фланга второго батальона поразить их тут не мог, а ружейно-автоматный огонь похлебкинцев был очень слаб: боеприпасы кончались и огневые точки располагались здесь очень редко. И гитлеровцам удалось ворваться в наши окопы. Бойцы кинулись в рукопашную схватку. Немцы поливали наших из автоматов. Их было намного больше, и они пробились узким коридором через оборону полка на всю глубину ее, ворвались в обоз. Батальон Похлебкина оказался отрезанным от основных сил полка на маленьком пятачке земли, окаймленном со всех сторон озерками. Людей осталось совсем мало. Патроны кончались. Не было мин и снарядов. Оставалось по гранате-две на отделение.
Это произошло часа в четыре вечера. А в восемь тридцать неожиданно для батальона там, где остались основные силы полка, разразилась горячая ружейно-пулеметная перепалка. И почему-то все сразу поняли, что полк отходит в низину. И действительно, через полчаса стрельба стала медленно удаляться к болотистым лесам, на северо-восток. Стародубов, находившийся в это время с Буровым в окопе у Чеботарева, сказал, вглядываясь в помрачневшее лицо Сутина: «Знамя бы только вынесли». Буров через минуту ответил: «Знамя вынесут. Оно во втором батальоне было. Штаб вот со всеми документами… у гитлеровцев. С обозом захватили. – И проворчал: – Не обоз бы этот, так не прорвали бы… И людей бы столько не потеряли…» Стародубов, пригибаясь, побежал по вырытому ночью неглубокому ходу сообщения на КП батальона. Буров посмотрел на трясущегося Сутина. «Тебе что, страшно? – спросил он его. – Сейчас не время дрожать». Сутин, машинально сжимая цевье автомата, молчал. Политрук вспомнил, как в батальоне, когда полк стоял еще на УРе, расстреляли труса. Захотелось напомнить об этом Сутину, но по цепи передали, что его требует комбат, и Буров, забыв о ходе сообщения, а может, и пренебрегая им, короткими перебежками напрямую бросился к КП.
Похлебкин в окружении оставшихся офицеров батальона сидел на дне окопа. Вытянув раненную осколком ногу, обутую в сапог с разрезанным голенищем, он чертил на песчаном грунте схему. Буров сразу понял: решился на прорыв. Комбата выслушали. Он считал: сосредоточив оставшиеся силы на позициях второго взвода первой роты, необходимо идти немедленно на штурм. Варфоломеев предложил свой план выхода из вражеского кольца. «Сил идти на штурм у нас нет, – сказал он, поглядев на Стародубова. – Мы можем рассчитывать лишь на одно: дождаться темноты и просочиться через вражеские позиции. Поэтому не лучше ли идти ночью, и идти справа вот от этого озерка, по болоту, – Варфоломеев чуть приподнялся и указал рукой в сторону, где надо выходить. – Немцы наверняка тут имеют просто отдельные заградточки… Да и вообще, тут топь… всех не перестреляешь, а при хорошем прикрытии пулеметным огнем тем более». Похлебкин выслушал, но с планом не согласился. «Ждать ночи нельзя. Немцы раньше могут атаковать», – проворчал он. Его поддержал оказавшийся в черте батальона Вавилкин. Остальные, глянув на комбата, впились глазами в схему прорыва, начерченную майором на песке.
Молчали. Понимали – последнее слово за Стародубовым. На чью сторону он станет, так и будет. Слушали, как посвистывают, пролетая над окопом, шальные вражеские пули. Ловили далекую затихающую ружейно-пулеметную стрельбу. «А наши все же отрываются от немцев», – вздохнул Буров. Никто не откликнулся на его слова. Ждали решения Стародубова, и Стародубов, хмурясь, думал. «В батальоне осталось сто восемьдесят человек, – проронил наконец он. – Обороняться почти нечем. Патронов даже нет. – И, обведя всех холодным взглядом, произнес: – У нас один выход – принять план Варфоломеева. Этот план рассчитан на сохранение людского состава, он менее рискован… И к Похлебкину: – Мы должны или выйти сегодня, или сегодня же… погибнуть», – и замолчал. Комбат свирепо смотрел на батальонного комиссара. Ничего не говоря, встал. Ногу прожгла боль. И вдруг, схватившись рукой за шею, начал падать… Из-под ладони хлестала кровь. Его сразу же перевязали. Принесли из КП носилки. Положили на них. Стародубов приказал, Шестунину, который теперь командовал третьим взводом, быть возле комбата, а сам, прихватив Варфоломеева и Бурова, направился в первый взвод, откуда надо было идти на прорыв.
В траншее творилось непонятное. Разгоряченный Закобуня что-то объяснял сержанту Курочкину, показывая длинными руками в сторону немцев, на кустарник перед окопом. Рядом, присев на корточки, возбужденно поглядывал на обоих Чеботарев. Разобравшись, Буров выяснил, что Закобуня пытался застрелить уползающего к гитлеровцам Сутина. «Последний патрон истратил на подлеца, – объяснил он политруку. – На себя берег…» – «Для себя беречь нечего. Это… тоже трусость – беречь для себя. Надо и последний посылать во врага, – ответил политрук. – На нас пускай враг патроны расходует… Уполз, значит…» И пожалел, что не успел поговорить давеча с Сутиным – может быть, и не случилось бы этого.
Стародубов выругался. «Подлец какой», – сказал он о Сутине.
Варфоломеев, спрятав голову за куст, торчавший над бруствером окопа, стал объяснять, показывая на местности, план выхода из кольца. «Голова!» – сказал ему одобрительно Стародубов. – Тебе давно пора не взводом командовать, а повыше…»
Разработав план прорыва в деталях, Стародубов, Буров и Варфоломеев отправились обратно на КП батальона – готовить людей к последней схватке… И вот они стоят перед умирающим комбатом. Стародубов, сурово поглядывая на носилки, приказывает Шестунину собрать сюда командиров рот и взводов – их мало, их почти не осталось. Шестунин убегает. Стародубов уходит на КП.
– Воды… – уже еле слышно шепчут запекшиеся бледные губы Похлебкина, а Буров все думает, уставив на комбата худое, черное от грязи и нервного напряжения лицо: удастся ли батальону вырваться отсюда?
Стародубов, взяв на КП комбата схему обороны батальона, возвращается обратно. Они садятся на дно траншеи и, изредка бросая взгляды на умирающего Похлебкина, уточняют план прорыва. Решают: начинать через тридцать минут, чтобы не дать врагу времени одуматься и понять, что у обороняющихся почти нет боеприпасов и осталась их горстка.
К ним подошли оставшиеся в живых восемь офицеров батальона и Шестунин с Вавилкиным. Стародубов приказал старшине командовать правофланговой группой прикрытия. Тот, коротко сказав: «Есть», требует для выполнения этого приказа хотя бы четыре диска с патронами. Стародубов отдает распоряжение собрать в батальоне патронов на четыре диска. Пулеметчиков разрешает Шестунину выбрать самому… Вавилкин просится в штурмовую группу. Он спокоен, собран. Винтовка, которую он держит в руке, длиннее его тела. Стародубов, оглядев с ног до головы старшего сержанта, отказывает ему. Вавилкин еле гасит обиду.
Комбат умер.
Время идти на прорыв.
Сумерки опустились на землю, изувеченную изнурительным, тяжелым боем. Потянувший ветерок лениво покачивает уцелевшую на березе ветку, и она то открывает, то снова заслоняет от взора Бурова крупную красноватую звезду еще на светлом, не успевшем почернеть небе…
Над окопом, где сидели Чеботарев, Карпов и Закобуня, с шумом пронеслась дикая утка. Плюхнувшись в озерко, она нежно, призывно крякнула и поплыла к берегу, заросшему кувшинками и осокой. Все трое, проводив ее глазами, снова стали смотреть в сторону, куда уходил, отстреливаясь, полк. Роем звенели комары. Лицо Закобуни покрылось пупырышками от их укусов. Чеботарев, глядя, как он остервенело отбивается от комаров, добродушно дает совет:
– А ты не трогай их. Не трогай, и они тебя перестанут кусать. Эта тварь такая. Я ее знаю.
– Ты лучше дай мне пару патронов. У тебя же в диске есть, – стукнув ладонью по лбу, чтобы убить очередную «тварюгу», просил Закобуня.
– Зачем тебе патроны? – вмешался Карпов. – Пулемет… он надежнее.
– Какой же я боец без оружия? – возмутился Закобуня.
– Как какой? – усмехнулся Карпов, не перестававший страдать от раны, полученной еще на УРе. – Вот пойдем в атаку, ты прикладом будешь бить – руки у тебя длинные. Мы же винтовку у тебя тогда не попросим?
К ним подошел Курочкин.
Невеселый разговор смолк. Закобуня, высунувшись из окопа, вспомнил о Сутине и процедил сквозь зубы:
– Как же я промазал?
– В Ферапонта? – спросил Чеботарев и сказал: – Торопиться не надо было.
– Не Ферапонт он теперь для нас, а сука, – нахмурившись, поправил его Курочкин.
В стороне, перед позициями третьего взвода, какой-то смельчак переползал от трупа к трупу гитлеровцев и совал в вещмешок гранаты.
– О це снабженец! Може, наикрашче Шестунина, – бросил Закобуня и сполз на дно окопа – вокруг, взрыхляя землю, свистели пули.
– Заметили, – сказал Карпов.
Чеботарев не слушал их. Привалившись к стенке окопа, он думал, удастся ли им выбраться отсюда. Вспомнил – будто затем, чтобы навсегда проститься, – об отце, о матери, о Вале… Взгляд скользнул за окоп. Остановился на расщепленном стволе старой березы. В первый день, когда полк только занял здесь оборону, он, Чеботарев, выбравшись вечером из окопа, перочинным ножом вырезал на ее комле слова: «Здесь сражались Чеботарев, Карпов и Закобуня – бойцы батальона Похлебкина». Хотел резать дальше: указать полевой номер части. Но в это время к нему подполз Вавилкин, который на днях от должности младшего оперуполномоченного был отстранен и списан в полк на должность командира взвода и временно, пока командовать было некем, выполнял отдельные поручения при штабе полка. Прочитав надпись, Вавилкин положил Чеботареву на плечо руку и сказал: «А из разрезов-то слезы бегут… Плачет береза-то. Терпеливая, а плачет». И действительно, она давала сок. Чеботарев вслух удивился: «Лето, а все… плачет». И смотрел, как Вавилкин уже полз к соседней траншее – она вела к штабу полка, возле которого сидел корреспондент. Перед тем как Вавилкин спустился в траншею – видел Чеботарев, – корреспондент вынул из кармана брюк блокнот и, положив его перед собой, что-то записал…
С пулеметчиком и вторым номером в окоп пришел Шестунин. В руках он держал набитые патронами два диска. Передав диски Карпову, стал приглядываться к местности правее озерка.
Темнело.
Немцы изредка пускали ракеты. Шестунин не обращал на ракеты внимания. Оглядев местность, он приказал пулеметчикам, которых привел, располагаться в стрелковой ячейке Сутина. Только после этого Шестунин заговорил с Чеботаревым.
– Мы тут вроде смертников будем… – усмехнулся он одними углами губ. – Знаешь, у японцев?.. – И стал объяснять задачу, возложенную на них по плану прорыва.
Чеботарев хмурился, слушая. Карпов перепроверял, правильно ли заряжены диски. Пальцы Чеботарева нервно впились в пулемет – не от страха, а от неведения, оттого, что впереди все – как пропасть. Когда Шестунин замолчал, он прошептал так, чтобы слышал один старшина:
– А полк тоже хорош – бросил нас, и хоть бы что.
– Об этом рассуждать будем после, – обрезал Шестунин и вынул из кармана по сухарю каждому. – Погрызите лучше вот.
Закобуня, выклянчивший все-таки у Карпова обойму патронов, повеселел. Примостившись возле Шестунина и Чеботарева, он взял сухарь и проговорил:
– О це старшина гарный. И перед смэртю снабжае людэй! – И стал говорить по-русски: – Раз такое дело, то и меня оставляй с собой. Все-таки здесь мои друзья, – и остановил вопросительный взгляд на Чеботареве.
– Нам долговязые не нужны. Как каланча, будешь только маячить и выдашь нас, – невесело пошутил Чеботарев.
– Что ты так с ним? – улыбнулся опять одними краями губ Шестунин. – Пусть остается, раз хочет. И там будет не сладко, и здесь – выбор-то маленький. – И, заметив, что у Закобуни в руках не самозарядная винтовка СВТ, нахмурился: – А где твое оружие?
– Как где, вот оно, мое оружие – трехлинеечка.
– СВТ где, я спрашиваю?
– Сдал на склад, – поняв старшину по-своему, съязвил Закобуня. И стал объяснять: – Что же мне с ней, погибать?.. Дерьмо она же, не стреляет! Как ни чисти, одно и то же.
– Она не дерьмо, а личное твое оружие, – наставительно заговорил старшина. – Анархию здесь не разводи. В другой обстановочке я бы показал тебе, что она за дерьмо. За оружием уход умелый нужен. – И замолчал, чувствуя свою неправоту – конструкция СВТ была неудачной, так считали многие.
Мимо, стягиваясь на правый фланг, то и дело проходили группами по три-четыре человека бойцы и младшие командиры, большей частью забинтованные. Шли пригнувшись. Когда немцы освещали землю ракетой, они замирали и ждали, пока ракета не потухнет. На них, застывших в самых диковинных позах, смотреть со стороны было смешно, и Закобуня по этому поводу отпускал шутки, но они не вызывали даже улыбок.
В стороне по изувеченному боем кустарнику катили оставшуюся без снарядов сорокапятимиллиметровую пушку. Рисковали артиллеристы, но оставлять врагу сорокапятку не хотели.
Ветер усиливался. Орешник шумел и заглушал звуки.
Последними прошли солдаты, сгибающиеся под тяжестью минометов, мины к которым исстреляли еще днем, перед тем как немцы окружили батальон.
За минометчиками прошли, катя за собой «максимы» без лент, пулеметчики.
Замыкающими были Стародубов, Варфоломеев и Вавилкин.
Возле Шестунина Стародубов остановился. Тихо спросил:
– Приготовились?
– Приготовились, – прошептал старшина.
– По сигналу… не мешкать… идти за нами следом. Стрелять, значит, только в случае если гитлеровцы откроют по батальону стрельбу.
Он подал Шестунину руку, потом обнял его. Кивнув Варфоломееву, возглавлявшему правофланговую – самую ответственную – штурмовую группу, пошел дальше с ней. Не пригибался. У поворота траншеи на ходу помахал оставшимся во главе с Шестуниным рукой. Силуэт его могучей фигуры четко вырисовывался в ночи.
Установилась гнетущая тишина. Только шумел ветер да горели в небе звезды.
И в душе Чеботарева рождались странные, противоречивые мысли. Звезды напоминали ему о незыблемости всего, что создано природой, а ветер – о чем-то непостоянном. С одной стороны, все выглядело подчиненным железному закону постоянства и вечности, с другой же – неустойчивости и обреченности. И Человек – единственное детище природы, способное осмыслить все это и заставить служить себе, – предстал перед Петром жалким существом, лишенным понятия и целеустремленности, мелким эгоистом, забывшим о высоком смысле своего назначения.
Сердце Петра сдавило. Охватила жуткая тоска. И вот в это-то время левее, за расположением гитлеровцев, воздух разорвала длинная пулеметная очередь (Чеботарев по звуку узнал, что стреляют из нашего ручного пулемета), а на позициях немцев стали рваться мины… Поднявшийся во весь рост Шестунин потрясал автоматом.
– Не оставили! Наши! Полк!.. – И голос старшины впервые, сколько Шестунина знал Чеботарев, расслабленно задрожал: – Молодчики!.. Братики!..
Бой разгорался левее озерка. Разгорался не на шутку. А скрывшиеся в кустах орешника штурмовые группы и батальон молчали.







