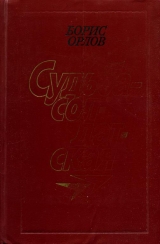
Текст книги "Судьба — солдатская"
Автор книги: Борис Орлов (2)
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 41 страниц)
Они позавтракали. Валя настояла, чтобы первым спал Провожатый. Накрывшись фуфайкой, он скоро уснул. Валя осталась дежурить. Грустя, она посматривала то в амбразуру, то через выход на лес. В голову лезли самые разные мысли о матери. То казалось, что найдет ее легко. То начинала думать, что матери в Луге нет. «Вдруг взяла да к Даниле в Казахстан уехала? – рассуждала она. – Все может быть. Приехала в Лугу, посмотрела и эвакуировалась… Что ей лишним ртом у чужих людей?» Валя поднялась со скамейки и пошла было через проход в траншею, чтобы подышать лесным воздухом. Пошла и… замерла. Из лесу неторопливой, валкой походкой шел громоздкий, обвешанный оружием человек. Шел по брустверу траншеи, прямо к их блиндажу. Валя, не спуская с него глаз, нащупала в кармане брюк браунинг, вынула его, ждала, разглядывая человека. А тот… шел. В руке он держал немецкий автомат… «Партизан», – успела подумать Валя и тут же узнала в нем Зоммера.
Зоммер был одет в рваное демисезонное пальто. На голове его лежала кепка с помятым козырьком. Сухое, окаймленное светлой бородкой лицо казалось черным.
Вале стало страшно. Мимолетно пронеслось все, что пережила она в Пскове, когда приехала туда после Залесья. Всплыл в памяти рассказ Петра, как гитлеровцы, с которыми был и Зоммер, убили Закобуню и устроили казнь…
Следовало бы разбудить Провожатого, но Валя не могла: прильнув к стенке дзота, она целилась из-за косяка в Зоммера. Ждала, когда он подойдет совсем близко, чтобы выстрелить наверняка. Целилась в голову – в большой его лоб. Мушка мелко дрожала… На нарах пошевелился Провожатый. Зоммер остановился. Повернувшись к дзоту боком, смотрел куда-то на северо-восток, через поле. Поправил лямки полупустого льняного мешка на спине. Сделал шаг туда, куда смотрел. Пошел. Валя на мгновение закрыла уставшие смотреть через целик пистолета глаза. Зоммер уходил. «Может, выстрелить? – подумала она. – Уйдет ведь?» – И разбудила Провожатого. Поглядывая на удаляющегося Зоммера через плечо Вали, Провожатый выслушал ее, а потом сказал, о чем-то думая:
– Хорошо, что не выстрелила. И не достала бы… да оно так надежнее. Если он враг, то свою пулю найдет, а нам выдавать себя нельзя… Да и не один он, может, здесь.
Они не спускали с Зоммера глаз до тех пор, пока он не пересек поле и не скрылся в лесу. Облегченно вздохнув, Провожатый заставил Валю лечь спать. Когда она накрылась фуфайкой, проговорил:
– У тебя с документами-то… как? Есть какая-нибудь ихняя бумажка?
– Нет у меня ничего ихнего, – ответила Валя.
– Нет? – сказал он. – Это плохо, что нет… Там, в городе-то, все, поди уж, зарегистрированы. Как бы того… плохо не получилось. У Пнева-то не подумали об этом.
Он смолк. Валя закрыла глаза, но уснуть никак не могла. Поняла вдруг, что с отцом да Петром ни о чем не думалось – все они за нее решали. А теперь… Ей то виделся Зоммер, то начинала она думать о документах. Вспомнила, как спасла ее Акулина Ивановна, и поняла, что в городе без документов на каждом шагу может подстерегать опасность.
Села. Посоветовалась с Провожатым. Решили: Валю он оставит под Лугой, в одной небольшой деревушке, а сам пойдет в город и все узнает.
– Мамашу твою разыщу, может, документики тебе раздобуду, – тихо говорил он, а сам, вынув из кармана свои фальшивые бумаги на имя Рябинина Ивана Терентьевича, оценивающе разглядывал их – будто выверял надежность.
В обещанную деревушку он привел ее глубокой ночью. Остановились у крайней избы.
Провожатый стукнул три раза в окно. Вскоре услышали заспанный женский голос:
– Кто там?
– Я, Матрена. Открывай, – негромко проговорил Провожатый и направился к крыльцу.
В избе Провожатый задержался недолго: объяснил, кто такая Валя, выпил кружку молока и ушел в Лугу. Валя, продрогшая и уставшая, почувствовав тепло жилья, захотела спать. Есть отказалась. Хозяйка отвела ей полутораспальную кровать в углу, а сама полезла на печь.
– Отдыхай, – сказала она уже оттуда, сверху.
Валя разделась. Легла в мягкую чистую постель. Вспоминала, когда последний раз спала так, и, не успев вспомнить, уснула. Проснулась только к вечеру. Открыв глаза, увидала хозяйку. Тетка Матрена, женщина невысокая, полная и крепкая на вид, стояла у стола, что-то выкраивая из темного материала, сложенного в несколько рядов. Валя снова закрыла глаза, но поняла, что больше не уснуть, и села. В глаза бросилась портняжная машина возле окна и рядом, на полу, около небольшой кадушки с фикусом, тюк ваты.
– Ну и уморила тебя дорога! – сказала Матрена и спросила: – Выспалась?
– Выспалась.
– Ну и хорошо.
Одеваясь, Валя полюбопытствовала:
– Что это вы шьете?
Матрена будто не слышала. Проворно орудуя большими портняжными ножницами, продолжала резать. Валя подошла к ней. Протирая глаза, смотрела. Старалась понять, что та кроила.
– Вот шью, – неопределенно сказала, наконец, Матрена и добавила: – Пойди умойся. В сенях умывальник. На улицу не выходи. Мало ли что. Люди всякие.
Валя умылась над лоханью. Вернувшись, стала рассказывать, как любила шить ее мать, Варвара Алексеевна.
– А ты-то научилась? – перебила ее Матрена.
– Я-то? – Валя посмотрела на хозяйку и простодушно сказала: – Шью маленько. Для себя… если выкроит кто.
– Правильно, девке все уметь надо, – стала наставлять ее Матрена, потом, отложив ножницы в сторону, направилась к сундуку возле койки, молча открыла его и стала перебирать одежду. Раза два примерила на себя цветистое, из ситца, платье. Снова сунула в сундук. С юбкой и кофтой домашней вязки вернулась к столу. Оглядев Валю так, будто видела впервые, проронила: – Долго в лесу-то жила? – И пояснила: – От тебя за версту мохом пахнет да гнилью. Придешь такой в Лугу, немцы сразу учуют. Давай-ка смени… пока… а свое выстирай, да и помойся там над корытом… Бани у меня нету.
Валя снова пошла в сени.
– В печи чугун вон с водой. Горяченькой возьми, – сказала ей вдогонку Матрена.
Вернувшись, Валя налила в пустое ведро ковша четыре кипятку. Вынесла ведро в сени, развела там воду холодной. Неторопливо, как у себя дома, стала плескаться, забравшись с ногами в деревянное корыто. Тело, будто до этого оно было все в тисках, почувствовало освобождение. Надев на себя свежее белье (у Вали было сменное) и Матренину юбку с кофтой, устроила стирку. Развешивала на веревку в сенях. Когда зашла в избу, Матрена хлопотала возле печи. Оглядев Валю, она сказала:
– Коротковато и широко, не в мое у тебя тело-то, – и пригласила к кухонному столу, на котором стоял чугунок с дымящейся пшенной кашей; когда Валя уже ела, предложила: – Пока здесь, помоги давай. Шей, а я как бы закройщицей буду, – и рассмеялась, испытующе разглядывая ее.
– А куда это вы столько шьете? – опуская глаза, поинтересовалась Валя и, вспомнив Акулину Ивановну, добавила: – Продаете?
– Продаю… – засмеялась Матрена так, что на ее полном в веснушках лице выступили красные пятна. – Ясно не на продажу. Кто сейчас коммерцией занимается? Некогда выгадывать-то. – И стала пояснять, выговаривая слова почему-то совсем тихо, будто ее мог кто подслушать: – В лесу вам, поди, не ахти как жарко – вот и шью, одеваю… Тут перед приходом-то немца кое-что из сельпо удалось в лес спрятать. Ну, ваты там, ниток, матерьялу какого… Вот и обшиваю. А скоро зима. Не обошьешь ко времени – померзнете там.
После ужина Валя стала ушивать юбку. Заканчивая, спросила Матрену, которая убирала выкроенные куски со стола на пол, подле машины:
– Не боитесь?.. А как гитлеровцы застанут за работой?
Матрена немного помолчала. Сказала, глубоко вздохнув:
– Да куда денешься? И в лесу-то люди наши, да и германец уж прет больно. Не подсоби, так… Вот и взялась.
Валя, посмотрев на Матренин крой, проговорила:
– Давайте, я пошью. Помогу вам.
Закрыв плотные ставни, они целый вечер шили. Где-то к полночи Матрена унесла готовые фуфайки из избы. Вернулась минут через двадцать. Пустая. Пояснила:
– Дома-то не держу. Мало ли что!
Валя дошивала последний рукав. Матрена забралась на печь. Разговорилась. И выходило, что портняжным делом она занялась потому, что заведующий сельпо, с которым она подружилась («Не война – свадьбу бы вот сыграли!»), ушел в партизаны, а раз он партизан, то что же ей остается делать, как не помогать ему и его товарищам по оружию, чем может.
Глава четвертая
Варвара Алексеевна, мать Вали, за время своих скитаний натерпелась всего вдосталь.
В Луге, когда Морозова приехала туда на полуторке, родственников своих она не нашла. Соседи сказали: эвакуировались. Дом стоял забитый. Морозова попросила соседа оторвать доски. Поселилась. В погребе нашла бутыль подсолнечного масла, стояли по полкам варения, в сусеке хранилось с мешок сеянки… На огороде рос лук, морковь, доцветала картошка, наливались яблоки в небольшом саду, спели на кустах ягоды… Когда немцы 20 августа прорвали фронт западнее Луги, под станцией Серебрянка, и он, загрохотав, пошел на город, в небе появились вражеские самолеты. Морозова спряталась в канаве на огороде. Тряслась от страха, слушая гул над землей… Дом разбомбили. И Варвара Алексеевна попросилась жить к соседям, через улицу. Те приняли. Но с приходом немцев в Лугу Морозова заметила, что ей хозяева не очень рады. Старик стал заниматься скупкой барахла и перепродажей его на открывшемся рынке, а жена его, старуха еще жадней хозяина, потребовала от Варвары Алексеевны, чтобы та «за постой» шила им платья из материала, который приносил откуда-то хозяин… Готовые платья старики продавали. Хозяин поговаривал уже о собственной лавчонке. Урожай в саду родственников Морозовой забрали себе – компенсация-де за то, что она живет у них на всем готовом… Морозова сохла – от скудного пайка, на котором они ее держали, от горьких дум. И решила она вернуться в Псков. У ее хозяев к этому времени появилась бумага, в которой говорилось, что они помогают гитлеровцам, и оккупационные власти их не трогали… Однажды к ним пришел дородный немец. Старик, изгибаясь перед ним, как мог, приказал Варваре Алексеевне накрывать стол в горнице. Покрикивал на нее. Сидя с хозяйкой и гостем за блюдами и бутылкой самогона, угощал того, заискивающе вслушивался в ломаную русскую речь немца. Опьянев, они ладили какую-то сделку. Били по рукам. Обнимались, пьяно тычась друг другу в морды… Когда гость ушел, хозяева улеглись спать, а Морозова убирала за ними со стола, а потом легла на свою подстилку в кухне и весь остаток ночи проплакала. Перебирала в памяти свою жизнь, вспоминала горечи, которые когда-либо сваливались на ее голову. И не припоминала такого позора, чтобы ей приходилось ухаживать за врагами. «Надо собираться в Псков, – подумала она под утро. – По лесочкам да по тропочкам как-нибудь доберусь… Там и о семье прояснится все». Но этому ее плану не суждено было сбыться: когда на востоке чуть занималась заря, в кухонное окно тихо постучали. Морозова поднялась с сундука, на котором было раскинуто тряпье – лежанка. Открыв форточку, спросила так, чтобы не разбудить хозяев:
– Что надо?
Человек оглядел улицу, а потом произнес:
– Скажите, – и махнул рукой на дом ее родственников, – а давно эта изба разбита?
– А вам кого? – насторожилась Варвара Алексеевна – поведение мужчины напоминало ей то далекое время, когда под Псковом зверствовали банды Булак-Балаховича и когда вот так же из лесу изредка приходили от Спиридона Ильича к ней люди, чтобы передать от него поклон.
– Морозову я ищу. От дочери ее я.
Варвара Алексеевна ничего больше не слышала. Набросив второпях платье, заспешила к наружной двери. В коридоре ее остановил хозяин.
– Кто там?
– От дочери это, – просияв, сказала Морозова и побежала открывать.
Она впустила мужчину в дом, провела на кухню. Хозяин, неприветливо поздоровавшись с пришельцем, втянул через широкие ноздри воздух. Будто почувствовал чужой дух в избе – поморщился. Скрылся в горнице.
Человек был провожатым Вали.
Усадив его на сундук, Морозова стала расспрашивать. Тому, видно, было некогда. Он в нескольких словах пояснил, что дочь ее поблизости.
– Вот, надо решить: идти ей сюда или как? – объяснил он и, увидав через открытые двери проходившего по коридорчику хозяина, проговорил: – Осип Макарыч! Не узнал ведь я тебя.
Провожатый поднялся. Подал руку остановившемуся в дверях хозяину. Долго тряс ее. Молвил:
– Вот… Наведаться пришел… Сердце-то скучает… А ты как тут, при новом-то порядке? Ущемляют сильно или так, болтают только?
Хозяин слушал его молча. Потом, уведя глаза в сторону, процедил, как обрезал:
– Не заговаривай зубы… Партизанишь, значит? – И помешкав: – Здесь, в городе, от вашего брата, которые супротив властей идут, перья да пух один летит… Учти. Оружие, поди, имеешь? – И пошел в горницу.
Провожатый сразу все понял. Вслед ему бросил:
– Какой я партизан! У родни был. А оружия и в руках никогда не держал (а сам и гранаты и наган спрятал у себя дома).
Он снова присел на сундук, зашептал Варваре Алексеевне:
– К тебе я больше не зайду. Завтра к вечеру, часа в четыре, появлюсь вон там, – и кивнул в окно на телеграфный столб. – Как увидишь меня, выходи и иди за мной. На всякий случай дочь ищи сама, – и рассказал, как дойти до деревни, где живет Матрена.
Он собирался уже уходить, когда немцы с собаками стали оцеплять квартал. Постреливали в воздух… Начиналась облава.
На кухню прибежал растерявшийся хозяин. Он почесал к чему-то большой свой подбородок и потом уж только проговорил, обращаясь к Провожатому:
– Ты… давай, уходи. Мы тебя не знаем, и ты у нас не был… Мало ли что! Из-за тебя дело загубить не хочу.
Провожатый, побледнев, поднялся. Морозова хотела упасть перед хозяином на колени и просить, чтобы не выгонял он этого человека, но что-то мешало. Видно, гордость. Так и сидела оцепенев.
Смотрела, как Провожатый неохотно идет к двери. Выходит…
Хозяин назидательно говорил ей:
– Я в своем доме смутьянов не потерплю! Новые власти тому, кто к ним хорошо относится, нисколько не помеха… Так что раз навсегда выбери: или смирно сиди тут, или… – Он, раздраженно сплюнув на пол, показал на наружную дверь и ушел в горницу.
Гитлеровцы шныряли по домам оцепленного квартала с час. К хозяину Морозовой только постучали – не зашли, прочитав всесильную бумагу, которую тот им подал.
Беспокоясь за судьбу Провожатого, Варвара Алексеевна все выглядывала через кухонную форточку на улицу. Немцы-постовые не спускали глаз с дворов. На углу квартала два дюжих эсэсовца вели какого-то человека, заломив ему назад руки. Мать Вали пыталась разглядеть – не Провожатого ли ведут, но до арестованного было далековато, и она, сколько ни всматривалась слабыми глазами, так и не поняла, кого арестовали.
Обещанного Провожатым «завтра» Варвара Алексеевна ждала, как праздника. Собирать ей было нечего – была в чем осталась, убравшись с огорода родственников. Но Провожатый не пришел ни завтра, ни послезавтра. И она забеспокоилась по-настоящему. Всерьез стала думать, что его-то и схватили во время облавы. И чем больше так думала, тем настойчивей убеждала себя в этом. Ниточка надежды рвалась. Но Варвара Алексеевна, все еще то и дело отрываясь от машины, подходила к окну и всматривалась в улицу… Шитье валилось из рук. Хозяйка, признав одно платье испорченным, уменьшила ей рацион: на обед отделила от буханки пшеничного хлеба домашней выпечки тонкий ломтик, а супу в тарелку лишь плеснула.
– Не заслужила, – бросила она ворчливо. – Урона не потерпим.
Но это было еще не все. После обеда хозяйка собрала грязное белье и, дав Морозовой кусок мыла (такое выменивали у немецких солдат на продукты и одежду, поговаривая, будто оно из человечины), приказала стирать. По-доброму-то и выстирала бы, хоть силы были далеко не те. Но тут!.. Это было концом терпения. Морозова поднялась. Желтоватое, изъеденное морщинками сухое лицо ее подернулось чернотой. Губы тряслись. Спина выпрямилась – так, что пропал нажитый здесь уже горб. Трудно сказать, о чем она подумала, обдав холодным, осуждающим взглядом хозяйку. Только та выскочила в горницу. Глядя ей вслед, Варвара Алексеевна подошла к вешалке, надела на себя старенькое свое осеннее пальто – в чем осталась – и вышла на улицу. Огляделась. Низкое осеннее небо давило на землю, обещая затяжной холодный дождь. Надо бы вернуться, но она этого не сделала. Пошла, как объяснял Провожатый. За углом наткнулась на немецкий патруль из двух солдат. Солдаты насмешливо оглядели ее. Спорили. Один, поздоровей, назвав другого Лютцем, бросил, видно, что-то обидное, потому что тот после этого на него прикрикнул. Варвара Алексеевна проходила мимо них как неживая. Думала, выпустят ли ее за город.
Никто не задержал Варвару Алексеевну.
В поле подняла она брошенную кем-то на проселок палку, вроде батога. Переступая, опиралась на нее. Шагать стало легче, но все равно думала: дойдет ли? Не от страха так она думала – к смерти была равнодушна. Так думала потому, что силы оставляли, а хотелось дойти, еще хоть разок взглянуть на Валю, прижать к себе, погладить по голове, посмотреть в ясные дочерние глаза. Это-то, возможно, и делало Варвару Алексеевну сильнее.
Пошел мелкий дождь. Потянуло холодным ветром. Старые, полуразвалившиеся ботинки начали набухать. Ноги скользили по глинистому проселку. Варвара Алексеевна сошла на обочину. С чулок стекали в ботинки холодные, сбитые с травы капли. Но она не замечала этого и, если бы не усталость, давившая ее к земле, так бы и шла.
На землю опускались сумерки, когда Варвара Алексеевна, подумав, что не дойдет, села на кочку возле дороги… Страшно стало ей, и она поднялась. Шла теперь, часто останавливаясь. Остановится, платок на голове поправит, дыхание переведет – и снова в путь. Идет и, чтобы как-то обмануть себя, придать силы себе, разговаривает, шамкая, с батогом:
– Доведи меня, посошок мой, доведи… Кому-то помог ведь. Пожалей и меня, старуху старую, не покидай тут, на безлюдье… – А ноги как свинцовые, и ботинки застревают в грязи так, что их не враз вытащишь, рука же не может переносить палку так уж легко, как вначале, когда подобрала ее. И только сердце не смиряется да душа все летит вперед, обгоняя бессильное тело.
Когда землю придавила ночь, Морозова – промокшая, дрожавшая от холода, в облепленных грязью расползающихся ботинках, – остановилась перед русской печью на пепелище, оставшемся от хутора. Чтобы хоть где-то укрыться от дождя, от ветра, она решила забраться в печь, уходившую трубой в черное небо. Нащупав дрожащей рукой скользкий шесток, заглянула в устье. В печи раздалось урчание, и оттуда выскочила черная собака. Варвара Алексеевна отпрянула от шестка. Перекрестившись, слушала, как бьется вспугнутое сердце, смотрела в темноту на пса, который, остановившись поодаль, за мокрым обгорелым бревном, припал на задние лапы и, чуть вскинув морду, жалобно завыл…
Глава пятая
1
Матренина изба стояла с краю деревушки и упиралась задами, со стогом сена на огороде, в сосновый лес. К юго-западу от деревушки поднимался взлобок. Через него, вдоль пахоты, тянулся проселок. Пробегая мимо изб, он образовывал как бы улицу, которая отделяла дома от поля. Проселок за Матрениной избой круто сворачивал к лесу и убегал куда-то на север.
В отгороженной от ветров деревушке было тихо и уютно. По утрам мычали коровы, горланили петухи, обсыпали росы землю, по ложбинам плавали легкие туманы…
Валя урывками между шитьем изредка выходила на зады и подолгу смотрела оттуда на взлобок – все ждала Провожатого из Луги.
Ей нравились эти места, и, если бы не Провожатый, пропадавший в Луге не один уж день, в ее глазах не стыла бы тяжелая затаенная думка. А дни шли за днями, и тревога не унималась – все росла. А тут еще ненастье – навалилась осень: небо часто хмурилось, и землю кропило холодным мелким дождем; желтели, опадая, листья у тополя возле стога; бурела, сникая, трава; охватывало чернотой ботву…
Матрена не знала отдыха – то принималась копать картошку, то бежала в лес по грибы, то солила капусту. А тут как-то узнав через соседа, что немцы продукты по деревням конфискуют подчистую, скот тоже весь забирают – будто только больной оставляют хозяину, – принялась она прятать лишнее в яму, вырытую возле тына, а на корове местами выстригла шерсть, расцарапала гвоздем кожу и смазала это место дегтем. Много дел враз легло на крепкие Матренины плечи. Всех, казалось Вале, и не переделать. Но делать было надо, и Матрена все крутилась. Как-то Валя, чтобы помочь ей, принялась копать картошку, не убранную еще в дальнем углу огорода. Стерла в кровь руки. Матрена сокрушенно покачала головой:
– Иди, портняжничай, так пользы от тебя боле… С городскими-то руками не землю рыть.
Валя ушла.
В избе было натоплено жарко. Валя скинула с себя кофту и осталась в юбке и рубашке. Села за машину. До вечера шила стеганые брюки. А вечером, когда уж спину начало ломить от усталости, а ноги отказывались крутить колесо, услышала знакомый стук в окошко. Встрепенулась. Поняла, что вернулся Провожатый. Радостно кинула беспокойный взгляд на печь, где Матрена, утомившись за день, готовилась ко сну. Матрена слезать не захотела – проговорила оттуда, чтобы крой и готовые брюки спрятала под кровать и открыла.
Валя суматошно сгребла все в кучу и затолкнула под кровать, а потом, как была одета, выскочила в сени. Сорвав крючок, распахнула дверь и увидела незнакомых парней с автоматами в руках. Отпрянула назад. Потянула на себя дверь.
– Не дури. Что ты там? – придерживая дверь снаружи, проговорил кто-то грубым голосом. – Где Матрена?
Валя поняла: от партизан пришли. Бросилась в комнату за кофтой. Негромко крикнула:
– Здесь Матрена! Спать собирается.
Парни, закрыв на крючок дверь, зашли следом. Валя окинула парней коротким взглядом и юркнула через сени в боковушку, где теперь спала. Присела на самодельный топчан с постланной на него постелью. Оттого, что не возвращался Провожатый, не было никаких вестей от матери, – от всего этого затомило тревожное предчувствие… Вернулась в избу.
Хозяйка кормила партизан овсяной кашей на молоке. Валя перебирала в памяти бойцов из отряда Пнева – ей казалось, что парни, может, и оттуда. По разговору, который они вели с Матреной, догадалась: от лужан. Когда парни допивали молоко, спросила, не слышно ли что об отряде Пнева. Один из партизан промолчал, а второй, пристально взглянув на Валю, пренебрежительно бросил:
– Они давно от нас откололись…
Валя промолчала. Старалась показать, что ее это не тронуло. Но брови дрогнули. Зрачки расширились, и в них отразилось тусклое пламя лампы.
Матрена выволакивала из-под кровати сшитые Валей брюки. Складывала их в стопу, придирчиво проверяя каждую вещь. Остановив плутоватые глаза на штанине, с минуту разглядывала шитье. Проворчала:
– Как же их носить-то будут? Разве тут этот клин надо было вшить? Как же ты, Валюша? – и отбросила брак в сторону, к машине.
Валя, покраснев, опустила глаза, а парень простодушно заметил:
– Она же носить их не станет. Ей что?
– Ладно, мы тоже не артель-пошив какая-нибудь, – заступилась за Валю Матрена. – Спасибо скажите, что хоть такие шьем.
Она связала шпагатом брюки в узел, передала его парню и повела их к тайнику в соснах. Валя этот тайник видела – простая двадцативедерная бочка, вкопанная в землю и закрытая деревянной крышкой, а поверху притрушенная осыпавшейся хвоей. Тут и хранилась пошитая одежда до прихода партизан.
Уйдя в боковушку, Валя разделась и легла в холодную, отсыревшую постель. Навалились думы о Петре. Не могла понять, почему так пренебрежительно сказал о пневцах партизан. Вспомнила, как уходила от отца. Подумала о Провожатом. Забеспокоилась о матери. Никак не могла представить, что будет делать в Луге.
Вернулась Матрена. Держа в руке лампу с привернутым фитилем, прошла к Вале. Села рядом на топчан и заговорила – грустно, растроганно:
– Мой-то… прислал с парнями письмо. Пишет: ты береги себя. Ты одна у меня… Поосторожней с товаром-то, да и сшитое не держи в избе. Мало ли что: мол, фашисты всегда могут нагрянуть… Тревожится… Бережет… – и, помолчав, тяжело-тяжело вздохнула – может, вспомнила своего покойного мужа, который так же, как этот, а то и больше, мил был ей и нужен и о котором она до сих пор, пожалуй, не забывает.
Они разговорились. Матрена рассказывала, как умер ее муж, как мучилась она одна, тосковала и как перед войной познакомилась с э т и м, работником сельпо. Осенью готовились играть свадьбу, а тут война… Валя поведала Матрене о себе, о мытарствах своих, о Петре заикнулась – обо всем понемножку говорила. Сделает паузу и снова о чем-нибудь скажет.
Наговорившись, они долго молчали. Молчали не потому, что не о чем было говорить. Говорить было о чем. Но молчали, потому что все, касающееся друг друга, стало им понятным, близко легло к сердцу каждой и превратилось как бы в свое, личное.
Да, что бы ни было у той и другой из них в прошлом, сейчас они сравнялись. Жизнь как бы поставила их на одну доску. Исповедь Матрены, хлебнувшей всего с закраешками, о своей бабьей доле растрогала Валю, приблизила к этой женщине. И впервые, пожалуй, и сами-то слова «бабья доля» обрели для нее, Вали, смысл и звучали не оскорбительно; впервые осознала она, что ей тоже присуще все женское, бабье… Подумав о своей беременности, она положила под одеялом на живот руку. Хотелось сознаться Матрене и в этом, но что-то удерживало.
С топчана Матрена поднялась не скоро. Постояв над Валей, она вспомнила о делах и проговорила:
– Через день-другой снова придут из лесу… Нам надо в две смены шить, по-фабричному. Зима надвигается – торопят нас. Опосля, когда снег повалит, хоть сколь лежи, сказали. Вот я и прикинула: сегодня сама начну свою смену. До петухов пошью, а там ты уж – сама хозяйством займусь. Так посменно и станем…
– Выходит, вы без отдыха будете? – удивилась Валя. – Вы же так свалитесь?
– Не свалюсь. Я привычная.
Матрена постояла еще и ушла.
Вале не спалось. Ворочалась. Растревоженная разговором, слушала, как ровно шумит в избе швейная машина, постукивают дождевые капли за окошком, ветер треплет свисающий со стрехи клок соломы. В голову лезли разные мысли. Не могла забыть о присланном Матрене письме – решила отправить с партизанами коротенькую записку Петру. И тут заметила, что после разговора на сердце стало намного легче: тревоги как бы улеглись, а беспокойство – за отца, за мать, за Петра, за себя, наконец, – отодвинулось, приглохло. И в этом умиротворенном состоянии начала она складывать в уме письмо Петру. Складывала, складывала и уснула.
2
Проводив Валю, Петр загрустил, часто вспоминал о ней, и, когда вспоминал, она виделась ему обычно уходящая: в толстой кофте, в отцовских сапогах и брюках, с узелком в руке… С нетерпеньем ждал он возвращения Провожатого.
Петр зачастил к берегу озерка – на то место, где они с ней умывались. Ходил и туда, на мшистую полоску сухой земли… Думал, думал.
Георгий Николаевич начал ловить его на том, что он постоянно присматривался к бойцам – глядит, не появился ли Валин провожатый. Старался успокоить его.
Изредка натыкался взор Петра и на Егора. Натыкался и уходил. Петр заметил, что человек этот не такой уж и весельчак-парень, что на душе у него, как говорится, скребут кошки. «Может, Валюша и права, – стал думать о парке Петр, – сильный человек, и только. Волевой. – И бичевал себя: – А я вот… Надо, как он – нечего раскисать: чему быть, того не миновать». Но из этого самобичевания мало что выходило.
Как-то Петр сидел у озерка. Березы, обожженные первыми заморозками и холодными утренними росами, начинали желтеть. И от этого вода в озерке казалась такой, будто примешал кто к ней желтовато-зеленого порошка и не оседает он на дно. К взгрустнувшему Петру подошел Пнев.
– Что ты киснешь тут? – спросил он улыбчиво. – О Валентине думаешь? Валентина твоя будет устроена с шиком и блеском. – И переменил тему: – Вот что-то долго нет разведчиков – я их отправил лужан искать.
– А что они вам, лужане?
– Как что? – удивился Пнев, поглядывая на встававшего Петра. – Там все наше начальство должно быть. Ясно ведь: истребительный батальон при взятии Луги ушел в леса, ну и начальство района с ним. Куда же ему еще деться?! А мы… хоть и на автономном положении как бы, а… под их подчинением. По их указаниям живем.
Они долго смотрели на озерко. Петр собирался уже уходить. В это время Пнев сказал:
– Мне Георгий Николаевич говорил, что ты пулеметчиком был. Это правда?.. Ага-а! Тогда у меня к тебе деловое предложение: бери у меня пулемет, а пукалку свою… сдай. Пулемет новенький, в Луге еще выдавали, а пулеметчика… убило. Не хочется отдавать в неумелые руки, потом не выцарапаешь. – И мягко посмотрел Петру в глаза: – Так как, согласен? А то… с винтовкой в бою – тоскливей.
Петр согласился, и они пошли к палатке Пнева.
На поляне, собравшись в кучу, спорили бойцы. Парень, которого в отряде все звали Непостоянный Начпрод, потому что почти в каждом бою с гитлеровцами, если верх брали партизаны, он ухитрялся добыть какие-нибудь трофеи, особенно съестное, убеждал других:
– А я считаю, надо по всем правилам. Егор прав. Уж сделать так сделать.
– О чем это вы? – спросил, подойдя к партизанам, Пнев.
– Да вот, товарищ командир, – заговорил Егор, будто жалуясь, – зашла речь о бане. В бане давно не были, соскучились. Ну и кто во что горазд. А я согласен с Непостоянным Начпродом: уж сделать, так сделать настоящую, с веничками… А по мне, так и с рюмкой крепенького… Знаете, по-нашенски!
Пнев подумал и возражать не стал против такой бани, но предупредил, что не больше как по рюмочке и что не раньше субботы, потому что времени до этого не будет. Оглядев бойцов, он добавил:
– Как, не против? – и прикинул что-то в уме. – Ну вот. Раз вы согласны с такой баней, – он смотрел на Егора, – то вам и карты, по-моему, в руки. Беритесь, организуйте. Разрешаю взять в помощники… ну, кого, скажем… Кто смелый? – Он обвел всех улыбчивым, добрым взглядом. – Ну, сами решите. Подготовьте к субботе и сходим. – Пнев тряхнул длинными русыми волосами, забросив их назад – они всегда у него спадали на глаза. Проговорил, направляясь к своей палатке: – Не в субботу, так в другой день после субботы сходим – самогон, он не портится.
Получив пулемет, Петр долго ворочал его в руках. Чем-то близким, родным повеяло из прошлого – вся будничная солдатская жизнь промелькнула перед глазами, вспомнились довоенные учения, после которых не раз хвалили Петра за смекалку и умение, за меткую стрельбу по мишени… Похлопав пулемет по прикладу, как старого, закадычного друга, Петр, не умея скрыть чувства, с восхищением сказал:
– Хорош! Новый еще.
До обеда, уговорив Момойкина быть у него вторым номером, Чеботарев возился с пулеметом: разбирал его, чистил, смазывал, а собрав, долго проверял спуск – прилаживался. Они вдвоем перебрали в дисках патроны. Начавшийся дождь загнал их в палатку. Вели пустячные разговоры. После ужина Петр уснул. Когда утром проснулся, то возле Георгия Николаевича, спавшего на спине, увидел бойца, которого Пнев посылал искать лужан. Он спал, похрапывая, подложив под щеку ладонь. Имя у него было Семен, но в отряде звали его Разведчиком.







