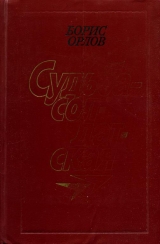
Текст книги "Судьба — солдатская"
Автор книги: Борис Орлов (2)
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 41 страниц)
Наступили напряженные минуты. Шестунин никак не мог решить: стрелять по врагу или нет? Закобуня, прижимая к плечу приклад, на всякий случай куда-то прицелился. Чуть слышно напевал:
Винтовочка, бей, винтовочка, бей,
Красная винтовочка, фашистов не жалей…
Чеботарев машинально вторил Закобуне. Рядом сопел Карпов. Шестунин все стоял.
Вдруг за орешником раздался выстрел, а пулемет немцев, расположенный правее озера, застрочил, захлебываясь, по месту, где проходил сейчас батальон. Старшина, махнув автоматом, приказал стрелять. После первой же очереди вражеский пулеметчик прекратил огонь. Но недалеко от него появилась новая точка. Чеботарев, догадавшись, что это все тот же пулеметчик, снова начал стрелять. По пулеметчику открыли огонь и из охранявшей фланг батальона группы Варфоломеева. Пулемет опять замолчал.
Старшина приказал сниматься.
Сорвавшись с места, все бросились к орешнику. Чеботарев, скинув пустой диск, на ходу вставлял полный.
Через орешник проскочили мигом. Хлюпая по влажному, колыхающемуся под ногами мху, бежали на выстрелы впереди.
Откуда-то справа хлестанула очередь. Шестунин крикнул:
– Ранило меня!..
Чеботарев оглянулся. Пулеметчиков, которые были с ними, не увидел. «Где-то в орешнике застряли, что ли?» – и тут же он заметил их фигуры между деревьями чуть в стороне.
– Сюда! – крикнул он им и понял, что из-за стрельбы, еще сильнее разгоревшейся на позициях немцев, за озерком, голоса его не слышно.
– Левее чуть… к озерку, – задыхаясь, прохрипел над Чеботаревым Закобуня.
Но Чеботарев бежал прямо.
Мох перешел в залитую водой низину. Густая осока путалась в ногах. Взяв правее, кое-как выбрались из осоки на мшистое место. Из-за куста выскочил на Карпова немец. Поведя автоматом, он дал длинную трескучую очередь. Стрелял не прицельно, с перепугу, но в Карпова угодил. Чеботарев на ходу выпустил в немца патронов пять, и тот упал. Подскочив к Карпову, Петр попробовал его приподнять. Карпов тяжелел. Из пролома в черепе хлестала кровь. «Кончается», – ошеломила Петра тяжелая догадка.
– Убили? – не своим, слабеющим голосом спросил Шестунин.
– Убили, гады! – ответил Чеботарев, и они побежали дальше, за еле различимой фигурой согнувшегося Закобуни.
Болото не кончалось. Оно то переходило в зыбучий мох, то в кочковатую залитую водой землю. Перескочили выстланную расщепленным кругляком дорогу. Немцы остались где-то позади. Но страх еще гнал (а может, и не страх, а просто желание как можно дальше уйти от места, где могли бы погибнуть). Остановились, когда Шестунин взмолился:
– Не могу больше, братцы. Силы теряю… Ранен… Батальон-то где? К нему надо.
Они остановились и тут только увидели, что попали в настоящую, как в Сибири, тайгу. Слева и справа чернела стена дремучего елового леса – бежали, оказывается, по заросшей подлеском просеке. Прислушивались. Стояла давящая тишина.
– Черта с два теперь наших найдем, – процедил Закобуня.
Шестунин присел не то на пень, не то на высокую кочку. Чеботарев старался понять, куда он ранен. Старшина показывал на бок.
– У меня в кармане… индивидуальный пакет, – слабея, говорил он. – Не бросайте только, прошу…
– Ты что, или за негодяев нас считаешь? – оборвал его Закобуня. – На кого мы тебя бросим?
Они расстегнули у него ремень. Задрали подол гимнастерки. Майка прилипла к телу. Запекшаяся на майке кровь студнем расползалась под пальцами.
Чуть брезжил рассвет. Светлеющее небо бросало на землю матовое сияние, и оно, доходя до этой таежной глухомани, делало темноту сизой.
Перебинтовав Шестунина, они долго судили-рядили втроем, как найти полк или батальон. Незнакомый лес настораживал. Трудно было представить, куда бегут по нему тропы.
Решили идти по просеке – она смотрела на восток.
Поднялись. Прошли с полкилометра, и Шестунин упал. Его положили на спину.
– Не могу больше, – прошептал он, и стало слышно, как что-то клокочет у него в горле. – Оставляйте… что уж… Куда вам со мной…
В чаще, где-то совсем рядом, глухо захохотал филин.
– Не дури, – обрезал Чеботарев. – Сейчас мы тут командиры, – и сострадательно вглядывался в осунувшееся, бледное, с болезненным румянцем на щеках лицо старшины. – Идти тяжело, что ли?.. Кружит голову?
– В глазах круги, – простонал Шестунин. – Оставляйте.
– Вот что, – не ответив раненому, проговорил Чеботарев, обращаясь к Закобуне как старший, – побудь с ним, а я на разведку схожу. Может, след от наших где остался.
Они уложили Шестунина на мягкий сухой мох.
– Без меня никуда! – приказал Закобуне Чеботарев.
Вскинув на плечо ручной пулемет, а скатку шинели и полупустой вещмешок оставив возле товарищей, Чеботарев вышел на просеку. Минут двадцать шел по ней. Просека уперлась в непролазное болото. Чеботарев свернул вправо. Пробираясь через высокий черничник, стал огибать топь. Лес все редел. То там, то тут, как бусы, висели на синих ветках светло-зеленые крупные ягоды. Минут через десять лес снова загустел. Подавшись в него, Чеботарев наткнулся на черничник со сбитой с него кем-то росой. Остановился. Долго изучал след, стараясь понять, кто шел и куда. По вмятине от подошвы понял, что шел человек. Чеботарев направился по следу. Думал: «Местный кто-нибудь, не иначе». Вскоре след вывел его к невысокому холмику, заросшему ольшаником. Показался большой шалаш, за ним второй, третий… Чеботарев остановился за черной ольхой. Долго вглядывался. Из лесу с топором и сухими сучьями вышел мужчина лет сорока пяти. По одежде – крестьянин. Чеботарев показался из-за куста. Мужчина, выронив сучья, остановился. Узнав по форме, что это наш, красноармеец, сказал:
– Проходи, проходи, что стоять-то там. Гостем будешь.
В шалашах спали люди. Некоторые жили тут семьями – ушли из деревни, которая виднелась от озерков, где сражался полк.
Узнав, что с Чеботаревым раненый старшина, мужик задумался. Покряхтев, сказал, чтобы несли его сюда, а уж здесь – их забота.
– В деревню определим на поправку или к лесничему… Тут есть километров за семь наш человек, партийный… Одним словом, присмотрим…
Чеботарев вернулся к своим. Кое-как нашел.
– Я думал, ты уж бросил нас тут, – сказал, обрадовавшись, Закобуня.
– Не мели, – обиделся Чеботарев.
Шестунин жаловался на боль в боку. Подняться не мог – не было сил.
Сломали две жидкие осинки, связали сучья. Получилось что-то вроде волокуши. Расстелили на сучья шинели, сверху положили Шестунина и потащили волокушу по просеке.
Выбивались из сил.
Добрались, когда солнце уж высоко поднялось над лесом. У шалашей стоял гомон, как в цыганском таборе. Знакомый мужик, подвесив на распорки ведро с водой, кипятил чай. Где-то в стороне, за лесом, мычала корова.
– Тут что, деревня? – удивился Закобуня.
– Нет, так это, – ответил ему мужик. – Тут стадо пасется… колхозное… Кормимся вот. Молочко парное пока попиваем. Скоро принесут, поди.
К ним подошел председатель колхоза – старик лет шестидесяти. Щупленький, с седой окладистой бородкой и почти совсем лысый.
Председатель подробно расспросил о полке, о том, где шли бои. Подозвал к себе паренька лет семнадцати и послал его куда-то.
– Тут у нас со стадом ветеринар, – стал он объяснять. – Хоть он и не доктор, а поможет. Он у нас в деревне и скот, и людей одинаково вылечивал. Сведущ во всем, шельма. Все травы лекарственные известны ему. В два счета подымет, если… – и вздохнул. – Пуля дура. Куда хочешь залезет… по германской знаю. Так разворотит все, что и травка не поможет.
Девочка лет десяти вынесла из шалаша в эмалированной пол-литровой кружке молоко. Закобуня стал поить Шестунина.
Знакомый мужик, улыбаясь, несмело сказал Чеботареву:
– Оставались бы у нас. Командовали бы нами, а мы уж… воевали бы, партизанили.
Столпившиеся вокруг колхозники и дети приветливо заулыбались.
Чеботарев не понял, насмешка это или просто мужик не сумел как надо выразить мысль, и пожал плечами, а председатель заговорил, кивнув на мужика:
– Он правду сказал: неплохо бы нам иметь военного. Вам-то все равно, где воевать – здесь ли, там ли. А из речи товарища Сталина вытекает определенно: можно и остаться.
– Вот выживет старшина, – вмешался Закобуня, все еще поивший Шестунина молоком, – он вами и покомандует. Вы пока оружие добывайте да его лечите. Он так закрутить умеет, что еще не рады будете.
Председатель, подумав, сказал:
– Добудем… Не на чужой земле-то, на своей. – И заговорил о немцах: – Ничего, еще увидят, как на нас с войной идти. Ишь, Россия им нужна стала, народ русский. – И вдруг показал всем кукиш: – А этого они не хотят?.. Чтобы русскую землю взять, надо сначала народ русский уничтожить, потому что он к ней каждым корешочком своим прирос…
Чеботарев был поражен. Поражен убежденностью в нашей победе. Поражен самим отношением председателя к войне, понятием о ней. Оказывалось, война идет не только потому, что люди, населяющие советскую землю, не хотят, чтобы пришельцы навязывали им свои порядки, определяли их будущее. Война шла вот за эту кочку, за этот лес, за озерцо у шалашей и за все, что видят глаза, – за родную землю.
Глава шестая
1
Отец Саши Момойкина решил отпраздновать свое возвращение в Залесье. По этому случаю Надежда Семеновна порешила оставшегося с прошлого лета гусака. К вечеру на столе появились салат, жареный гусь, телятина, не съеденные за зиму солености – грибы, капуста, огурчики. Георгий Николаевич, приодетый, в костюме и рубашке с галстуком, с закрученными кончиками усов, важно поставил около пирога-курника бутылки с водкой и графин кваса, приготовленного женою.
Вернувшаяся с огорода Валя сидела возле кровати и посматривала то на стол, то на суетившихся хозяев. Ее все больше охватывало горькое чувство. Вспоминались мирные дни. Первомайский праздник и то, как она с Петром, Соней и Федором встречала его у себя дома. Начинало казаться, будто с приходом гитлеровцев сюда, на Псковщину, это уже никогда не повторится. В ее голове не укладывалось, как можно в такое время праздновать. Она понимала еще Сашиного отца, а самого Сашу… Валю почти насильно усадили за стол. Пить она отказалась. Притрагиваясь к яствам, для приличия улыбалась. Наконец сославшись на головную боль, поднялась и, не раздеваясь, легла на кровать.
Валино настроение передалось, видно, и Саше. Он тоже как-то стал без охоты и пить, и закусывать, а вскоре и совсем сник.
Радостная, помолодевшая будто на четверть века Надежда Семеновна ничего не замечала, а Георгий Николаевич угадал перемену в настроении сына. Зашарив в нагрудном кармане пиджака, он с затаенной тревогой спросил Сашу:
– Ты что? Или не рад отцову приезду?
Вытащив из кармана сложенную вчетверо бумажку, Георгий Николаевич потряс ею перед Сашиным лицом и негромко проговорил:
– Не вешать нос-то! Для нас, может, сейчас только жизнь и наступает.
– Что это? – не поняв отца, спросил Саша и взял из его руки бумажку, развернул ее, вытаращил на Георгия Николаевича глаза: – Это же не по-нашему? От немцев, что ли, она?
Хмелевший уже Георгий Николаевич стал объяснять содержание бумаги. Хвастливо заверял сына, что бояться им с таким документом здесь некого. Его обычно кроткие глаза наливались злобой. Саша остолбенел. Но Георгий Николаевич уже не видел сына.
– Сами кого хошь в бараний рог согнем, – процедил он сквозь зубы и так грохнул по столу тяжелым, жилистым кулаком, что высоко подпрыгнули стаканы и ложки.
Валя настороженно вслушивалась: что это еще за бумага? Догадалась – оккупантами выдана. Не понимала: кем же пришел сюда Георгий Николаевич – купленным немцами человеком или обыкновенным скитальцем? Не вытерпев, она поднялась с кровати, прихрамывая, подошла к столу и молча взяла у Саши бумагу. Впилась глазами в чужие буквы:
«Настоящая справка удостоверяет: ее владелец – русский белогвардеец Момойкин Георгий Николаевич – направляется в село Залесье Псковского округа, к своей семье. Рекомендуем использовать в интересах великой Германии».
Валя сначала не различала слов. Немецких слов. Немного знавшая этот язык со школы, она с трудом поняла смысл документа. Под ним стояла подпись, скрепленная печатью.
Валя долго смотрела на бумагу. Глаза ее остановились на немецкой печати. Она вдруг решила, что Сашин отец – враг. И ей стало казаться, что он может выдать ее гитлеровцам, когда они зайдут сюда. «У таких людей к нам никакой любви быть не может», – рассуждала Валя. Уже жалела, что дернуло за язык рассказать утром за чаем о своем отце как старом коммунисте, дравшемся здесь в гражданскую войну против белых.
И Вале стало страшно (к кому она попала?), невыносимая тягость охватила ее (что с ней будет? как бы поскорее вырваться из этого осиного гнезда?).
Державшая бумагу рука уже дрожала.
Так и не уняв дрожь, Валя сунула бумагу Саше. Направилась к кровати. От стола хлестнул голос Георгия Николаевича, уныло запевшего:
Быстры, как волны, дни нашей жизни.
Что час, то короче к могиле наш путь…
И в это время возле дома Момойкиных появилась Маня.
Огненно-оранжевое солнце низко висело в горячем, переливающемся воздухе. Лучи его, скользя над потемневшей березовой рощей, окрашивали все в какой-то тревожный, режущий глаза цвет. Суеверная Маня подумала: «Не к хорошему».
Маня стояла на улице перед окном. Ждала. Надеялась, что Саша увидит ее и все-таки выйдет.
Из распахнутого окна лилась песня. Голос, почти как Сашкин, но и не его будто, мелодично, с драматическими переливами тянул знакомые с детства слова песни. Грустные, безысходные слова ошеломили Маню. Ей показалось, будто кто-то с остервенением сдавил ее и выжимает из груди последний выдох, последнюю теплоту сердца, последнюю радость. А голос веселел:
Налей, налей, товарищ, заздравную чару.
Бог знает, что с нами случится впереди…
Прислушиваясь к песне, Маня тоскливо смотрела на рощу: стволы деревьев уже тонули в сумерках, и только верхушки их искрились в скользящих лучах солнца. Ее передернуло, и она сделала шаг от окна. Слышала:
С вином мы родились, с вином мы помрем,
С вином похоронят и с пьяным попом.
Налей, налей, товарищ, заздравную чару.
Бог знает, что с нами случится впереди.
А дальше пошла незнакомая – веселая, разухабистая – круговерть:
По рюмочке, по маленькой, чем поят лошадей.
По рюмочке, по маленькой, ти-лим-бом, бом, бом, бом.
Ап-чхи, спичка в нос, ти-лим-бом, бом, ти-лим-бом, бом…
Маня закусила губу. Погладила по шее подбежавшего к ней Трезора. Это дикое, не сдерживаемое ничем веселье никак не вязалось с т е м, что она несла в себе.
И Маня, пятясь, стала отходить от дома. А голос все неистовствовал. В окне показалась девушка – та, беженка. Взгляд ее больших глаз скользнул по Мане и устремился куда-то вдаль – за деревню, за пруд, за рощу, в которой… «Красавица, не просто болтают», – озлобленная, ревниво подумала Маня и увидела, как возле беженки в окне вырос Саша. Увидев ее, Саша нахмурился и исчез. Маню это как хлестануло. Повернувшись, она побежала прочь. Ноги не чувствовали земли… В ушах стоял незнакомый и в то же время как бы Сашкин голос:
По рюмочке, по маленькой, чем поят лошадей.
По рюмочке, по маленькой, ти-лим-бом, бом, бом, бом…
Налей, налей, товарищ, заздравную чару.
Бог знает, что с нами случится впереди.
Маня старалась отогнать от себя слова песни и не могла. Вслед за певцом губы ее шептали: «Бог знает, что с нами случится впереди…» – а перед заплаканными глазами стояло лицо соперницы: худое, продолговатое, с прямым, строгим носом и темными нитями серпом изогнутых почти черных бровей. «Как статуя», – подумала Маня, сравнив ее с мраморной богиней, которую видела в псковском музее.
И Маня вдруг поняла, что Саша никогда больше не выйдет к ней, никогда не пожмет ей руку, не произнесет «люблю»… Представила, как объясняется он с беженкой… И в ней вспыхнуло желание за все отомстить Саше. Маня зажала ладонями – крепкими, загрубелыми на крестьянской работе ладонями – уши. Зажала, чтобы не слышать больше песню, которую пел, ударяя в самую душу, чужой и в то же время Сашкин голос.
Когда Маня на миг оглянулась, в окне вот-вот готового скрыться за изгибом улицы дома Момойкиных, показалось ей, стоит та, соперница, а рядом с ней и сам Саша. Маня – это ей тоже кажется – успевает заметить, как не только у беженки, но и у него, Сашки, счастьем горят глаза…
– Изменник! Надругатель!.. – бросила Маня гневные слова и, ничего не видя, пошла к своему дому, придумывая для Саши кару: «Нет, так ты не уйдешь от меня. Через все муки пройду, но покажу тебе, кто такая я… Мучитель… обманщик…»
На крыльце сидел отец, Захар Лукьянович, и курил трубку, блаженно вдыхая дым. За его спиной, скрестив руки, стояла Манина мать и рассказывала о чем-то смешном мужу. Увидев дочь, они почти в один голос спросили:
– Что с тобой?
Маня только махнула рукой и, заплакав, пробежала мимо. В избе она упала ничком на свою кровать. Уткнулась в подушку. Плакала навзрыд… Отец с матерью, тревожно переглядываясь, старались понять, в чем дело.
Вдруг Маня перестала плакать. Вытерев лицо, села. Сказала, торопливо расправляя на коленях юбку:
– Утоплюсь, удавлюсь, повешусь!.. – и, испугавшись того, что говорит, уставила в пол злые, покрасневшие от слез глаза.
– Что ты мелешь?! – гладя ее по волосам, сурово сказала мать. – Что ни день, то от тебя только новые причуды и идут. Что опять?
Маня не ответила. Ею уж овладела мысль о мести. «Повешусь», – повторяла она про себя и успокаивалась. А когда горячка прошла, подумала, гневно улыбнувшись: «Из-за такого еще вешаться! Слишком жирно. Не стоит того».
Маня отстранила руку матери. Улыбнувшись ей, встала, вышла в сени. Там, набрав в ковш холодной воды из кадки, сполоснула над ведром лицо. Мать, выйдя следом, настороженно наблюдала за дочерью.
– Ну вот, теперь будете, как тени, караулить, – догадываясь, что мать ее угрозу приняла всерьез, сказала Маня. – Да что я, дура какая? Из-за такого урода рук на себя не наложу, не бойтесь.
– Да ведь я… – мать не договорила: она догадалась, что у дочери это из-за Момойкина Саши, и, хорошо зная ее натуру, махнула на все рукой, вернулась в избу.
Маня вышла на крыльцо. Ее горячие, быстрые глаза нет-нет да и поглядывали в сторону дома Момойкиных. Раза два выходил отец. Говорил, что нечего стоять, спать пора, ночь, утро вечера мудренее. Выглянула мать… Но Маня не уходила. В ней укреплялась мысль попугать Сашку. Зайдя в сени, она сняла с крюка тонкую льняную веревку. Сделала петлю. «Подожди, выйдут мать или отец, увидят, что вешаться и впрямь собралась, они тебе дадут жару. Вся деревня взбеленится», – злорадствовала она, а сама привязывала уже конец веревки, стоя на скамье, к жердине под потолком… Привязала. Схватив покачивающуюся в сумерках петлю, примеряла. Ждала. «Станет кто выходить, зацеплю за подбородок и… Обомлеют… Завоют, когда станут петлю из рук вырывать… Подожди! – грозила она Сашке. – Проучу, сволочь…» И тут ей показалось, что так не вешаются. Тогда она слезла со скамейки, отодвинула ее в сторону, принесла из угла старый ящик и взобралась на него. Доски ящика поскрипывали под босыми ногами. Маня примеряла петлю: взявшись за нее, подвела веревку под подбородок и стала ждать, когда кто-нибудь выйдет.
Веревка прикасалась к шее. И Мане от ее прикосновения стало холодно. По телу побежали маленькие колючие мурашки. Ей представилось, что она уже при смерти. И сделалось до предела жутко.
«Ух, – холодно выдохнула Маня. – Вот живешь и… конец». Испугавшись, что ноги ее стоят не на середине ящика, она вывела из-под петли одну руку и, опустив лицо, чтобы видеть ящик, стала переступать. И тогда… ящик покачнулся и, ломаясь, поехал в сторону… Веревка захлестнула шею, не дав крикнуть. В первое мгновение Маня свободной рукой попробовала дотянуться до узла, чтобы помочь другой руке, прижатой веревкой к шее, растянуть петлю. Но, сильные на работе, руки тут ослабли… Мане казалось, что она кричит… Сознание ее мутилось, рука еще делала какие-то судорожные движения, хватая воздух, а ноги только вздрагивали… Хотелось вздохнуть… Хотелось… И не могла… Тело вытягивалось, вздрагивая, а в умирающем мозгу затухал вместе с жизнью истошный, раздирающий душу вопль о помощи…
Стояла ночь. В доме Момойкиных еще пели на радостях, что вернулся отец, когда весть о Маниной смерти, облетев деревню, дошла и до них. Принесла ее женщина, лечившая Валю. Она отозвала Надежду Семеновну за печь.
Саша полупьяными глазами разглядывал фотографии отца, разложенные на столе. Из-за печи Надежда Семеновна вышла белая как полотно. Крестясь дрожащей рукой, проговорила с тяжелым вздохом:
– Боже мой, что делается?! Маня-то… повесилась.
Саша сразу встал. «Из-за меня… – пронеслось в его трезвеющей голове. – Не может быть, она ведь совсем недавно стояла здесь…»
Подойдя к окну, он смотрел в ночь и видел дорогу, а на ней Маню, поджидающую его. Маню стало жалко. Но это была не та жалость, которая вспыхивает в человеке, овладевая всем его существом, а совсем другая – быстро проходящая…
Из Момойкиных никто не пошел к дому Мани. Проводив соседку, Надежда Семеновна суровым, приказным тоном велела всем ложиться спать. Со стола унесла все за печь. Постелив себе и мужу в горенке – Валю она по-прежнему укладывала на кровать, хотя спать там теперь, когда немцы унесли пуховую перину, было не мягче, – закрыла ставни и легла.
Саша ушел в сарай.
Дом затих. Но не спали в нем еще долго. Все молча ворочались, вздыхали, думали, а Саша – тот полежал-полежал и, тихо спустившись, вышел на зады. Долго стоял, вглядываясь в даль. Обойдя деревню, прошел за пруд. Постоял на том месте, где парни и девчата устраивали пляски и где встречался последний раз с Маней… Побрел по плотине.
Пруд затаился. Чернотой смотрел он в глаза Саше. В его мертвой глубине светлячками бились отражения редких звезд. А Саше чудилось, что это бьются, не в силах вспорхнуть и улететь, сами звезды. Беспомощность их, показалось ему, сродни его собственной беспомощности; их судьба, оказывается, тоже во власти более могущественных сил, чем они сами, и изменить что-либо в своей судьбе они также не в состоянии. Оттого, что это он принял за истину, Момойкину стало легче. «Если они – гиганты! – находятся в подчинении стихийных сил, – успокаивал себя Саша, – и если им путь предначертан помимо их воли, то что же спрашивать с меня, человека?! Моя воля закована в такие цепи обстоятельств, что их ничем не разорвать… И дело совсем не в совести, не в характере, – рассуждал он, уже перейдя плотину и выйдя на зады дома, в котором размещалось правление колхоза. – Наверно, что-то роковое сопутствует человеку…»
Саша не заметил, как подошел со стороны огорода к дому Мани. Спрятался за ствол старого, давшего от корней молодые побеги тополя. Отсюда на него глядело освещенное лампой незанавешенное окно. В окне плавали люди-тени. Был виден стол, а на столе… вытянувшаяся, со сложенными на высокой груди руками… Маня. Рядом, уронив на край стола голову, сидела ее мать. Как каменный, стоял отец и все глядел на закрытые глаза дочери. Тут же был и его сын – Прохор.
Сашу затрясло. Пятясь, он отошел от тополя и, озираясь, будто крал что, побежал вдоль огородов к своему дому. В сарае он долго лежал, перебирая в памяти все, что было у него связано с Маней, а потом, под утро уж, забылся и уснул.
Разбудил Сашу отец. Рано утром.
– Слазь, немцы пришли, – сказал он так, будто гитлеровцы приехали к нему в гости.
Саша вскочил на ноги и, больно ударившись круглой, в раскосмаченных вихрах головой о торчавшую перекладину, присел. Надел рубаху, натянул брюки и вслед за отцом побрел в комнату.
Надежда Семеновна и Валя стояли у закрытого ставнями окна и встревоженно вглядывались в щель между створками. Стал смотреть, вытягивая шею из-за Валиной спины, и Саша.
Немцы остановились перед самой деревней. Они были на двух машинах. В большом грузовике с желтыми деревянными бортами и сдвинутом к кабине шофера пологом сидели на скамейках солдаты. Из-за грузовика выглядывала легковая машина. Около нее стояли, поблескивая погонами, два офицера. С кузова спрыгнули солдаты и побежали, охватывая деревню.
– Эсэсовцы, – бросил Георгий Николаевич, умевший различать гитлеровцев по форме.
Саша посмотрел на Валю, и в ее глазах прочитал тревогу. Ему вспомнились газетные статьи, которые он торопливо, с недоверием пробегал в Пскове. В них много рассказывалось о зверствах гитлеровцев на временно оккупированной земле, но в это мало ему верилось. «Пропаганда», – думал тогда Саша. Сейчас же, когда гитлеровцы предстали пред его очами, он испугался их. С робкой надеждой на милость вспоминал об отцовской справке. Никак не мог понять отца – его незлые слова стучали в висках и пугали еще больше, чем гитлеровцы. Догадывался, что самое страшное в жизни только начинается. «В Полуяково бы надо перебраться было, к дяде. Не успел… Там меня никто не знает, переждал бы…», – со стоном в душе подумал вдруг он и тут же неожиданно для себя сделал вывод, что уйти, по существу, некуда – гитлеровцы на Псковщине всюду – и что надо смириться и как-то пережить это время. Саша снова посмотрел на Валю. Та не спускала глаз с немцев, хмурясь, упорно стояла на подживающей ноге. «Пробует, сможет ли уйти», – вздохнул Саша, и им овладело странное чувство, в котором к боязни за свою жизнь примешалось самолюбивое – не новое для него – ощущение, что Валя в силу именно этих событий может оказаться в его власти, хотя ключа к ее сердцу он так и не подобрал.
Грузовик, пропустив вперед легковую машину, на тихой скорости въехал в деревню. Солдаты, ощетинившись автоматами, надменно посматривали на избы.
Георгий Николаевич отошел от окна. Оглядев домашних, сказал с простодушной ухмылкой:
– Что вы, как покойники? Нас-то они не тронут. При мне же от них бумага… – и сунул руку в нагрудный карман.
Жизнь Георгия Николаевича, после того как он ушел с отступающими разбитыми частями белогвардейцев в Эстонию, сложилась трудно. Под влиянием антисоветской пропаганды он утвердился в мысли, что вернуться домой нельзя. Объявленная Советским правительством амнистия, внушала белоэмигрантщина, обман – вернетесь и… расстреляют… В буржуазной Эстонии Момойкину пришлось батрачить у зажиточных хуторян. Мыкал горе. Обиды сносил молча – чуть что, кому не лень, корили бездомником. Одно время подумывал завести семью, да кому он такой, голодранец, нужен. Разъедала тоска по родному краю, по близким… Когда в Эстонии восстановилась Советская власть, еще больше приуныл. Спать ли ложился на временную, чаще из охапки соломы постель, шел ли в поле гнуть на хозяина спину – хуторяне были тогда еще в силе, – все казалось ему, что вот «придет чека и арестует» его за службу у белых. Но работники НКВД не приходили. Момойкин им был не нужен. У них хватало настоящей работы. Бездомный и нищий, он изводился от тоски по дому, и вот однажды, месяца за полтора до нападения Германии на СССР, решился на отчаянный – в его представлении – поступок: взяв свои бумаги, Момойкин сам пришел в НКВД. Начальник слушал его внимательно, сначала был с ним сух и официален, а потом, когда узнал о нем все, сказал: «Что же вы боялись нас? Мы не звери. Советский Союз – это государство рабочих и крестьян. Там вас поймут. – И, порывшись в книгах и брошюрах на этажерке, вручил Георгию Николаевичу тонкую, как тетрадь, книжицу. – Заполните бумаги, которые вам дадут, – сказал он сочувственно, – мы установим вашу личность, а потом будем решать вопрос до конца. Сейчас пока живите здесь. Почитайте на досуге брошюру, которую я вам дал. Кстати, и грамоту вспомните. Читать-то не разучились?.. Ну вот, из нее вы много узнаете о Советской стране». – «Добрый… – идя из НКВД, со слезами умиления думал о нем Георгий Николаевич. – Понятливый…» После этого Момойкиным овладело нетерпение. Он вел счет каждому дню. Наконец устав ждать вызова, пришел туда сам. Но сержант-дежурный грубо ответил: «Ждите». Вдогонку уходившему Момойкину проворчал: «Не личности бы надо ваши выяснять, а в расход вас… Поди, все руки в крови от защитников революции…» Момойкина знакомое со службы в белогвардейской армии и давно уже забытое слово «в расход», означавшее в устах его ротного командира расстрел, вогнало в страх.
Больше в НКВД он не ходил… Наступила вторая половина июня. И вот, отчаявшись, истерзав себя страхами, Георгий Николаевич сложил в чемодан немудреные свои вещи и на станции сел в поезд, который шел на Псков. «Погляжу хоть глазом, что с Надеждой, с детьми, а там… – и махнул на все рукой, – что будет. Так тоже не жизнь». Но чем ближе поезд подходил к старой границе, тем меньше в вагонах оставалось гражданских, тем больше появлялось военных – пограничников, пехотинцев, артиллеристов… Сердце Георгия Николаевича, который всю жизнь только раболепно подчинялся, которого всю жизнь только затаптывали богатые люди, сердце его заныло в боязни, что ослушался и поехал без разрешения. На каком-то полустанке он тихо оставил поезд и направился пешком обратно к хуторянину, у которого работал, – не имел на билет денег… А тут началась война. И когда в Латвию, а потом и в Эстонию ворвались гитлеровцы, хозяин сказал Момойкину: «Немцы идут освобождать твой народ от большевиков. Молись за Гитлера: когда его армии возьмут Псковщину, тебе наконец удастся попасть домой». Георгий Николаевич несказанно обрадовался. С мстительным озлоблением вспомнил сержанта-дежурного. Теперь он, тратя скудные денежные сбережения, каждый день бегал к киоску и покупал местную газетенку на эстонском языке. Просил дочку хозяина прочитать, что пишут о продвижении немецких войск. И когда наконец Момойкин узнал, что гитлеровцы взяли Псков, ему показалось, что вернулось к нему счастье. Собрав документы, Георгий Николаевич побежал к немецкой администрации, объяснил, кто он, и попросил справку, что, мол, ему разрешается ехать в родное село, где у него семья. Офицер из комендатуры нетерпеливо, с презрительной усмешкой выслушал его и сказал по-немецки эстонцу-переводчику, что «это прекрасный экземпляр» и что такие люди сейчас будут нужны Германии там, в России. «Мы дадим вам такую бумажку», – шутливо заверил он Момойкина и тут же нащелкал ее на машинке сам, импровизируя текст.
Георгий Николаевич вынул из кармана справку, в силу которой он верил, и снова подошел к окну. Простодушно посматривал то в щель, на немцев, то на свой спасительный, как ему казалось, документ. Валя понимала его состояние и злилась. Вспомнились вчерашние опасения, когда подумала, что Момойкин-старший может и выдать, но все же не вытерпела и сказала, чуть краснея:
– Справка эта, Георгий Николаевич, такая, что вам мало от нее радости будет. – И через паузу добавила, посматривая, как на врага, на Сашу: – Честный гитлеровцам служить не станет, потому что Родина дороже всего… Потом, не век им здесь быть – наши-то все равно придут. Тогда ведь ответ держать придется.







