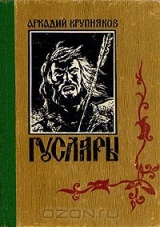
Текст книги "Марш Акпарса"
Автор книги: Аркадий Крупняков
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Попадья – нареченная мать Ирины – оглядывает церковь, а в голове старая, проверенная жизнью, мысль: «Этим скотам спуску давать не надо. Брать за загривок и прямо к венцу. У-у, иродово семя, мужики!»
Отец Иохим под конец обряда стал заметно поторапливаться, забегать вперед хора. Да оно и понятно: из церкви сразу на свадьбу. «Отведу я ныне душеньку,– мыслит Ешка и, сунув руку под рясу, складывает здоровенный кукиш.– А тебе, старая квашня, нанося, выкуси».
И еще быстрее ведет обряд...
На свадьбе гуляли целую неделю. Много на своем роду видели свияжские жители свадеб, а такая была впервой. Вино лилось рекой, обычаи русские и черемисские так перемешались – никто ничего разобрать не мог. Русские пели свои песни, черемисы – свои. Потом все это надоело, давай меняться песнями, плясками.
Токмалай первый затянул русскую песню, которую слышал он в московском кабаке:
Пей: судьба – злодейка!
Там, на дне, копейка,
А как выпьешь все до дна...
дальше Токмалай забыл и .на ходу сочинил свой конец:
Там Топейка наш видна.
Топейке песня показалась неуважительной, и он, стукнув Ток– , малая по шее, велел замолчать. Тот хотел взъяриться, но, посмотрев на широченные Топейкины плечи, сказал уныло:
– Обидна, досадна, но ладна.
А Топейка взял гусли, решил свою песню спеть. Зазвенели гусли, сразу стихли гости. Многие знают: Топейка большой мастер песни петь.
Ветерок подул кружась —
Тучка-дымка поднялась,
Тучка-дымка поднялась,
Мелкий дождик льет на нас.
Взгляд у девушки несмел,
Сердце парня занялось,
Сердце парня занялось.
Как от браги, захмелел!
Ой, Аказ и Орина,
Мы желаем счастья вам,
Мы желаем счастья вам,
Долгой жизни и любви.
Потом кричали: «Горько!», и Акпарс целовал Ирину в теплые губы. Поп Ешка, задрав подрясник, отчебучивал трепака – в избе гнулись половицы.
Палата смотрела на расходившегося батюшку и тихо, но не злобно приговаривала: «Ах, супостат, ах, ирод».
После свадьбы Акпарс послал Топейку в Нуженал и велел ему жить там постоянно и заботиться о порядке в своих землях. Ковяж с пятью сотнями воинов поехал за Волгу к луговым черемисам. Пошли слухи, что появились там разбойничьи шайки и будто люди раскололись на две половины. Одни будто верны клятве русскому царю, другие от клятвы отшатнулись.
Не успел Ковяж уехать, появился в Свияжске Топкай из Чка– руэма и принес Акпарсу неприятную весть. Побывал в Чкаруэме татарский сотник со своей шайкой, весь илем разграбил и сжег, старого Чка утопил в реке. И зовут того сотника Мамич-Берды, а в его шайке много джигитов из разбитого войска, которые раньше служили Япанче.
– Чего хочет Мамич-Берды?—спросил Акпарс.
– Свое ханство поднимать хочет.
– Говорят, его шайка быстро растет?
– Это верно,—ответил Топкай.
– Неужели черемисы лживы? Ведь они клятву царю давали.
– Мамич приезжает и говорит: «Кто едет со мной, становись направо, кто не хочет—налево». Потом, уничтожив стоящих слева, едет дальше. Всем, кому дорога жизнь, приходится идти за ним. Вот мне с Ургашем и пришлось бежать.
– Иди, отдыхай. Завтра в Казань к воеводе поедем.
Если девушка, сорвав молодой листочек, засвистит, значит, девушка хочет выйти замуж.
Если парень пошел в лес и срезал иву для свирели, значит, хочет растревожить сердце девушки, значит, пришла пора жениться.
Если на берегах Юнги зацвела черемуха, значит, на Горную сторону снова пришло лето.
Пришло оно с радостями и заботами. Топейка живет в Нуже– налеи ждет не дождется, когда Акпарс приедет. По цареву указу отвели черемисскому народу много земли, посоветовали, разделив
ее, отдать лучшим воинам во владение. Думал Топейка, что это дело простое. Зачем, думал, землю делить, если она и так разделена. И до этого люди имели свои илемы да руэмы—пусть на старых местах живут.
Но когда дело дошло до дележа, начались споры. Несправедливо больно получалось: чем хозяин богаче, тем хуже под Казанью воевал. А земли у него больше. Беднякам, которые на войне прославились, надо земли больше дать, а где ее взять? У богатых? Попробуй, возьми.
И пришлось звать Акпарса.
Тот приехал и стал твердые порядки наводить; благо, сила в руках была крепкая. Сначала Акпарс хотел было горный полк распустить – война ведь кончилась. Но Санька рассоветовал: «Пока у тебя под рукой воины, землю раздели. Каждому грамоту дай, столбы поставь, укажи, где его земля, от какого до какого места. Да и для охраны власти нашей полк твой будет не лишним—врагов рыскает немало, а русские рати домой ушли».
Акпарс так и сделал. Стяг горного полка перенес в Сюрбиял– в середину горных земель, а воеводой того полка поставил Саньку. Князь Шуйский деяния эти вполне одобрил. Саньке верили все: и князья, и простые люди.
Сегодня приехал Акпарс в Атлашев илем, выбрал хорошее место, раскинул дорогой шатер—подарок воеводы Воротынского. Ирина от Акпарса ни на шаг не отходит. Куда он, туда и она. Гази тоже все время с ней. Полюбила Ирину, как родную сестру. Как подругу.
Позвал Акпарс в шатер двух соседей, Атлаша и Токмалая. Спросил:
– Землями своими довольны ли? Столбовать как было или новый раздел начать?
Атлаш и Токмалай крикнули враз:
– Довольны!
– Недовольны!
– Говори ты, Токмалай. Почему недоволен?
– Я под Казанью четыре раны получил, я до сотника поднялся, мне Иван-кугыжа два раза спасибо говорил. А сколько я земли имею? Кафтаном покрыть можно. Зажали меня соседи. С одной стороны—Сарвай, с другой—Атлаш: дышать нечем.
– Уж не мою ли землю забрать хочешь!—крикнул Атлаш.
– Я правды хочу! Ты все время делу Акпарса вредил, под Казанью не был вовсе, а если людей посылал, так только по нужде. Твой друг Пакман до сих пор где-то с недругами нашими шатается. А владения свои небось раскинул широко, земля самая богатая и лесом, и зверем, и рыбой. Ты, Акубей, если правду любишь, пиши половину его земель мне.
– Я тебе глотку порву, собака! – Атлаш наскочил на Токмалая с кулаками.
– Подождите, вы!—Аказ поднялся.—Токмалай правду говорит. Всю землю по эту сторону реки ему запишем.
– Сунься только—ноги перебью!—кричит Атлаш Токмалаю.
– Не перебьешь. Бери, Токмалай, сотню воинов, ставь на новой земле столбы со своей тамгой. А ты, Атлаш, по ту сторону реки столбы ставь—тебе и там земли хватит. Обидишь Токмалая– посажу в Свияжске в яму. А Пакману передай: петля его ждет, если с повинной ко мне не придет.
– Ладно,– угрожающе произнес Атлаш.– Жди. Он к тебе скоро придет!
В Кудаш-илеме еще интереснее новости. Япык-«мелкий товар» на войну не ходил вовсе, а почти вся округа под его рукой. При разделе люди сами отказались от его земли. Акпарс позвал к себе старого охотника Кудаша, спросил:
– Говорят, ты от надела отказался. У тебя земля лишняя, да?
– Какое—лишняя. Совсем земли мало. Охочусь я и то в чужом лесу.
– Зачем тогда надел не взял?
– Мне Япыкову землю не надо. Это будет несправедливо. Он добрый человек, я ему двести беличьих шкурок должен, он до сих пор не спрашивает. А если я землю его возьму, он спросит. А до сезона охоты далеко. Где я возьму двести белок?
– Ты, Кудаш, не прав. Япык не добрый. Он мошенник. Скажи, сколько шкурок отдал ты за этот нож?
Кудаш вытащил из-за пояса нож и с гордостью попробовал пальцем лезвие.
– Этот нож лучший в илеме. Он стоит сорок беличьих шкурок.
– А Япык в Казани отдал за него всего одну шкурку. Понял, отчего велики твои долги?
Кудаш плюнул себе под ноги, сунул нож за пояс.
– Скажи, Аказ, Топейке, что я беру надел.
Санька, став воеводой горного полка и оставшись без сестры, затосковал в Сюрбияле. Газейка—на сердце и на уме. «Видно, судьба»,—подумал Санька и поехал к Акпарсу в Свияжск. Но зятя своего там не застал, сказали, что уехал Акпарс делить землю под Нуженал. В Нуженале отослали Саньку в Кудаш-илем. Здесь на поляне около речки нашел Санька княжеский шатер, тихо подошел к шатру, остановился.
Вдруг из-за кустов вышел кто-то, юркнул в шатер, и на полотнище четким силуэтом легла черная тень. Санька сразу узнал: это Гази. Легкий ветерок колебал легкую ткань, и тень на ней шевелилась. Стан девушки вытягивался и делался необыкновенно гибким и красивым. Гази, видимо, ходила купаться и теперь переодевалась. Вот она легко сбросила халат, упала на пол рубашка. Вот она наклонилась—и на полотнище двумя тенями повисли длинные косы. Девушка поднялась, косы послушно легли на грудь, мягко облегая стройное тело.
Потом, одевшись, Гази вышла навстречу солнцу. Одета она в легкую кофточку, вместо юбки голубые татарские шаровары, перехваченные у щиколоток. Оглядевшись кругом, села на ковер густых трав у корней клена.
Санька тихо подошел к ней сзади, негромко сказал:
– Салям алейкум, Гази.
Девушка вскочила испуганно, бросилась к шатру, но, узнав Саньку, остановилась и сдавленным, не то от испуга, не то от радости, голосом ответила:
– Здравствай... Саня.
Санька не вытерпел, протянул к ней руки.
– Газейка... радость ты моя!
Девушка рывком бросилась к нему, Санька подхватил ее, поднял на руки и понес, как тогда, под Казанью, к реке. Глаза Гази приблизились к лицу Саньки, и словно увидел он в них отражение полыхающих городских стен и понял, что живет в памяти девушки это страшное время. И он не. ошибся. Гази тихо произнесла:
– Ты второй раз меня так несешь...
– Я тебя всю жизнь на руках рад нести!..
Целый день они провели вместе, ожидая Акпарса и Ирину, которые делили землю в дальнем илеме. Говорили по-черемисски, так как Санька совсем не знал по-татарски, а Гази еле-еле говорила по-русски. О женитьбе Санька не смел и заикнуться, хотя по глазам видел, что татарка любит его. Под вечер вернулись князь с княгинюшкой.
Ирина приезду брата обрадовалась, стала готовить гостю ужин. Гази помогала ей, часто забегала в шатер, бросая на Саньку горячие взоры.
– Я ведь к тебе не гостить приехал,—сказал Санька Акпарсу.—Я по делу. За советом.
– Говори.
– Недаром в народе говорится: седина в бороду – бес в ребро. Жить я без этой татарки не могу. Как быть-то мне, скажи?
– Ты мне Ирину сколько лет любить не давал?—Акпарс добродушно рассмеялся. – А теперь прибежал ко мне за советом? Ты сперва поживи в моей шкуре, помучься, потом я тебе скажу, как быть.
– Мне, друг, не до смеха.
– Ну, а она тебя любит?
– Кто ее знает? Молчит все. Поговорить бы надо, спросить, да разве я осмелюсь?
– В этих делах без бабы не обойтись... Иринушка! Зайди-ка сюда!
– Тут я.—Ирина вошла в шатер.
– Саня жениться задумал. Газейку замуж хочет брать, а любит ли она его—не знает.
– Как же это ты, Саня? Да она ведь мухаметанка. Грех ведь.
Саньку взяло зло.
– Когда ты Аказу на шею вешалась, он кем был?!
– Так то же Аказ...
– То же, то же! Он язычник был. Что касаемо греха—не знай, кто из нас более грешен. Не ты ли в ските по вечерам в молитве говорила с богом, а ночью во сне с Аказом?
– Я те грехи замолила и венцом покрыла.
– А мне бобылем всю жизнь ходить?
Акпарс поднялся, открыл шатер, сказал:
– Идите в лес, там мало-мало поспорьте, а я с Газейкой сам поговорю. Идите.
Когда брат с сестрой вышли, Акпарс позвал татарку:
– Поговорить с тобой, Гази, надо.
– Я слушаю тебя, господин.
– Скоро полгода, как ты живешь в нашей семье, и все мы любим тебя, а кто ты для нас, до сих пор не знаем.
– Я вам верная слуга, господин.
– А Саня не хочет, чтобы ты слугой была.
– Он прогнать меня велел? За что?—В глазах девушки испуг.
– Он тебе волю дать хочет. Ты его пленница, а ему бог пленных держать не велит. Саня сказал: пусть она идет, куда душа скажет.
– Я бы лучше у вас осталась. Теперь у меня ничего нет: ни дома, ни родных. Мне у вас хорошо.
– Саня с сестрой русскому богу молятся. Я... я тоже крест ношу. А ты ведь аллаху поклоняешься. Как тут быть?
– Я аллаха забывать стала. В своих молитвах только вас благодарю. Саня спас меня от смерти, Ирина любовь мне свою отдала, ты в семью принял. Научите меня русскому богу молиться, и я забуду аллаха. Он мне всю жизнь только несчастья приносил.
– Если русский поп крест на шею тебе повесит?
– Пусть... повесит. Носить буду,—тихо ответила Гази.
– Иди. Я поговорю с Саней.
Когда Ирина с Санькой вернулись из леса, Акпарс сказал Саньке:
385
25 Марш Акпарса
– Поезжай в Свияжск, тащи попа Ешку. Гази нашу веру принять согласна.
Около полудня Санька привез отца Иохима. Ешка за зиму растолстел, тяжелый серебряный крест полулежит на округлом животе. Плотно пообедав у Акпарса в шатре, Ешка долго беседовал с Гази, наставляя ее на путь новой веры. Потом повел на берег речки крестить. В последнее время он к этому привык. Бывало, по целой сотне новокрещеных загонял в воду, читал привычные молитвы, кропил святой водой, получал определенную мзду, и у пастыря в пастве появлялась новая сотня православных.
Крестным отцом решили назвать Акпарса, крестной матерью– Ирину. Имя подобрали самое православное—Акулина.
На берегу Ешка равнодушно молвил:
– Разоблачайся.
Гази смущенно глядела то на Акпарса, то на Ирину.
– Не стыдись, я тебе не парень. Я тебе отец, и святой к тому же.—Видя, что Гази никак не может одолеть робость, крикнул:—Да раздевайся, пропади ты пропадом! Ты, крестный, отвернись!
Когда Гази, смущенная вконец, разделась, Ешка подошел к ней, отрезал прядку волос, вмял ее в комочек воска.
– Лезь в воду. Сказано—лезь.
Вода была холодная, и Гази осторожно вошла в реку по пояс. Окунулась.
Трижды окропив новокрещеную, Ешка начал творить положенную молитву.
– Теперь, раба божья Акулина, подойди ко мне. Целуй крест святой и будь верна ему отныне и во веки веков. Аминь!—И, достав из кармана медный нательный крестик, повесил его на шею Гази.
А вечером, напившись, Ешка укоризненно говорил:
– Ты скажи мне, раба божья Акулина, ведь имя новое забыла? Ну, скажи, как тебя зовут?
– Гази.
– Ах, пропади ты пропадом. Зовись, как знаешь. Только крест... Смотри у меня!—И Ешка погрозил пальцем...
Не успели отгулять свадьбу, вернулся в Сюрбиял Ковяж. Приехал злой и недовольный. В стычке с шайкой Мамич-Берды потерял тридцать воинов и сам первый бросился удирать.
– Ты не думай, я не струсил,—говорил он Акпарсу.—Еще раньше я понял, что воевать нам нельзя. Луговые люди глядели на нас недобрыми глазами, обзывали московскими блюдолизами. Там Мамич свои порядки завел, мне там нечего делать. Только людей зря губить.
– Значит, Луговую сторону Мамичу отдадим?
– А зачем мне Луговая сторона? – крикнул Ковяж,—Мне и на Горной стороне неплохо.
– Разве царю Ивану ты клятву не давал? Разве не обещал ему держать весь край в верности Москве? А теперь Мамича испугался?
– Ты знаешь, как я под Казанью дрался, и Мамича напрасно поминаешь. Я его не боюсь!
– Почему же убежал от него?
– Драться с ним не хотел. Весь народ говорит: Мамич че- ремисское ханство хочет делать, он народу друг. Он не как ты – царя Ивана не боится!
Акпарс вскочил, подбежал к брату, и все думали: сейчас что-то произойдет. Но Акпарс опустил руку, глянул в дерзкие глаза Ковяжа, сел к столу. Ковяж еще больше осмелел:
– Что ты привязался к Ивану? Мы ему Казань помогли взять, пусть скажет спасибо и не мешает нам своей землей править. Надо и нам вместе с Мамич-Берды вставать.
– Я знаю,– тихо сказал Акпарс,– о чем ты думаешь. Ты только о себе думаешь: вдруг Мамич-Берды ханство поднимет, всю власть себе возьмет, Ковяжу с Акпарсом ничего не оставит. Ты врешь! – Голос Акпарса стал суровым.– Мамич-Берды нашему народу не друг, а враг. Он, как и ты, только о себе думает, о власти. А такой человек никогда другом народу не будет. Ты меня русским царем упрекнул. Ты думаешь, у меня к нему сердце лежит? Мне другие люди дороги. Санька, Андрейка, Микеня, Ирина. Вот к кому я привязался. Я вперед гляжу и верю, что дети и внуки наши в дружбе с русскими будут жить. Если они хотят быть свободными и счастливыми, им с этим народом рядом идти надо. А такие, как Мамич, будут забыты народом и прокляты.
– Ну, мне домой пора,– хмуро сказал Ковяж и направился
к выходу.– Если я буду нужен, дай весть.
– Воинов оставь в полку,– резко бросил Акпарс.
– А кто защитит мой илем от разбойников?
– Над разбойниками Мамич-Берды главный. А он, ты сам говорил, народу друг. И твой – тоже. Не тронет твой илем.
Ковяж вышел, хлопнув дверью.
Спустя неделю отец Симеон отправил митрополиту донос на Ешку, где рассказал о греховодном привержении отца Ефима ко хмельному, о сквернословии. Но это было не самое главное, В конце доноса Симеон писал:
«...заботы о утверждении православной веры тот отец Иохим не ведает, язычникам дает великое послабление, и оные язычники вольно в своих кереметищах отдают языческим богам жертвы и жизнь свою ведут по греховодным обычаям, яко дики. Священник свияжский, коего в народе зовут поп Ешка, не токмо пресекает обычаям, а сам потворствует. Недавно на свадьбе князя Акпарса он сам в обрядах языческих скакал подобно скомороху. Те инородцы, кои отцом Иохимом вере приобщены, кресты свои попрятали и в церковь не ходят. Не токмо язычники, а наши русские люди творят тут невообразимое. Что против праздника Иоанна -Предтечи, против ночи и во весь день до ночи, мужи и жены и дети в домах и на улице и, ходя по водам, глумы творят со всякими играми и всякими скоморошествы и песнями сатанинскими, ночью в рощах омываются водою и, пожар запалив, перескаку по древнему некоему обычаю...»
После доноса лишен был отец Иохим духовного сана и, стало быть, бесславно закончил свой путь ревнителя православной веры.
Однако Ешка горевал недолго. Он завел винокурню, испросив на это позволения князя Акпарса.
Андрюшка Булаев и Магметка Бузубов недавно прислали Ак– парсу по поклону с подарками. Служат они в Москве, однако друга старого не забывают.
Про Шигоньку написали, что стал он теперь важным боярином Шигоней Пожогиным и сидит теперь в думе около царя по правую руку.
Только о судьбе Янгина Акпарс так и не узнал ничего. Все поле битвы под Казанью обыскали, нигде тела Янгина не нашли. Овати, его жена, все ждет и надеется на возвращение мужа.
Надеется на это и Акпарс.
Санька повелел стяг горного полка расшить с одной стороны вышивкой, с другой – русским крестом.
Отшумели пиры в честь взятия Казани, отгремели пушечные залпы в честь ее победителей – и понемногу о земле Казанской стали забывать.
А царь год от года становится все тщеславнее. От возмущенного духа хилеет тело. И пришла пора– занедужил царь и лег на смертный одр. Большинство бояр отказались присягать его сыну, а целовали крест Владимиру Старицкому—началась смута.
Тут уже совсем не до Казани стало Москве. На Горной земле пошли неурядицы, воеводы, оставленные в Казани, почуяв слабину, стали творить беззакония, ясак стали брать не хуже татар. Монахи и попы начали насильничать – веру православную стали насаждать неволей да страхом.
Но случилось то, чего бояре не ожидали. Государь поправился, выжил – и ужаснулись бояре его гневу. Старицкие были уничтожены, на всех, кто от присяги отказался, легла великая опала. И что страшнее всего – государь после болезни словно переродился. Куда девался юноша-царь? С постели встал жестокий, постаревший до времени человек. В душе, кроме гнева и недоверия,– ничего. В глазах одна злость. Никого он теперь не любит. И не верит никому. Каждое письмо, любую челобитную велит нести к нему.
Вот и сейчас сидит он в палате, а перед ним – ворох свитков, писем, жалоб. На царе – кафтан голубого сукна с алмазными пуговицами. Рукава широки, исшиты узорами, меж которых искусно вставлены драгоценные каменья. Посох с золотым крестом стоит меж колен.
Взял со стола бумагу. По желтоватому листу блеклыми чернилами (видно, давненько лежит жалоба) крупные строки: «...Царю государю бьет челом раба твоя бедная и беспомощная Васильева жёнка Наумыча Плещеева, горькая вдова Дарья со детишками своими с Бориской да Оленкою да с Андрюшкою...»
Иван хотел было бросить челобитную (лезут к царю со всякой мелочью), но вспомнил, что Плещеев погиб под Казанью, и принялся читать дальше: «...бью челом на ведомого вора и озорника Гришку сына Дмитриева Оболенского, что он позорил дочеришек моих, трех девок небылишными бранными словесами, а про Андрюшку сказал, што ты-де блядин сын оконницу у меня изломал, а про Бориску сказал, што мы-де из тебя, бражника, годовалые дрожжи выбьем, а Олешку назвал псаревичем, а нас, холопей верных твоих, лаял матерны и всякою неподобною лаею...»
Иван вспомнил, что Григорий Оболенский крест ему целовать не хотел и, взяв перо, внизу челобитной начертал: «Гришку Оболенского в яму». Потом принялся читать другую бумагу.
«Брату моему, государю великому Ивану царицы Сююмбике поклон. Третий год живу в Москве я и терплю лихо, кормлюсь худо, а ты, из Казани меня взявши, обещал держать меня не как пленницу, а как царицу. Однако все меня забыли, кроме стражи, и никого ко мне не допускают и меня взаперти держат. Где твое царское слово, где твоя милость и жалование?..»
Дальше Иван читать не стал. «Какая она царица,—подумал он,– и Москве теперь безопасна. Однако слово было дано, и его следует держать». И, обмакнув перо в чернила, написал: «Царицу Сумбеку из града отпустить, дать ей в удел село Раменское со дворами, а сына ее Утямыша отдать в ученье».
Князь Микулинский, владевший Раменским селом, был сослан на Белозеро за измену царю. В летний княжеский дом поселилась теперь Сююмбике и стала хозяйкой раменских земель. Стражи теперь около нее не было, и скоро около царицы появилось много татар.
Поглядывая на них, раменские мужики скребли в затылках: ведь всю царицыну родню надо было кормить, одевать и денег давать. Родню кормить еще полбеды. А вот стали наезжать со стороны всякие. Вчера вечером прискакал один, говорят, с Волги.
Сююмбике сбросила с себя атласное одеяло и легко спрыгнула на ковер. На носках подошла к окну, открыла набранную из разноцветных стекол створку. Сладко потянулась, подставляя свое тело свежему утреннему ветру.
Несмотря на свои тридцать семь лет, Сююмбике красоты своей не утратила. Она присела к зеркалу. Из овала глянули на нее большие черные глаза. При взгляде вниз глаза закрывались густыми длинными ресницами, при прямом взгляде ресницы доставали до бровей. В зрачках—яркие, ласковые искорки. Чуть-чуть припухлые губы полуоткрыты, будто ждут поцелуя. Морщинок на лице немного, старость еще не коснулась царицы.
«Нет, я все еще хороша»,– подумала Сююмбике и принялась расчесывать черные, словно смоль, волосы. За дверью, будто мышь, заскребла служанка. Царица встала и приоткрыла дверь.
– Госпожа,—зашептала девушка,—вчерашний гость.
– Пусть подождет немного, я только оденусь.
В ту ночь Сююмбике спала мало. Очень много думала. Да и было о чем думать. Приехал из черемисских лесов отважный воин Мамич-Берды, сын мурзы Япанчи. Назвал себя татарином, но разве Сююмбике проведешь. Сказал, что приехал великую царицу навестить, поклон ей отдать. Так и нужно поступать умному человеку—сразу свое дело выкладывать не надо. Говорил о волнении В Луговой стороне, О ТОМ, ЧТО КОПИТСЯ у людей на русских гнев. Сююмбике больно приглянулся нежданный гость. Высок, строен, лицо загорелое, мужественное. Глаза серые, холодные. Даже улыбаясь, не допускает он блеска своих глаз—нельзя ничего прочитать в них. Сююмбике знала: такие дольше всего у трона держались. Такие власть не только могут взять, но и держать могут. А в том, что Мамич приехал о властвовании говорить, Сююмбике не сомневалась. Хоть и хитро вел разговор дальний гость, но к чему клонилось дело, сразу было видно.
Давно не было около царицы настоящих мужчин, и ей захотелось приблизить Мамича к себе. Это сулило и наслаждение, и выгоду. Если он власть взять задумал—пусть с ней поделится. Может быть, снова взойдет звезда Сююмбике на казанском небосклоне?
Надев самые лучшие одежды, хозяйка вышла к гостю. После взаимных приветствий и поклонов начался деловой разговор. Сю– юмбнке начала издалека:
– Я помню, Мамич, твоего отца, помню. Могучий человек был мурза Япанча. Вся Луговая сторона под его рукой была, все черемисы его, как огня, боялись. Да-а, хорошее было время—прошло. Разорвали наши владения на куски, растащили ханство по сторонам. Я все время молю аллаха, чтобы послал он человека, могущего снова поднять ханство. Видно, нет такого человека.– Сююмбике глубоко вздохнула.—Было среди моих подданных много батыров, иные погибли, иные покорно шею под русский сапог подставили.
– Не все, великолепная!—воскликнул Мамич.—Есть и такие кто не склонил головы.
– Есть?—Царица усмехнулась.—Много ли их? Прячутся по лесам, как волки. Без силы, без воинов высоко голову не поднимешь.
– А если бы такой человек нашелся? Если бы сила нашлась? Ты помогла бы ему, блистательная?
– Я? У меня ничего нет, милый Берды. Но если бы такой человек пришел ко мне и сказал: «Можно поднять ханство, но для этого надо разделить тело бедной Сююмбике на куски», я бы без слова легла под нож.
– Этот человек перед тобой, царица.
– Говори, я слушаю.
– Казанское ханство не поднять. Надо ставить другое ханство—черемисское. И я мог бы поставить его сам. Но как укрепить его? Тысячи казанских воинов разбрелись по улусам, притаились и предались презренному занятию—копаются в земле, растят хлеб. Только твое имя может собрать и поднять их в помощь мне. Если ты будешь со мной, вся ногайская орда придет к нам на выручку в трудную минуту. Меня не знают в Крыму, но если ты будешь рядом, Гиреи не дадут царю Ивану захватить нас.
– Ты хорошо сказал. Правильно сказал. Однако я не пойму, как я встану рядом с тобой. Кем?
– Женой.
– Но тебе надо только мое имя, а у меня еще есть душа. Может, в ней живет другой?
– Вырви его из сердца. Разве сидящие на троне любят кого– нибудь? Разве ты любила хоть одного из трех своих мужей?
– Ты смел!
– Я прям. Нам с тобой поздно играть в жениха и невесту. Надо ханство поднимать. Если поделим с тобой трон, то постель как-нибудь разделим.
– Я вижу—ты создан для власти. Где думаешь трон ставить?
– Там, где Кокшага впадает в Волгу.
– Сколько людей можешь поднять против русских и когда?
– Если станешь моей женой, то к будущей весне в нашем
войске станет пятьдесят тысяч. Как просохнут дороги, сразу и начнем. Говори: согласна ли?
– Позволь подумать. Вечером приходи—скажу. А сейчас пойдем, нас ждет завтрак.
Обеда в этот день не было. Вечером гостя позвали на ужин. Собралась вся челядь Сююмбике. На столе было много бузы и пива, пить которое, как известно, кораном не запрещено. Хозяйка была с гостем очень ласкова, сама подносила ему напитки, говорила приятные слова. А когда ужин кончился, все, как по знаку, исчезли, оставив Сююмбике наедине с гостем.
– Я жду твоего слова, мудрая Сююм.
– Вот мое слово.—Хозяйка подала Мамичу письмо.—Отдашь это Уссейн-сеиту. Здесь я прошу его сделать для нас с тобой все, что ты скажешь. Он соберет всех, кто помнит меня, и вместе с ним начинайте поднимать новое ханство. А это письмо пошли с верными людьми в астраханские степи, брату моему Али-Акраму. К весне он тоже соберет немалое войско и будет наготове. А с крымскими Гиреями я снесусь сама.
– Да будет аллах над нами,—сказал Берды, принимая письма.—Завтра же еду и буду слать тебе вести, буду ждать твоих ответов.
Сююмбике позвала служанку, сказала властно:
– Хана в прошлую ночь беспокоили комары. Сегодня хан ляжет в мою постель – приготовь там полог.
Служанка ушла. Сююмбике взяла гостя за руку и, волнуясь, шепнула:
– Пойдем, милый. Сегодня ты мой хан.
– Рано еще. Какой я хан, если нет ханства? Я лягу во дворе. Прости меня—еще не время,—тихо освободив руку из ладони Сююмбике, Мамич-Берды поклонился и вышел.
– Это мужчина!—воскликнула восхищенная царица.—Не растаял, не раскис. Идет к своей цели, как стрела, не сворачивая. Такого можно и полюбить по-настоящему.
А утром на прощание Сююм посоветовала Мамичу:
– Пусть Пакман боярину Салтыкову много шкурок привезет, пусть скажет, что у людей накопилось столько шкур, что их некуда девать, и они пропадают зря. Пусть расскажет, у кого и где эти шкурки лежат, пусть зажжет в глазах боярина огонь жадности, и тогда он поможет нашему делу. Ты сам найди верных людей, вырубайте тайно священные рощи, обвиняйте в этом русских. Без дела не сидите. Когда все будет готово, дайте знать мне – и я приеду на место. Велик аллах!
– Велик аллах!
– Теперь в путь!
МАМИЧ-БЕРДЫ И АЛИ-АКРАМ
О
сень в этом году выдалась затяжной и ненастной. Над кокшайской стороной все время клубились низкие тучи, моросил нудный обложной дождь. С деревьев неудержимо стекала листва, леса оголялись быстро.
В семи верстах от Волги на берегу Кокшаги Мамич-Берды начал строить город—будущую столицу ханства. Со стороны приволжских лугов город окружали высоченной насыпной стеной, за которой можно было отсидеться в случае осады. С севера крепость прикрывалась рекой, за которой начинался густой лес– надежная защита.
Город назвали Кокшамары.
Когда казанский воевода узнал об этом, сказал:
– Больно не на месте вскочил сей чирышек. Не дай бог, разболится—пропадем,—и вызвал в Казань князя Акпарса.
И первый раз между князьями произошла размолвка. Воевода повелел Акпарсу поднять горный полк и Кокшамары разгромить. Акпарс прямо сказал воеводе, что воины горного полка убивать своих собратьев не пойдут, да и сам он тоже не хочет, чтобы лилась черемисская кровь.
– Скажи своим боярским детям, чтобы луговых они не обижали, не насильничали, и тогда воевать Кокшамары не надо будет. Луговые сами от Мамич-Берды разбегутся.
Воеводой в Свияжск был послан Борис Иванович Салтыков – человек жестокий, но не весьма мудрый и в ратных делах не столько быстр, сколь горяч. Тот, не разобравшись в делах, перво-наперво снарядил три сотни стрельцов и повел их на Луговую сторону. Первым большим илемом на пути Салтыкова оказался Помарский. Не разобравшись, кто прав, кто виноват, воевода схватил около семи десятков мужиков и тут же предал казни.
Не прошло и недели, как о помарском побоище узнала вся Луговая сторона. Люди валом повалили в войско Мамич-Берды и совсем перестали платить ясак, а главных ясатчиков Ивана Скуратова и Мисюру Лихарева утопили в реке.
Вместо того, чтобы поразмыслить над случившимся, Салтыков стал снаряжать новый тысячный отряд, в который вместе со стрельцами вошло пять сотен воинов горного полка. Узнав об этом, Мамич-Берды вывел навстречу Салтыкову своих конников и неожиданно налетел на карателей, когда те переправлялись через Илеть. В коротком и яростном бою было убито двести стрельцов да двести пятьдесят горномарийских воинов. Салтыков сам еле успел убежать на правую сторону Волги.








