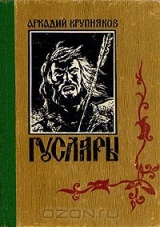
Текст книги "Марш Акпарса"
Автор книги: Аркадий Крупняков
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Дальнейшее произошло мгновенно. Кучак перевернулся, подскочил к дереву, схватил копье и с силой метнул его в грудь Аказа.
О, если бы под кафтаном не было панциря – копье прошло бы насквозь. Но раздался скрежет, мурза понял, что грудь Аказа защищена, и бросился бежать. В несколько прыжков он достиг леса и скрылся в нем.
Аказ упал. Панцирь был легкий, кованого серебра, и копье, пробив его, застряло в металле. Кончик копья чуть-чуть поцарапал грудь. Аказ почувствовал, как под панцирем растекается горячая кровь. Боли почему-то не было.
– Спасибо тебе, Москва,– прошептал Аказ.– Не панцирь ты подарила мне, ты подарила мне жизнь.
ГУСЛИ АКАЗА
Кончилось бабье лето.
Повозка легко катилась по влажной лесной дороге. Эрви с наслаждением смотрела по сторонам. Мимо проплывали убранные поля, конопляники, рощи белоствольных берез, солнечные опушки, глухие боры, овраги с холодными и стремительными ручьями, тропинки, засыпанные ворохом опавшей листвы. Ветерок приносил грибные запахи, дым от костров, запах смолы и тонкую, еле уловимую горечь моховой пыльцы.
Хайрулла с джигитами ехал впереди и Эрви не беспокоил. Дорога длинная, есть время полюбоваться багряными красками осени и помечтать о предстоящей встрече с Аказом, с родными местами, близкими людьми. Эрви хотя и понимала, что прошло много времени, но раз Аказ жив, думала она, значит, все будет хорошо.
Где-то искоркой мелькала мысль: вдруг ей Аказ не поверит, но мысль эта гасла сразу же. Аказ сам был в плену. А разве она не была пленницей? Судьба развела их, теперь снова сводит, но любовь как была, так и осталась.
Эрви долго думала, как ей одеться. Сююмбике подарила ей целый короб нарядов – одежду со своего плеча. Дорогие, красивые платья, почти новые (их царица надевала лишь по нескольку раз), яркие шали и платки, сафьяновые оборные сапожки. Женское тщеславие подогревало одеться ярко, удивить и поразить подруг, понравиться любимому. Но разум и сердце подсказало: надо прийти такой, какой ушла. И Эрви надела свой свадебный наряд, взяла вюргенчык, сохраненный с тех памятных дней. Она ясно представляла, как подойдет к Аказу, повесит свадебный платок на его плечо, приникнет к груди...
Катится по лесной дороге повозка, плывут мимо мягкие краски осени, а Эрви вся в мечтах радостно-тревожных, и сладко замирает в груди сердце...
За Нуженалом, там, где заросли орешника спускаются по крутому склону к реке, раскинулась небольшая поляна. У старой развесистой березы, прямо под открытым небом устроена кузница. Янгин качает мехи, Аказ ворошит полоской железа в горне, раскаленные угли выбрасывают искры. Разведочный поход на Казань показал: оружия в горном полку не хватает. Аказ распустил сотни по домам, воевода выдал им железа, чтобы ковать дома мечи, наконечники копий и стрел.
Возвратившись в Нуженал, Аказ начал готовить оружие. Сам кует мечи, воины за кузницей делают луки, стрелы, точат на граните ножи, наконечники, выпиливают рукоятки. Аптулат недалеко от горна устроил очаг, варит в котле мясо.
Янгин качает мехи, глядит в сторону костра и, переглатывая слюну, спрашивает:
– Дед, скоро у тебя? С утра у котла колдуешь, а толку что-то мало. У нас кишки к спине присохли.
– Корова была старая, мясо худое,– оправдывается Аптулат.
– Ты давай работай,– строго говорит Аказ,– горн не потуши. Еще семь мечей...– Аказ выхватывает из огня белую полоску железа, бросает на наковальню. Янгин хватает большой молот и с остервененьем бьет по металлу. Полоса вытягивается, но скоро остывает, и снова опускает ее Аказ в гудящую пасть горна.
– Скоро сотники придут, надо успеть.
– Ты бы лучше не поминал про них,– Янгин вытер пот со
лба,– чем я хуже сотников?
– Никто не говорит, что ты хуже.
– Скажи: мы у царя были?
– Ну, были.
– Я обещал ему подмогу? Обещал. А ты меня в поход взял? Не взял. Ковяжу дал сотню, Топейка тоже сотник. А Янгин куй мечи, Янгин готовь мясо, мотайся по илемам – собирай народ. Ты тоже дома не живешь. Утром приедешь—вечером в Свияжск убежишь. Все дела взвалили на меня.
– Давай отдохнем.– Аказ сунул окованный меч в воду, из кадки вырвался клуб пара.– Чего ты хочешь, брат?
– Я воевать хочу. В Москве мне дали шлем, кольчугу. На нарах зря валяются. Подумать только, Топейка с сотней был в усадьбе Кучака. Весь дохм вверх дном перевернул, а я варю для победителей лапшу. Вот придет скоро твой Топейка, будет красоваться, хвастаться...
– А ты наденешь кольчугу и думаешь, что будешь сразу воином? Мало знаешь ты. Мы на Казань ходили – это верно. Но нам хвалиться нечем. Побили нас, Янгин.
– Как побили?!
– Очень просто. Мы кулаками драться мастера, а воевать... Бежали мы от Казани так, что только пятки сверкали. Если бы не крепость на Свияге, нас переловили бы давно.
– Ну а Топейка?
– Топейке повезло. Мурза в Бахчисарай ушел за войском, а в это время...
– Прости меня, Аказ.– Аптулат подошел, подал Янгину кусок мяса на кончике ножа – попробовать.– Ты был в Казани, все говоришь о войне, а об Эрви ни слова. Как будто и не было ее совсем. Ты, может, забыл ее, а мне она – как дочь.
– О ней и говорить не стоит!– крикнул Янгин, вытирая нож о штаны.– Подумать только: вернуться к мужу отказалась.
– Кому вы верите? Шемкува врет...
– Она сказала правду,– грустно заметил Аказ.– Искал ее Топейка в доме Кучака – ее там не было. Сказали, что царице служит...
– Говорят, по рукам пошла! – добавил Янгин.
– Я за Эрви перед богом в ответе, я ее к свадебному костру подводил. Надо бы вернее узнать.
– Сколько лет прошло!– Янгин хотел было вступить в спор с Аптулатом, но сзади вдруг раздался густой бас Ешки:
– Осподи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас!
Ешка и Палата возникли над косогором неожиданно.
– О, да это Ешка!—воскликнул Аказ и пошел ему навстречу, раскинув руки.
– Не Ешка, а отец Иохим,– строго заметила Палата и, оттолкнув попа, первая приняла объятия Аказа.– Теперь он настоятель храма во Свияжске, и сану не достойно...
– Молчи, квашня,– прогудел Ешка.– Меж мужиками не суйся.– Он трижды поцеловал Аказа, глянул в сторону очага, втянул носом воздух.– Чую дух мясной, и зело кстати. Я голоден, как стая волков зимой. Давай, веди к столу.
Потом из-за косогора появился Санька. Он вел на поводу коня под седлом, не торопясь привязал его к березе, ослабил подпругу. Конь изогнул шею, потерся головой о Санькино плечо. Санька ласково похлопал ладонью по мягкой конской губе.
У грубо сколоченного стола он обнялся с Аказом, сказал Ешке что-то тихо – Янгин не расслышал. Аптулат сунул в руки Янгина две большие деревянные миски, начал класть в них куски мяса.
– Это русский поп?—спросил он Янгина,—Зачем сюда пришел он? Крестить?
– Он наш друг. Меня от смерти спас.
– А другой русский?
– Да ты не бойся. Не будут они тебя крестить. Мы вместе в Москву ходили.– Янгин подошел к столу, поставил миски, ткнул Саньку в плечо, сказал:—Здорово ли живешь? От Свияги бежишь?
– Из Москвы. Заехал по делу.
– Больно хорошо. А мы как раз старейшин позвали. Вот-вот подойдут.
– А где Ковяж?
– Приедет. В лужай Пакмана заехал. Оттуда слухи нехорошие идут,– ответил Аказ.
– Теперь он воевода,—Янгин сплюнул в сторону,—Четыре сотни Аказ под его руку дал.
– Ждем его,—сказал Аказ,—Приехать должен скоро.
Ешка, вооружившись ножом, смахнул полой рясы со стола
желтые березовые листья, принялся разрезать мясо. Горячие куски дымились паром... У коновязи заржали кони, и на поляну вышли Топейка, Мамлей, Сарвай и Эшпай.
– Тут полон двор гостей!—воскликнул Мамлей.– Здорово, люди! Саня, здравствуй!
– Ешка! Спаситель мой!—Топейка кинулся к попу, облапил его, расцеловал. Сарвай и Эшпай степенно поздоровались с Аказом, Ешкой и Санькой.
– Садитесь все за стол,– предложил Аптулаг и снова ушел за мясом.
Обед начался в молчании. Сарвай и Эшпай с любопытством разглядывали Саньку. Ешка уже побывал в их илемах, а Саньку они видели впервые. Никто не заметил, как к столу подошел Атлаш.
– Мир вам, люди.– Атлаш снял шапку, заткнул за пояс.
– Входи с добро«,– ответил Аказ и подвинулся на скамье, освобождая для Атлаша место.– Будь гостем.
– Я не гостить пришел.– Атлаш исподлобья глянул на Янгина.– Я с жалобой, Аказ. На твоего младшего брата. Без тебя он тут начал много своевольничать. В чужих лужаях распоряжается, как в своем. Пакмана оскорбил.
– Ему рыло набить надо!—крикнул Янгин. 9
– Пусть Пакман молод, но он теперь лужавуй. Он за столом совета старейшинам ровня. Сказали мне, что вы собираете лужавуев – почему Пакмана не позвали, почему меня не позвали?
– Да ты садись за стол,– снова предложил Аказ.– Давно я тебя не видел.
– Болею часто.– Атлаш сел на край скамьи.
– Да-да,– заметил Янгин.– Болезнь твоя коварна. Она тебя терзает всякий раз, когда надо общие дела делать. Когда надо было второй раз в Москву идти, ты заболел. Но стоило нам тронуться в путь, как ты сразу выздоровел и побежал в Казань.
– Ты говоришь неправду!
– Неправду? Хлеб и мясо горному полку ты не дал, людей для ополчения не послал. Все болел. Пакман под твою дудку пляшет.
– И это ложь. Сейчас Пакман собирает людей. Я триста человек к нему послал. И хлеб и мясо. А ты нас на совет не позвал.
– Ты сам же говоришь, что болел. Вот тебя и не позвали. Пришел – спасибо. Послушай, что нам скажет воевода из Свияжска. Он только что от царя.– Аказ кивнул головой в сторону Саньки.
– Послушаю с охотой.
Санька встал и начал говорить:
– Великий государь велел передать вам, что он горными людьми зело доволен. Велел сказать, что обещание свое помнит. Свое и ваше. Что скоро на Казань пойдут рати, а путь их будет тяжек. Впервые возьмут большие пушки и стенобитные машины. Поскольку много будет зелья и ядер для пушек, кормов с собой полки не берут. Иван Васильевич надеется на вас. Хлеб, солонина, крупа, овес должны быть в Свияжске, в запасе.
– Мы эту работу начали,—сказал Сарвай.
– И вот еще: в минувшие походы для ратников царя любая тропка была пригодна.– А ныне пушечный наряд тяжелый, потребует настильные мосты и гати. И вы обещали их изготовить.
– И это начато,– ответил Эшпай.
– Я что-то не заметил. Ехал по земле вашей – мосточки ветхи, а местами и вовсе нет.
– Он ехал по твоей земле, Атлаш,—сказал Янгин.
– Я о мостах впервые слышу.
– Да? Когда к тебе приходил посыльный, ты сразу заболел.
– Не будем спорить,– сказал Аказ,– языком дороги не починить. Мамлей, сколько при тебе людей?
– Пока пятьсот.
– Бери их всех. Пройди по берегам до реки Пьяны, все мосты изладь, уделай переправы, гати.
– Все сделаем...
– Топейка! Твои лихие сотни пойдут в другую сторону. К Алатырю.
– Сказано – сделано.
– Ковяжу остается Сурская дорога, а ты, Атлаш, скажи Пакману, чтобы чинил путь от Юнги к Волге. Помоги ему сам.
– Он нам починит,—Янгин махнул рукой.
– И вас я, старики, прошу: поезжайте по домам и, сколько вам указано, везите муку и мясо в Свияжск. Ты понял, Атлаш? Не увезешь – царь не помилует тебя.
– Три шкуры спустит! – крикнул Янгин.
Атлаш встал из-за стола, надел шапку, сказал зло:
– Вот-вот. Мурза по шкуре с нас спускал, а царь сразу три.
– Тебя мурза щадил, и шкура твоя цела.
– Спасибо за еду. Мне пора.
– Не спеши, посиди.
– Мне своя шкура дорога. Надо дороги чинить.– Атлаш, круто повернувшись, зашагал к берегу.
– Напрасно, Саня, ты при нем рассказывал,– заметил Янгин, когда Атлаш скрылся.– Он сейчас поскачет в Казань и все там расскажет.
– Не беда,– сказал Санька.– Что я сказал, не тайна. Пусть
казанцы знают, с чем мы на них идем. Пусть боятся.
– Я велел Ковяжу на Атлашевых землях наших людей оставить. Они в Казань Атлаша не пустят,– сказал Топейка, вставая из-за стола.
– И нам пора, пожалуй,—Эшпай поднялся,—хватит погостили.
– Дел много впереди,—сказал Сарвай.
– Мы вас проводим.– Аказ, Санька и Янгин пошли вслед
за старейшинами.
Ешка строго поглядел на Палату, сказал:
– Что ты расселась? Сходи на речку – посуду вымой. Коней напои. Дай нам о вере поговорить.
– Ну, долгогривый... Если...—Палата собрала посуду и погрозила попу кулаком.
– Давай иди, иди.– Когда Палата скрылась, Ешка спросил Аптулата: – Скажи мне: ты тут вроде за попа?
– Попов нам не надо.—Аптулат посмотрел на Ешку сердито.– Я карт – хранитель обычаев.
– Я знаю, что попов ты не любишь. Однако посоветоваться
с тобой хочу.
– Давай совещайся.– Карт насторожился.
– Ваша вера, это самое,—Ешка щелкнул пальцем по горлу,– не забороняет? Не понимаешь? Ну, в смысле воспринять... после трудов праведных?
– А-а,– карт рассмеялся.– Ежли пиво есть, медовая брага есть – кто может запретить. Только жена.
– Хорошая у вас вера. А сейчас бражки не мешало бы глотнуть. Ежли поискать...
– А чего ее искать? Вон на берегу речки шалаш стоит – там у меня целая кадка...
– Так чего же мы сидим?! Пока моей квашни нету...– Ешка подмигнул карту и направился вниз, к воде. Аптулат засеменил следом.
Спустя несколько минут к столу подошли Санька и Аказ.
– Пока мы двое—поговорить с тобой хочу,– сказал Санька, присаживаясь на чурбан с наковальней.– Что мне с сестренкой делать, посоветуй? В Свияжске ей не место. Я все время в отъездах, одну ее оставлять страшусь. Люд в новом городе собрался бродяжий, озорной, жёнок мало. Недавно сироту одну в лес уволокли, надругались и придушили. И такое не первый раз случается...
– Я слышал тоже.—Аказ помолчал немного.—А что, если ее сюда привезти? Наши мужики теперь дома живут мало, бабы одни. Любой дом ее примет. Да и у меня изба пустует.
– Люди худого не подумают?
– Да что ты. Она мне сестра названая. Выбери время и привези ее. Я буду ждать.
– Ладно. И еще я хотел бы тебе сказать...—Санька осекся, к кузнице подбежала Палата.
– Мой-то долгогривый где?
– Куда-то ушли с Аптулатом,– ответил Санька.
– Наверно, брагу пить ушел, – Аказ улыбнулся.
– Ах, он ирод, луженая глотка! Разве мы за этим в такую даль притащились? Ему надо басурманов ваших к православию приводить, а я хотела, Аказушка, с тобой про Ирину говорить. Ее братец, вон он сидит, хорош – девчонку одну в этом вертепе оставляет, она слезы льет денно и нощно, а вам до этого и дела нет. Словно чужие вы...
– Ты, матушка, погоди.– Санька привстал с чурбака.– Мы только что об этом говорили: я Иришку сюда жить привезу.
– И я с этим же советом шла... – Палата спохватилась: – Где эти старые хрычи прячутся?
–Во-он, тот шалашик.– Аказ указал на берег.
Палата ринулась туда...
Под вечер Санька уехал в Свияжск, Ешка с попадьей ушел в Сарваев илем с намереньем поставить там часовенку.
Спать легли рано. Сон не приходил к Аказу. Сначала мешал спать Янгин. Он с подростками точил мечи, сделанные днем, шумел, разговаривал. Потом пришли думы. Об Эрви, об Ирине. Аказ и раньше не любил высказывать, что у него на душе, а теперь и подавно – он князь всей Горной стороны, он патыр, признанный всеми. Поэтому о своих сердечных переживаниях он никогда не говорил с людьми. Чаще, если приходилось невмоготу, он брал гусли, уходил в лес и в песнях изливал всю горечь сердечных мук, облегчая душу.
Поэтому и сегодня он увел разговор об Эрви в сторону, когда его начал Аптулат, обрадовался появлению Палати, когда говорили об Ирине. В его сердце сейчас жили двое. В него пришла Ирина, но не ушла и Эрви. Аказ понимал: пока он верит в Эрви, пока живет надеждой на встречу, Ирина для него – сестра. И ее скорый приход в илем ничего не изменит. Но почему так радостно замирает сердце при мысли о встрече с Ириной? Думы одна за другой приходили к Аказу, они теснились в голове, некоторые исчезли сразу, а иные, как птицы в силках и тенетах, бились в сознании, не находя выхода. Он поднялся с постели, высек огонь, зажег фитиль в плошке с жиром. Снял со стены гусли, но вдруг за окном раздались тревожные голоса. Накинув поверх рубахи меховую телогрейку, надев на босу ногу сапоги, Аказ вышел.
По двору метались люди с факелами, храпели усталые кони, кто-то кричал, чтобы распалили костер и согрели воду. С криком распахнулись створки ворот, на средину двора медленно въехала повозка, запряженная парой лошадей. Аказ подбежал к повозке выхватил у кого-то факел, осветил человека, лежавшего на соломе. Это был Ковяж. Смуглое лицо его было бледно, нос заострился, щеки ввалились.
– Что с ним?!—крикнул Аказ, и от этого возгласа Ковяж очнулся, открыл глаза, попытался приподнять голову, но не мог. Аказ склонился к его лицу.
– Атлаш... Пакман ушли в Казань... Увели своих людей... Я не смог...
– Кто тебя?
– Атлаш... В спину, ножом...
К повозке подошел Аптулат со снадобьями, появился Янгин. Пока карт разметывал окровавленные тряпки и осматривал рану в кудо разожгли огонь, согрели воду. Аптулат осторожно повернул Ковяжа на бок, промыл рану, приложил к ней мазь, перевязал. Ковяж впал в беспамятство, стонал.
– Выживет? – с тревогой спросил Аказ.
– Крови много потерял,– ответил Аптулат,– шевелить нельзя. Пусть в повозке полежит. Не умрет до рассвета – жить будет.
В хлопотах никто не заметил, как у ворот остановилась другая повозка. Двор был полон народу, около Ковяжа толпились женщины, старики. О несчастье узнали в илеме, и люди все прибывали. На Эрви никто не обратил внимания. Она поискала глазами в толпе Аказа, но не нашла. Около повозки причитали женщины. Сердце Эрви дрогнуло. Она пробилась сквозь плотные ряды людей, встала на ступицу колеса, поднялась над повозкой. Узнала Ковяжа... Как дым, рассеялись мечты о радостной встрече. Глянула на зажатый в руке вюргенчык, расправила и покрыла им скрещенные на груди руки Ковяжа...
Утром чуть свет Аказ ушел. Ночной ветер разогнал толстые дождевые облака, небо прояснилось, выглянуло яркое, по-осеннему холодное солнце.
Эрви, проводив мужа, вышла во двор. На дворе девушки длинными пестами мяли в ступах волокно и пели монотонную, нескончаемую песню-жалобу.
Эрви вспомнила вечерний разговор с мужем, и в груди шевельнулось что-то острое, и сердце заныло нестерпимой болью. Она снова вошла в кудо, села на шкуры, разостланные на нарах, закрыла лицо руками и безутешно заплакала. А со двора неслась тоскливая мелодия, Эрви подхватила ее, всхлипывая, запела:
Что здесь ходил любимый мой,
Я от черемухи узнала,
Что тяжело вздыхал порой,
Березка стройная сказала,
Что разлюбил меня друг мой,
Давно известно сердцу стало.
Любимый мой... Желанный мой...
Так бывает всегда. Запоет женщина песню, выльет в словах печаль-тоску – и станет немного легче. Смахнула с ресниц слезы и Эрви. Смахнула, подумала про себя, какая она несчастная. Была она самой красивой девушкой в своем краю, ей предсказывали большую и долгую любовь, и сама Эрви верила этому. Но вот проходит жизнь, а любви нет.
Сколько лет ждала она встречи с мужем! Думала ли, что будет она такой печальной? Сначала спасала Ковяжа, он на краю могилы стоял. Какая уж тут радость. Потом Аказа спешно позвали в Свияжск. Пробыл он там больше недели, приехал, и снова утащили его друзья в Пакманов илем – что-то там недоброе случилось. Даже поговорить с мужем за это время как следует не пришлось. День и ночь полон дом чужих людей, как на постоялом дворе. То один ночует, то другой, а иногда по семь-восемь человек вповалку на полу спят.
До Эрви нет никому дела. Аказ привык один жить, люди привыкли к тому, что он всегда один был—лезут к нему и днем, и ночью. Сначала она хотела хозяйством заняться, но Аказ сказал: «Отдыхай, работников без тебя найдется». Стала наряды, привезенные из Казани, примерять – Аказ . велел эти обноски выбросить. Теперь принялась она вышивать мужу рубахи.
После полудня снова пошел мелкий, облажной дождь, и Аказ вернулся, весь вымокший до нитки. Попросил смену белья, переоделся спешно и давай снова натягивать кафтан.
– Куда ты? В такую непогодь посиди дома. Не вижу тебя неделями. Есть хочешь?
/
– Мне не до еды. Топейка был?
– Эшпай приходил – ушел.– Эрви развернула рубаху.– Ты посмотри, Аказ, какой я узор нашла. Хороший?
– Да, да – хороший,– ответил Аказ, а на узор взглянул мельком.
– Ты погляди. Я его вышила для тебя.
– Мне до узоров ли сейчас, Эрви, и до нарядов ли? Весь Горный край теперь – моя забота. Я поесть как следует не успеваю. Ем на бегу.
– Не только себя – людей замучил...
– Я думал, ты меня поймешь. А ты...
– Ну, отдохни немного. Если дома побудешь, что может случиться? Хоть ночью забудь дела.
– Все видишь ты и слышишь. Вот-вот война начнется. Кругом тревога. Вот-вот появятся русские рати. А ты говоришь: забудь дела.
– Посмотри в окно. Дождь льет как из ведра. Кафтан мокрый– простудишься. Захвораешь – дела совсем некому будет делать. Дождь пережди.
– Ладно.– Аказ снял кафтан, подсел к столу,—Давай поедим. Эрви побежала в изи-кудо и прямо в дверях столкнулась с
Мамлеем.
– Приветствую тебя, Аказ!—Мамлей снял шапку, ударил ею по колену, выбивая мокреть.– Салам, Эрви, давно тебя не видел.
– Великий юмо! Тебя кто погнал сюда в такую непогодь?!
– Сейчас осень. Дождь все время идет, его не пересидишь. А у нас – беда.
– Что случилось?
– Тынаш воду мутит. Он и раньше с Пакманом в паре ходил, а теперь совсем распустился. Натравил своих людей на наших – драка большая была. Дороги чинить никто не ходит...
– Что Тынаш хочет?
– Кричит: «Нам сотника татарина не надо!» Чувашей из сотен отделили. Меня не слушается. Поедем туда.
– Я русских жду. Войска должны прийти.
– Что же делать?
– Погрейся, обсушись, найди Эшпая. Он где-то близко. Недавно у меня в доме был. Скажешь ему – пусть свои три сотни ведет в ваш край, пусть Тынашу прижмет язык. А ты своих татар и чувашей веди в илем Эшпая. Уживемся как-нибудь.
– Зачем сушиться. Все равно промокну. Пойду.
– Будь здоров.
Эрви внесла миску со щами, оглядела кудо.
– Мамлей ушел? Прогнал его?
т * *
Аказ ничего не ответил, подошел к окну. Капли дождя барабанили по тонкой и прозрачной пленке из бычьего пузыря, натянутой
« *+* т» *
на рамку окна. Эрви сходила за хлебом и за ложками, принесла соленых грибов, а муж все стоял у окна. Потом заговорил:
– Нелегкая дорога мне досталась, путь я себе выбрал тяжелый. И он только начался...
– Где ты сейчас?—спросила тихо Эрви.– Где твои мысли?
– А они идут ведь где-то? – не слушая Эрви, говорил Аказ.– В дождь, в стужу, усталые, голодные... До костей промокли, а все-таки идут.
– Куда идут? Кто?
– Русские полки. Дороги развезло... Постой... Около Нурум– бала мост разрушен. Совсем мы забыли про этот мост. Пойду, людей пошлю.
– Да ты поешь.
– Потом.
Хлопнула дверь кудо, и снова гнетущая тишина воцарилась вокруг. Эрви знала, что к этому злосчастному мосту сейчас пойдут люди, и муж тоже пойдет с ними, вернется ночью, а может, только завтра. И принялась убирать со стола...
Спустя час в кудо вбежал Янгин. Грубо спросил:
– Аказ дома?
– Мост ушел чинить.
– Какой мост?
– У Нурумбала.
– Не ври. Мы тот мост давно столкнули, гать сделали,– и выскочил на двор.
У Эрви молнией мелькнула мысль: муж ее обманывает. Для чего? Может, у него есть другая женщина, у которой он проводит ночи? Наверно, есть. Как она не подумала об этом до сих пор? И Эрви представила мужа в объятиях другой женщины, и в груди у нее полыхнул огонь, опалил сердце жгучей ревностью. Дотемна она ходила от окна к окну, выходила на улицу, ждала Аказа. Но муж не возвращался.
Потом села на лежанку, заплакала. «У кого бы спросить?» – подумала она, но было стыдно с кем-нибудь говорить об этом, да и не было человека, кто бы смог быть с ней искренним. Женщины илема чуждались Эрви. Они не знали, как Эрви жила в Казани, и верили многим плохим слухам о ней.
Эрви увидела на стене гусли, сняла их, положила на колени и, медленно перебирая струны, заговорила:
– Вы, гусли, как живые. Вы все умеете. Можете заставить человека плакать, радостно смеяться. А можете ли вы сказать, куда девалась любовь? Может, вы разлучницу знаете? Кто она – сказать можете? И где она? Молчите, гусли? Значит, разлучница есть. Она и вас приворожила?—Эрви бросила гусли на лежанку, отошла к окну,—Нет, вы не скроете правды! Мне юмо скажет.—
Эрви встала перед окном на колени, заговорила:—Согласия семьи богиня, Серлаге кечава! Смягчи сердце мужа, верни его мне. И ты, великий юмо, услышь мою мольбу!
Никто не ответил Эрви. Шумел в оголенных кронах берез ветер, стучали в окно дробные капли дождя, стекали на раму, как слезы, медленно и непрестанно.
Потом вернулся Аказ. Снимая намокшую одежду сказал зло:
– Янгину завтра дам по шее. Гать сделал – никому не сказал. Зря людей гоняли, зря мокли. Давай твою вышитую рубашку. Эта совсем сырая.
Эрви торопливо подала мужу рубаху, зажгла лучину. Тяжесть с души спала, как камень.
Ночь осенняя, темная, длинная. Такую ночь скоротать, ой, тяжело. И дел переделать много можно, и песню спеть, и выспаться.
Аказ осенние ночи не любит. В них для тоски простору много. Летом ночь, как у воробья хвост: не успеешь лечь – уже рассвет. День заботами полон —тосковать некогда.
А осенью... Осенью по ночам болит у Аказа сердце, думы в голове одна беспокойнее другой. За окнами гудит осенний ветер, грозно шумит лес. Всю неделю шли дожди – Нужа поднялась и затопила берега. В лесу земля разбухла от сырости – ни пройти, ни проехать. Около светильника сидит Эрви, вышивает полотенце. Лучина ярко вспыхивает, пламя колеблется, и оттого на стенах тени выгибаются, будто пляшут. Аказ засмотрелся на огонь, опустил руку на лавку и задумался. Теперь весь край и все люди свои судьбы ему, Аказу, вручили. Кто его народ от богачей и разбойников защитит? Он, Аказ. При дележе мест для охоты и для вырубов кто за справедливостью следит? Аказ. Да мало ли других забот у Аказа! А помочь некому.
Ковяж болеет, рана заживает медленно. Янгнн молод, неопытен. Друзей тоже рядом нет. Топейка день и ночь мотается по дорогам – готовит путь для русских ратей. У Мамлея тоже дел не меньше.
Вот и Эрви вернулась. Она дел свияжских не знает, заботы мужа для нее не понятны – думает, что Аказ на нее в обиде, потому и уехал. Замкнулась в себе Эрви, по ночам тихо плачет, днем поговорить люди не дают. Они ведь не знают, что в доме Аказа происходит, они идут к нему с неотложными делами, советов просят, помощи требуют, зовут то сюда, то туда.
Любовь не прошла, нет, но годы молодые ушли, наверно, в этом все дело. Да и как разлюбишь такую, если она через все эти страшные годы верность свою пронесла. Брачной ночи у них не было—Эрви девичества своего не утратила, красоту и чистоту сохранила. Но, видно, отвыкли друг от друга, да времени для нежностей не хватает, заботы переполнили Аказа. И Санька почему-то не едет, хотя и обещал. Наверно, и у него дел невпроворот– поручено ему пушечное зелье в Свияжске накапливать, склады строить. Вспомнив Саньку, Аказ вспомнил и Ирину. Может, она виной тому, что не находит он для Эрви времени? Нет, пожалуй, не она. Для Аказа что Санька, что она – одинаково дороги. Если бы к Ирине любовь была – он бы больше о ней думал...
– О чем думаешь, Аказ?
От неожиданного вопроса Аказ вздрогнул.
– Думать есть о чем. Дел немало у меня впереди.
– Ты неправду сказал... Я ведь вижу. Ты вспоминаешь что-то?
– И вспоминать мне тоже есть о чем,– грустно произнес в ответ Аказ.
Эрви улыбнулась, подошла к мужу, села рядом, приникла к его плечу.
– Ты помнишь тот день, когда я пришла впервые в твое кудо? Была веселая свадьба, и ты пел мне хорошую песню. Сколько лет прошло с тех пор, она все время в моих ушах. Тогда у тебя находились ласковые слова. Сейчас ты совсем другой стал – гусли покрылись пылью, а сердце, видно, мхом обросло. Ты не можешь простить мне Казани. Моя ли вина в том?
Жалость проснулась в Аказе от ее таких слов. Он нежно обнял Эрви левой рукой, правой погладил причесанные волосы.
Эрви проворно сняла гусли со стены, положила на колени мужу. Аказ не спеша настроил их, коснулся струн легким движением пальцев, заиграл.
Знакомая, много раз игранная мелодия на этот раз не лилась из-под пальцев плавно, как речка, а выплескивалась с неприятным шумом, струны звенели совсем не так, как раньше. Аказ недовольно морщился, голова его склонялась все ниже и ниже к инструменту, казалось, сейчас он бросит играть. Но наступил какой-то миг, Аказ овладел мелодией и стал вспоминать слова свадебной песни.
У Аказа была хорошая память, но странно, он никак не мог вспомнить те слова. Аказ понял: песню ту не вернуть. Теперь сердце подсказывало другие слова, и Аказ тихо запел:
Весною лучистою Тают снега...
Я думал:
И горе растает,
Но дни пролетели.
Но ночи прошли.
А горе все прибавляется.
Печально звенели струны, голос певца дрожал, и много невысказанной тоски было в этом голосе.
А жаркое лето Когда пришло,
Я думал:
Исчезнут печали,
Но дни пролетели,
Но ночи прошли —
А горе все прибавляется.
Подумал я осенью,
Сняв урожай:
Зимою заботы забуду.
Но дни пролетели.
Но ночи прошли —
В кудрях зима пробивается.
И захлестнула сердце тоска, медленно затихли, будто умирая, звуки мелодии, даже ветер за окном перестал выть. Тихо стало в кудо.
– Это не та песня, Аку,– с горечью в голосе сказала Эрви,– совсем не та. Тогда гусли радовались и смеялись—теперь они стонут и плачут. Отчего это? Может быть, это не твои гусли?
– Да, гусли совсем плохо играть стали. Как будто не мои,– согласился Аказ.
Эрви забыла сменить лучину, и та, обуглившись, пустила вверх струйку дыма, потухла. В кудо стало темно. Долго молчали в темноте муж и жена, каждый думая о своем...
На рассвете Аказ ушел в лес. Эрви проводила его без упреков. Вечером они много говорили, муж был ласков с ней и внимателен. В душу Эрви пришел покой. Чтобы не томиться в кудо, она пошла под навес, где бабы мяли коноплю. Оделась в старый кафтан, наглухо повязала платок и принялась работать вместе с бабами. Сначала работницы молчали, но потом разговорились, начали шутить, петь песни. «Какая я дура была, что сидела дома»,—подумала Эрви. Разговоры были разные: о скором приходе русских, о предстоящей войне и, конечно, о мужьях, женихах и невестах. Когда заговорили об Аказе, Эрви в шутку сказала, что муж дома бывает мало, наверно, завел на стороне молодую. Все рассмеялись, одна из пожилых женщин сказала строго:
– Он и без тебя на чужих баб не смотрел, а теперь ему до того ли.








