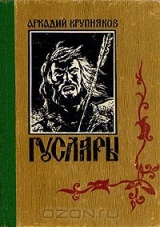
Текст книги "Марш Акпарса"
Автор книги: Аркадий Крупняков
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
За Коломной легкий морозец сменился лютой стужей. Тут уж не до песен, на коне усидеть нельзя. Воины то и дело соскакивают с седла, бегут рядом с лошадью – греются. Иные трут носы и щеки снегом.
Шигалей, ухватившись за стремя, тоже трусит около седла, с конской спины на хана сыплется снежная куржевина.
Путь чем дальше, тем труднее. С вечера по лесу гуляла легкая поземка, к ночи ветер усилился, загулял по вершинам деревьев. Он срывал с сосен снеговые шапки, превращал их в холодную пыль и неистово бросал то на землю огромными белыми тучами, то поднимал в вышину. Лес утонул в белом мареве, на дороге заплясали, забесновались снежные вихри. Они с легкостью поднимали снег и бросались сугробами вдоль и поперек пути. Кони вязли в снегу, ржали тревожно, не хотели идти. К свирепому вою пурги примешивался волчий вой.
Пурга, злобствуя, заполнила весь лес, скрыла в заносах все дороги, и скоро всадники поняли, что они заблудились, потеряли путь. Дальше идти не было смысла.
Спутники хана быстро нарубили пихтовых веток, соорудили шалаши и, выставив охрану, легли отдыхать.
К утру метель озверела. Шалаши позаметало снегом, волки по-прежнему выли где-то рядом. Татары молили аллаха о хорошей погоде. Но, видно, велики были их грехи: буран не переставал трое суток.
На рассвете четвертого дня ветер утих. Волчья стая ушла еще раньше.
В одной деревеньке хан спросил, куда его занесло. И когда получил ответ, схватился за голову. Выходило, что очутились они где-то за Владимиром и бежали в пургу, чуть ли не в обратную сторону от Москвы.
И уж совсем отчаялся Шигалей, когда узнал, что за день до него в деревне была сотня татар из Казани и шли эти конники за кем-то в погоню.
Измученным спутникам хана встреча с сотней грозила гибелью.
Как только выпросил митрополит у царя прощение, сразу же послал по монастырям приказ: разыскать в черемисских лесах
2С6
подвижника Шигоню и возвернуть его в Москву. Игумены грамоты читают, скребут в потылицах: где его искать?
Из Разнежья послан был монах в Санькин дальний скит – а там уж другой подвижник живет. Однако веху указал: уплыл, мол, тот Шигоня по Кокшаге. Так, от одной вехи к другой, притопал монашек в Чкаруэм, разыскал там Шигоньку, приказ митрополита передал. Узнали от него беглецы, что Елена преставилась, молодой царь, видно, добр, старые грехи всем прощает... Сначала добрались до Суздаля, там надумали расстаться. Шигоня посоветовал Саньке, Ирине и Ешке подождать тут. Если на Москве о их грехах забыли, он даст им знак, и уж тогда они в стольный град явятся безбоязненно.
Монастырь Суздальский их бы принял, но Саньке и Ирине с молодости келейное житье опротивело, а Ешку так и вовсе от монашеской жизни тошнит. И надумали они податься снова к Микене в ватагу.
Но попали туда не вовремя: ватага решила перебраться в угличские леса, и Микеня посоветовал им зимовать в одном укромном месте. Привел их в такую чащобу, что туда не только люди, медведи и то не заходят. А в чащобе той – зимовка в два окна, с печкой, нарами и подвалом. Из подвала выведен небольшой подземный ход к берегу речки. Были в этой лачуге инструменты, чтобы ложки вырезать, а это дело нужное. Палага тоже в зимовке осталась, идти с ватагой в такую даль ей было не с руки.
Все четверо научились делать ложки, Ешка таскал их в окрестные села, в обмен приносил хлеб, сало, яйца, молоко. В деревнях и хуторах, далеких от церквей, тайком крестил ребятишек, венчал молодых, отпевал усопших. Когда ложками снабдили всех мужиков в округе, бабы стали прясть лен, Санька из нитей вязал сети, продавал их местным рыбакам. Кормились хоть и скудно, однако не голодали.
Зима в этом году спервоначалу была мягкой, но после рождества словно взбесилась: морозы чередовались с ветрами, бураны– с метелями. Наши зимовщики сидели-сидели в своей занесенной по самую крышу берлоге, но делать нечего – надо выходить, потому как хлеб кончился. И Ешка, забрав две сети и мешок ложек, ушел в пургу. Сутки его нет, вторые, третьи...
– Не видно свету вольного,– сокрушалась Палага.—Беснуется пурга. Чую сердцем, попик наш пропадет – как пить дать. Пойду искать.– И Палага стала надевать шубейку. Санька отложил в сторону челнок и сеть, тоже поднялся, оказал:
– С твоей ли силой в такую непогодь? Сидите тут – я встречу.
– И я с тобой,– Ирина схватила шаль,– загинешь один в пурге.
Санька открыл дверь, снежный ветер ворвался в зимовку. Палата осталась одна, зажгла перед иконой божьей матери лампадку, встала на колени. За окном выла пурга, и Палата подумала: «Если в нашей чащобе такое, то что же в открытом поле творится?»
В молитве и не заметила, как распахнулась дверь и на пороге появился весь занесенный снегом Ешка, а за ним – двое, в суконных чапанах с башлыками, внесли человека.
– Ну, пропади ты пропадом, тащи его сюда,—прогудел Еш| ка. – Давай, клади на нары.
– Боже мой! Кто это?– воскликнула Палата.
– В дороге захворал,– снимая тулуп ответил Ешка.– Ну что вы встали? Тащите другого.
Двое в чапанах торопливо вышли.
– Ну, слава тебе господи, вернулся,– с облегчением сказала Палага и тут же начала ворчать:—У, долгогривый! В такую заваруху да целую неделю в лесу!
– Молчи, квашня, чем языком чесать, согрей воды. Не видишь– помороженные люди.
– Они не наши, вроде?—спросила Палага, ставя на горячую печку котелок с водой.– Нехристи?
– Живые люди...
Двое в чапанах внесли еще одного, рядом с первым положили. Палага помогала развязывать башлыки, расстегивать чапаны.
– Не бойтесь, раздевайтесь. Здесь вас никто не тронет,– сказал Ешка, развязывая мешок.– Вот хлеб оттает – поедим.– Он вынул из мешка огромный каравай ржаного хлеба, положил на печку рядом с котомкой.
– Спасибо. Еще успеем,– ответил один.– Надо бы на дорогу выйти. Нет ли погони?
–Я чую, с этими гостями придется плакать,– сказала Палага, когда те вышли,—Они либо татары, либо еще хуже. Ножи под чапанами видал какие? Скорей всего они лазутчики татар. А ты приволок их сюда!
– Они, Палагонька, измучены, хворые они. И более нам о них знать ничего не надо.
– Душа святая! Вот подожди, оклемаются тебя же первого и прирежут.
– Не ворчи, квашня, помогай хворым!
– А я что делаю?– Палага сняла с больных чапаны, оба были без сознания, тихо стонали. Бросив в котелок горсть сухой малины, Палага вытащила из рундучка склянку с гусиным жиром, смазала больным обмороженные руки и лица. Кожа на них местами почернела, местами покрылась красноватыми язвами.
Когда малиновый отвар вскипел, Палага разлила его по круж
кам и, приподнимая больных, по очереди напоила. Больные уснули, Палага покрыла их, снова налила в котелок воды.
Двое в чапанах вбежали в зимовку, один заговорил торопливо:
– Погоня... Идут по следу. Вы уходите в лес. Мы будем драться!
– Вы ножички спрячьте,– спокойно сказал Ешка.– Есть запасной выход.
– Какой? Одна же дверь-то...
– Лезь под пол. Там сидите. Коли учуют – бегите. Подземный ход к реке ведет.– Ешка сдернул с пола плетеный лыковый коврик, открыл люк, они спрыгнули под пол. Закрыв люк, Ешка встал на половичок, снял с шеи большой серебряный крест и затянул заупокойную молитву. Палага, закрыв дверь на засов, дискантом вторила ему.
В сенцах раздались крики, в дверь сильно ударили, ветхий пасов выскочил из скобок, дверь упала на пол, и четверо дюжих татар ворвались в зимовку. Ешка и Палага запели громче:
Упокой, господи,
Души рабов твоих,
Даниилы и Ерми-илы...
Вечная па-амять... Вечная па-амять...
– Что тут за люди?! Почему в лесу живете?—спросил молодой татарин с обнаженной саблей в руке-.
– Тихо, ты! Не ори,– подняв крест, сказал Ешка.– Покойники и доме, не видишь!
– Почему сдохли?
– Кто знает? Язва, может, а то и чума.
Татарин подошел к больным, откинул чапан, увидел язвы, в страхе отшатнулся.
– Мы шли сюда по следу. Весь снег затоптан. Народу много было, куда все девались?
– Я за попом ходила,– ответила Палага.– Вот привела...
– Врешь, баба!
– Вы хоть дверь прикройте, ироды! Холодно.
– Сама прикрой. Мы искать будем. Найдем – секим башка.
– Кого хоть ищите-то?
– Опасных преступников ловим. Их четверо. Сюда пошли.
Обшарив все углы, татары выскочили на волю, чтобы обыскать
псе вокруг зимовки. Старший остался в зимовке, вынул из кармана кошелек с деньгами, положил на стол.
– Тут деньги. Если придут четверо, дайте знать. Мы в соседнем селе будем. Им далеко не уйти. Понял?
– Понял, служивый. Но я думаю, что одного кошелька мало. За каждого по кошельку.
209
1-І Марш Акпарса
– Э-э, русский поп! Ты такой же жадный, как наш мулла. Одного кошелька хватит. Там серебро, не медь.
– Ну-у, пронесло,– оказал Ешка, когда татары ушли.
– А если бы хворые пошевелились...– Палага перекрестилась.
– Что было бы? Секим башка.– Ешка поднял сорванную с петель дверь, надел ее на петли, затворил. Потом сдвинул коврик, хотел открыть люк. Но Палага остановила его:
– Ничего им не станет. Посидят. Не дай бог татарва снова вернется.
В дверь снова постучали. Ешка открыл и вместе с гулом бурана впустил Саньку и Ирину.
– О господи!—воскликнула Палага.– Как вы злодеям в руки не попались?
– Мы их вовремя заметили,– сказал Санька.– Спрятались.
– Ушли они?
– Ускакали. А это что за люди?
– Нашел в лесу. Давайте есть будем, хлеб оттаял.
Ирина разделась, подошла к больным, долго всматривалась в их лица. Санька спросил:
– Живы?
– Да вроде живы, Саня. Только...
– Что только?
– Сдается мне, один из них —Топейка. Глянь-ка, я, может, ошиблась.
– Похож,– сказал Санька, разглядывая больного.– Очнется– спросим, как сюда попал.
Палага поставила на стол котелок с малиновым отваром, Ешка разломил каравай на четыре части, и все начали есть. Вдруг Ешка вспомнил:
– Ах, пропади мы пропадом! Сами сели за стол, а про гостей забыли. Сидят в подвале.
– Кто в подвале?—испугался Санька.
– Сейчас узнаем,– Ешка подошел к люку, поднял половик, но вдруг в сенцах явственно зазвучала татарская речь:
– Кель мында! Мында кельган тура[3].
– Вернулись басурманы! – воскликнула Палага.
Ешка сдернул крест и снова запел «Со святыми упокой», Санька снял засов, впустил татар. Вошли двое, остальные стояли на воле у окна. Пожилой оглядел зимовку, подошел к больным, открыл чапаны. Хворые враз застонали.
– Они живые. Зачем отпеваешь?
– Какое там живые? Одной ногой в могиле,– ответил Ешка испуганно.
– Ты хитрый, поп.– Татарин говорил добродушно, даже вроде весело. Отойдя от хворых, подошел к Саньке и начал его обглядывать.
– Где я мог тебя видеть, парень?
– Н-не знаю,– ответил Санька, заикаясь, хотя сразу узнал хана Шигалея.
– Сейчас вспомню. Я видел тебя в Москве. Ты был постельничим у великого князя. Потом убег. Аказ с тобой скрылся.
– Обознался ты,– хмуро сказал Санька.
– Ты меня не бойся, парень. Не обознался я. Под чапаном Топейка лежит. А вы убежали вместе.
– Ты-то кто такой будешь?—осмелев, спросил Ешка.
– Я хан Шигалей. Служу царю Ивану. Иду в Москву. Вот мало-мало запутался. В лесу такой шурум-бурум.
– А ты не врешь?– Ешка осмелел еще больше.
– Ай, поп! Мало того, что ты хитрый,—ты еще и вредный. Поверь, я вам не враг. Я нужду терплю. Со мной пять человек. Сейчас их сюда позову.
– Коли не враг – пускай.
Хан Шигалей вышел, Ешка спросил Саньку:
– Он вправду Шигалей?
Санька согласно кивнул головой.
– А ведь из тех, что под полом, один-то Аказ. Я слышал, так его называли.
Ешка поднял крышку люка. Вылезший из подвала Мамлей сначала не разглядел посторонних. Но когда увидел татарина, сразу схватился за нож.
– Мамлей?!—воскликнул Шигалей.– Брось нож!
– Хан Шигалей?! Аказ, смотри, кто здесь!
Аказ не успел появиться в люке, как его облапил Санька.
Пока обнимались и тискали друг друга, Ешка глянул на Палагу и, разведя руками, произнес:
– Поистине неисповедимы пути господни.
– Как вы сюда попали?—спросил Шигалей Аказа.
– Идем в Москву.
– И я в Москву. Ты тоже заблудился?
– Ох и рад, что встретил...
– Ия! Аллах послал тебя сюда. Ты даже сам не знаешь, как мне нужен. Я поведу тебя к царю. Может, он и мою вину простит?
– Какую вину?
– Оставил я Казань. Чуть ноги унес.– И Шигалей начал рассказывать о своей неудаче в Казани.
Ирина и Аказ давно заметили друг друга. Оба обрадовались, а заговорить все не решались. И только когда Ешка позвал всех к столу, Аказ подошел к Ирине, сидевшей в уголке.
– Сестренка, здравствуй!
Ирина рывком метнулась с лавки, обняла Аказа, прижалась к его груди, спрятав лицо в кафтан, заплакала. Санька сказал строго ей:
– Ты в своем уме, Ирина? Нехорошо!
– Прости ее, Саня. Она хоть и названная, но все-таки сестра.
– Принес бы ты, Саня, дровишек,– пропела хитрая Палага.– Печка совсем гаснет, а нам столько взвару надо. Гостей-то полон дом. Иди-иди,– и вытолкала Саньку во двор.
Через полчаса все сели за стол. На столешницах курились паром разогретые хлебные ломти. Хан, дуя на горячую кружку, сказал шутливо:
– Чай не пьешь – откуда сила будет?
А Санька, прихлебывая остропахнущее малиной варево, говорил весело:
– А я думал, ты за моей головушкой.
– Твою вину я знаю. Пойдем в Москву – я выпрошу тебе прощенье. Теперь мы вместе, и силы у нас поболе.
На нарах застонал Топейка, запросил пить. Ирина поднесла к его истрескавшимся сухим губам кружку. Топейка утих. Аказ начал рассказывать Шигалею о том, как собирал старейшин, как шли они в Москву:
– Беда от нас не отстает всю дорогу. Чуть не утонули сначала, потом Янгин с Топейкой заболели, деньги утонули, волки чуть не задрали нас.
– Чуть не считается. Я верю: тебя в Москве ждет удача.
– Какая удача? Домой пойду, обратно. Больные, без денег, оборвались все. В таком тряпье к царю как покажешься? Прогонит со двора.
– Я тоже беден, как дервиш. Ничем тебе помочь не могу. Но все равно...
– Аказ, послушай,– сказал Санька,– пятиться не надо. Ты, видно, сам не знаешь, какой подарок Москве несешь. Царь не посмотрит, что ты в рваном зипунишке.
– Не посмотрит!—воскликнул хан.—Но до Москвы добраться надо. На чем? Всех лошадей съели, две худые кобылы остались. А у вас хворые да бабы. И ашать дорогой надо. Я деньги тоже потерял...
– Ну, пропади вы пропадом! – Ешка поднялся над столом.– О чем они глаголят?! О зипунах да лошадях! А на моей памяти двенадцать раз рати ходили на Казань. Сколь напрасно православных полегло! А если черемиса будет с нами, неверных одолеем. Народ, быть может, отдохнет от ополчений. Вот, берите!—И Ешка, сняв с шеи крест, положил его на стол.– Из чистого серебра!– добавил с гордостью.
– Тулуп мой продадим,– сказал Санька,– стерплю, чай, как– нибудь.
Ирина высыпала на стол горку денег и положила золотое колечко.
– Вот все, что скопила...
– От меня вот это!—Шигалей отстегнул от пояса нож в дорогих ножнах.– Он из дамасской стали.
– Выходит, надо топать к мужикам. На дровни, да на лошаденку хватит,– сказал Ешка, сгребая со стола деньги, крест и нож.– Да, вот еще – чуть не забыл. Тут мне недавно дали кошелек... Ну это – на еду.
– Спасибо, люди,– растроганно сказал Аказ.
– Спасибо скажешь там, в Москве.
Проснулся Янгин, в беспамятстве выкрикнул:
– Аказ! Аказ! Они идут! Стреляй!
Мамлей сказал:
– Недели две, а то и больше пролежат.
– Раньше на ноги поднимем. У молодых подолгу не болит. Пурга утихнет – тронемся.
СНОВА В МОСКВЕ
Третий год боярин Михайло Юрьевич Захарьин уж в Москве не живет. У покойного государя Василия Ивановича боярин был в большой чести, но умер великий князь – и многое изменилось. Елена Васильевна боярина недолюбливала и при жизни мужа, а как царь преставился, жаловать и вовсе перестала.
Когда бояре Вельские да Шуйские пришли к власти, совсем лихо стало Захарьиным. Сколько зла они сотворили, сколько бояр и воевод-доброхотов умершего царя изничтожили—не счесть! Дворы, веси и имения убитых брали себе, а Михайлу Юрьевича с младшим братом Романом чуть в темнице не уморили. А после того, как у бывшего царского окольничего Романа были отняты вотчинные земли, от обиды да лишений он умер, оставив.Михаиле сиротинку Настю – единственную дочь.
У боярина после вызволения из ямы остался всего один двор н Таруссе, где и живет сейчас Захарьин в безвестьи: что в Москве творится, не знает.
Племянница Настя выросла красавицей и умницей. Боярин на нее не насмотрится, только она ему теперь утешенье на старости лет...
Ныне князь-боярин проснулся рано и, помолившись богу, вышел на крыльцо.
Издавна заведено: сперва князь осмотрит ткацкую избу, потом посетит клети и амбары, побывает на гумне, заглянет в овин и, если дело идет своим чередом, возвращается на крыльцо, творит суд и расправу.
У крыльца боярина уже ждут. Впереди стоит мужик, боярин сразу видит: смерд из худых. Полушубок на нем потертый, пошит криво-косо, внизу выглядывают из-под овчин лоскутки посконной белой рубахи. Колпак, отороченный облезлой заячьей шкуркой, мужик мнет в руке.
Поклонившись до земли, говорит:
– Благодетель ты наш, к твоей милости... дал бы до новины осьмину ржи. Детишек кормить нечем. Не откажи.
– Недоимка по прежним долгам, поди, на шее висит, а ты снова «дал бы»,– ворчит князь и, не дожидаясь ответа, говорит ключнику.– Ежели долгов нет, насыпь ему из большой кади.
Двое дюжих слуг выводят к крыльцу низкорослого одноногого мужичонку. На шее – хомут. Это княжеский чеботарь Иванко.
– Ты опять в лихоимстве уличен?—качая головой, спрашивает князь.
– Хомут уволок с конюшни прошлой ночью,—говорит конюх.– Еле поймали.
– Стало быть, как работать, так у него одна нога, а воровать, так сразу пять. Любо! Посадить в швальне на цепь, пусть в хомуте до весны обувку шьет...
Вдруг загромыхало кольцо на воротах, кто-то настойчиво просился во двор.
– Отопри,– недовольно повелел боярин и, ковыряя в носу, стал ждать, кого нечистая принесла.
Ворота распахнулись, Михайло Юрьевич вздрогнул: к крыльцу неспешно двигался дьяк Шигоня Пожогин. Затряслись поджилки у боярина: Шигоньку по пустым делам не пошлют. Проворно сбежал по лесенке навстречу дьяку, гостеприимно распахнул руки.
Пока обнимались да целовались, служки в горнице приготовили стол с вином и яствами.
Выпив по чарке, долго глядели друг на друга, молчали. Потом Шигоня сказал:
– Постарел ты, Михайло Юрьевич, постарел...
– Хоть жив, и на том слава богу,– ответил боярин, невесело усмехаясь.– Ты скажи, что сейчас на Москве творится? Я чаю, не даром приехал?
– Москву сейчас не узнать,– Шигонька почесал за ухом, опрокинул в рот еще чарку,– теперь, слава богу, есть у нас царь.
– Неужто снова перемена?
– Молодой орел крылья расправил и державу в руки взял накрепко.
– Стало быть, возрос Иван Васильевич?
– Ой, как возрос! Семнадцатый годок идет, а правит – дай бог так и возмужалому править. Вельских и Шуйских прижал к ногтю. Недавно венчался на царство, а теперь жениться вздумал. На-ко вот, прочитай,– и Шигонька передал боярину грамоту.
– Ты уж сам прочти. Я глазами дюже ослаб. К тому ж, оконцы затянуло морозом.
Дьяк развернул свиток, прочел:
– «Волею царя и государя нашего Ивана Васильевича послана сия грамота князьям, боярам, воеводам и всем людям знатного рода.
И когда к вам эта наша грамота придет, и у которых из вас будут дочери-девицы, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей-девиц ни под каким видом не таили бы. Кто же из вас дочь-девицу утаит и к наместникам нашим не повезет, тому от меня быть в великой опале. Грамоту пересылайте меж собой сами, не задерживая ни часу».
Шигоня свернул свиток, сказал:
– Уразумел, Михайло Юрьевич?
– Понятно все как есть. Только-ить дочери никакой у меня нету. Не сподобил бог. Бездетным маюсь, и о том в Москве ведомо всем.
– Одного ты, боярин, не заметил: все бояре и князья грамоты меж собой передают сами, а к тебе я прислан. Спроста ли это?
– Спасибо за честь. Одначе и вправду дочери нет у меня.
– А племянница?
– Волю государеву рушить не могу, ибо в грамоте сказано только про дочерей.
– Хитер ты, боярин, но не ко времени. Быть твоей племяннице царицей – чует мое сердце. Государь великий самолично-повелел ей на смотринах быть. Где он видел ее – не ведаю, одначе мне сказал: «Захарьина-Кошкина племянница чтоб была в Москве непременно». А посему, не мешкая, собирайся сам, собирай Настасью и чтобы в полдень тронуться в путь. Спеши, боярин.
Настенька узнала о поездке в Москву и рада-радешенька. В Москве она была всего раз – гостила у сестры Алексея Адашева. Здесь и увидел ее молодой царь. Настя хорошо помнила тот вечер, когда Иван приехал к Адашеву. Боярышне казалось, что она незаметная среди других пригожих и нарядных, но царь подошел к ней, усмехнулся:
– Мила ты и бела, лебедушка, а глаза не вымыла. Так черными оставила. Ай, как нехорошо!
Настя слышала, что любит смущать молодых девиц острый на слово государь, и, чем больше те смущаются, тем больше он смеется над ними. Иногда до слез доводит. «Ну, я-то не заплачу»,– подумала Настя и самым серьезным тоном ответила:
– Прости, мой государь, в том не моя вина. Золой, песочком терла – не отмываются. Видишь, лихо какое!
Царь, помнит Настя, расхохотался, а потом неожиданно привлек к себе и быстро поцеловал в щеку.
И это не смутило Настю. Прикрыв щеку платочком, она сказала строго:
– Румяны-то нынче не дешевы, государь, и слизывать их за всяко просто не надо бы.
– Ой, смела!—удивился царь, а потом добавил:—И смела и весела. Вот только умна ли?—Иван все еще надеялся смутить боярышню...
Село Кашинское, что стоит на полпути к Москве, занесено чуть не под крыши снегом, блестящим под холодным светом луны. На постоялом дворе народу столько, что теснота выплеснула на улицу людей и лошадей. Прямо на улице жгут костры из соломы, ветер разносит тысячи искр по дороге навстречу княжескому поезду. Ми– хайло Захарьин прислушивается к людскому шуму тревожно: не бунт ли уж опять подняли черные людишки? Вокруг костров – темные фигуры в тулупах, овчинных шубах: холод теснит их ближе к огню. Даже кони и те тянутся мордами ближе к дыму, ловят теплые струи воздуха. На княжеский возок никто и не взглянул. Тут и решили заночевать.
Шигонька первый влез в постоялую избу и, переступая через людей, вповалку спавших на полу, подошел к хозяину. В избе чадили два смоляных факела, хозяин поднес поданную Шигонькой грамоту к огню и ничего в ней не понял: читать-то не горазд был. Увидев большую печать, свисающую с грамоты, понял, что дьяк этот —птица важная, и хотел предложить ему свою жилую половину. Но дьяк оглядел и подошел к двери в горницу для благородных, взялся за скобу.
– Куда, дьяче? Там царь!—испуганно зашептал хозяин.
– Иван Васильевич?
– Царь Шигалей со свитой. Не шуми бога ради – татары разорвут тебя.
– Не разорвут,– спокойно ответил Шигонька и постучал в дверь.
Шигалей приходу дьяка обрадовался. А когда узнал, что с ним едет боярин и, может быть, будущая царица, распорядился просто. Из черной избы всех вытурил на сеновал, людей, которые устроились в горнице, вытолкал в черную избу. Настю и боярина сам провел от возка до горницы. В углу против печи и полатей Настя увидела лежанку под пологом, спросила:
– А тут кто?
– Тут, боярышня, хворые. Если помешают – уберем.
– Пусть лежат с богом,– ответила Настя.
После ужина Шигонька сразу вцепился в Аказа, давай выспрашивать о делах, что творятся на горном волжском берегу. С Аказом они старые знакомые—поговорить есть о чем.
В Москве вторую неделю идут смотрины. Девиц съехалось более пятисот. Невесту царскую выбирали тремя кругами. Первый круг – боярский. Ездили бояре-наместники по вотчинам, городам и весям, смотрели каждую девицу. Глядят: пригожа ли, бела ли, нет ли на лице каких изъянов. Особенно выспрашивают про то, какого роду-племени. Ежели девушка древнего роду и красива, дарят ей кашемировый платок и отсылают во второй круг в Москву.
Второй круг—владычный. Сидит в нем митрополит Макарий с архиереями. Здесь проникают в ум и душу каждой избранницы. Задают замысловатые вопросы, спрашивают молитвы, думы о боге, узнают, сколь преуспела девка в грамоте. Самым умным и благочестивым дарят золотой нательный крест и шлют на третий круг. Остальным крест дарят серебряный и с почетом отправляют домой.
Третий круг – царский. Иноземные лекари смотрят на каждую в отдельности. В жарко натопленной комнате златокрестнип раздевают донага и вконец смущенных до бледности в лице подводят к свету. Лекари смотрят, здорова ли избранница, способна ли к деторождению, статна ли, отличается ли красотой телесных форм, нет ли в теле каких изъянов.
Скрытый от девиц, сквозь решетку на избранниц смотрит сам царь.
Из сорока златокрестниц выбрали двенадцать, к ним вышли царь и митрополит.
Настя, укутанная в шелковое покрывало, взглянула на Ивана – и волна радости хлынула в ее сердце. Царь улыбнулся ей как старой знакомой, чуть заметно кивнул головой.
Макарий осенил избранниц крестом, сказал:
– Каждая из вас достойна быть царицей. Любая из вас по сердцу государю, и не знает он, с какой разделить свой престол, свой хлеб, свое ложе. Сие оттого, что даны вы ему человеками, а государыня, как и сам государь, особы богоданные. И обратимся мы к богу, и пусть всевышний укажет на одну из вас. Идите с богом по покоям, вам отведенным.
И снова Иван глянул на Настю ласково.
...Спит Москва, спят обитатели Кремля. Морозно и тихо в ночи, только изредка на крепостных стенах перекликаются сторожа.
В двух опочивальнях, перестроенных наскоро из светлиц, спят двенадцать избранниц. Среди них и Настя. В покоях жарко, девицы сбросили с себя одеяла, разметались на пуховых перинах.
Девицы спят. Уж очень много волнений выпало на их долю в эти дни. Устали они и не долго думали о своем уделе – уснули. Может быть, видят они радостные и волнующие сны.
Не до сна жениху. Отобрали для него двенадцать невест. Все красавицы, как одна, телом стройнее одна другой, смыслом умнее одна другой. Попробуй, укажи на ту, с которой жить всю жизнь. Не шутка. Вдруг выберешь одну, а, может, рядом с ней стоит во много раз душевнее, милее и умнее – в душу не заглянешь. И сказал тогда митрополит: пусть выберет всевышний. Когда отойдут ко сну избранницы, укрыть их всех платами, прийти к ним в ночи и, не видя лица, положась на промысел божий, указать единственную.
И повел Макарий молодого царя в опочивальни.
Под низкими каменными сводами – духота. Единственная свеча в дальнем углу светится еле-еле, язычок пламени колеблется из стороны в сторону, будто свежего воздуху ищет. В полумраке бесшумно, на носках проходит царь мимо кроватей, жадно обшаривает глазами тела, укрытые легкими одеяльцами. Вот одна одеяльце сбросила, потому жара, и лежит в полутьме, будто Ева в первый день творения. Иван долго глядит на нее, но владыка легонько подтолкнул вперед. У царя дрогнуло сердце. Около стены лежит та, что дерзко и умно говорила с ним у Адашевых. Тонкое покрывало плотно облегает тело и обрисовывает удивительно красивые изгибы ее фигуры. Она улыбается во сне, губы шепчут какие-то слова, а на подушке вокруг головы золотистый венец кос. Вся она соблазнительно свежа, и царь склоняется над ее открытым плечом. Ноздри раздуваются, дрожат. Он рывком хватает владыку за рукав рясы и шепчет: «Вот она!»
Шигонька снова в Москве. Снова, как и при Елене Васильевне, рядом с троном. Прочел молодой царь заметы Шигонькины о черемисском крае, нашел их зело умными и краткими и вызвал дьяка в Москву. Повелел ему снова вести Царственную книгу и вносить туда все, что в царстве содеялось. И стал Шигонька царевым летописцем, жил по-прежнему в митрополичьих покоях.
Шигонька взялся за Царственную книгу. Записывать нужно много: как великий государь венчался на царство, как советовался с митрополитом Макарием о женитьбе, где огорошил бояр и попов решением не искать себе невесту в иноземных царствах, как это делали раньше, а взять в жены русскую. И о том, как невесту выбирали. Записать не мешало бы о том, кто этого счастья удостоился.
«И женился русский царь в четверток всеядной недели и венчал их в соборной церкви Пречистыя Богородицы Макарий митрополит всея Руси в царствующем граде Москве и бысть радость велика...»
В понедельник всеядной недели начался великий мясной торг. Испокон веков торговлю починали на Москве-реке. Туши свиней, быков и баранов вывозили прямо на лед и примораживали. Затверделые на морозе огромные рыбины складывались на лед поленницами, как дрова.
В эту же пору начинались и свадьбы, и всякие празднества. Русские, грешным делом, поесть до отвалу любят, а на свадьбах – тут уж без сотни перемен и стола не бывает. Потому торговля съестным идет бойко.
Москва прознала, что пир свадебный у царя начинается в субботу и только в другую субботу закончится. И будто позвано на тот пир около тысячи человек, и будто съедутся со всей державы князья и бояре. Этому верили и не верили, однако многие видели, как в Кремль проскакали молодой воевода Андрей Курбский и старый князь Семен Гундоров. А ведь каждому мальцу ведомо, что Курбский был на южных рубежах, а Гундоров сидел на Волге в Нижнем Новгороде.
И вот настала суббота всеядной недели.
Терешка Ендогуров – приказной голова, как и в прошлые годы, когда женили Василия Ивановича, так и теперь, когда справляет свадьбу его сын, несет охрану Брусяной избы.
В сенях и на крыльце – дюжина сторожей-стрельцов, а сам Терешка в новом кафтане, при сабле встал в прихожей палате у входа. Слева вход в большой зал Брусяной избы, там расставлены столы царского свадебного пира.
Шумно в огромной зале.
Тут и князья, и бояре с женами и дочерьми, тут и воеводы, и попы с чадами и домочадцами. Терешка каждого знает в лицо: недаром седину на сей службе нажил.
Уж все расселись строго и чинно по своим местам, а молодого царя с царицей еще нет. Терешка видит, как царский стольник шмыгает из залы в сени, выглядывает в окно – беспокоится, почему молодые задержались.
Гости тоже шушукаются меж собой, гудят, как пчелы в улье. Потрескивают богатые свечи, льют каплями воск на холодную бронзу подсвечников. Снуют слуги, носят в залу яства, вина и питие. Терешка слюнки глотает.
А царя все нет и нет.
Князь Андрей Курбский, высокий, смуглый красавец, вышел из залы и ходит по палате. Терешка знает: князь, вызванный с южных рубежей на венчание, опоздал и теперь боится гнева царского. Широко распахнув двери, вошел иерей Сильвестр. Он подходит к окну и в волнении мнет черную с проседью бороду. Для него царь все еще мальчик, воспитанник, и каждый неверный шаг болью задевает душу старого иерея.








