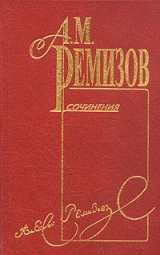
Текст книги "Том 1. Пруд"
Автор книги: Алексей Ремизов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 41 страниц)
Вся монастырская площадь была битком набита.
Весть о кончине старца вмиг облетела весь город.
Валом валили.
Обступили ограду, будто осаждая вражескую крепость.
На стены лезли.
Красный огонек в белой башенке не светил уж больше.
С гиканьем, упиваясь, издевались над каменной огромной лягушкой-дьяволом, проклятым св. Андроником.
Топтали ее, плевали в налитые кровью печальные бельма, непотребство вали..
Монахи, как стража, охраняли вход: не велено было пускать в ограду.
И полицейские, конные и пешие, жандармы, солдаты глухой стеной застенили ворота.
А толпа росла и шумела, как на огромном пожаре, и выли, кликали, визжали бесноватые.
И под вырастающую тоску воя хотелось выть и ломаться, биться о землю и ползти, грызть камни, царапать лицо, кусать руки…
Николай, пробравшийся к самому входу, грудь о грудь с лошадьми и шашками, чувствовал вместе страшную пустоту; она залегла, как туча, между ним и шашками, между ним и лошадьми, между ним и всей этой толпой, и, сдавливаемый со всех сторон, вертелся он, как подколотый вьюн.
Слышал хлест бича за спиной, чувствовал страшные руки, которые, падая ему на плечи, готовы были сломать все кости, а не падал, – втирался, – несся, будто на крыльях.
И жгла жажда до неистовства, выворачивала все внутренности.
Хотел бы остановиться, хотел бы схватить чью-нибудь руку и держать бесконечно, хотел бы грохнуться оземь навсегда.
Но никого не было.
Не было живого лица.
Одна жуткая пустота.
И шарахались люди от него, как от последнего, от зачумленного.
– У-у! – вырвался отчаянный раскаленный вопль, и огненный язык палил все слова, и не было больше слов на языке.
Ворвался к Александру.
Александр на пороге стоял, торопился уходить куда-то.
– Куда ты?
Стояли молча, глядели друг на друга.
Ничего не видел, только эти глаза, которые знали его… – помнишь! помнишь! – и другие, притуманенные, темные.
Там внутри… живые… пели песню.
Песнь песней:
– Приди ко мне!
Вдруг Александр обнял брата и крепко-крепко поцеловал, будто прощался…
Кто-то взял Николая под руку и усадил в кресло.
Сидел в приемной.
Боялся пошевельнуться.
Сгущавшийся сумрак глаза застилал.
Зажигали лампы.
Огромный письмоводитель с бельмом на глазу муслил языком конверты, прихлопывал их широкой ладонью и что-то приговаривал.
И представилось Николаю, будто лежит он, как в детстве, под диваном, смотрит сквозь пустую звездочку, прожженную папиросой на оборке.
– Плямка… Плямка… Плямка…
Старая-престарая старушонка в белом чепце с подносом вошла.
Прасковья, нянька, сказала:
– А Митя умер, в Пруду потонул.
И плакала сморщенными, добрыми исхлестанными глазами. И опять:
– А когда вы были совсем маленькими, встретили мы на дворе дядюшку, а вы кулачки сжали…
– Хочешь, я сию минуту взлезу на шкап и оттуда вниз головой брошусь, хочешь? – услышал голос Петра.
– Пророки огонь низводили… ну а мы… червячки… старика и комар затопчет.
– Придет весна…
– Да жить-то мне незачем, батюшка, для чего мне жить?
– Плямка! Плямка! – затрещал телефон, и где-то на весь дом зазвонили и захлопали…
Хлопали дверьми и шумели.
И тихий сон, охвативший на миг, голос, прижавший к груди и возносивший на теплых руках по тихим ступеням, рассекся.
Николай вскочил, опрокинул кресло.
Трескотня и крик звонков иголкой кололи мозг.
Высовывалось из двери бритое лицо лакея, подозрительно оглядывало и скрывалось.
Письмоводитель на цыпочках вышел.
И Прасковьи не стало.
И настала страшная тишина, только где-то за дверью, за стеною, шаги, только шаги… взад и вперед… взад и вперед…
Да еще что-то…
Вдруг понял… Сейчас арестуют.
– Я уйду! – Николай бросился к окну, схватился за раму…
И тотчас посыпались стекла.
И стекла визжали, звенели… звонили…
.
Но кто-то стальной навалился и душил… звякали шпоры…
Звякали шпоры:
– Не уйдешь… не уйдешь…
XXVIПришла ночь звездная, шумно-весенняя.
А вкруг монастыря, как единая свеча, пылали свечи – не расходились; как половодье, шел народ, гудел.
Сбили полицейских, сбили лошадей, разогнали монахов, проломили чугунные двери…
Ужас и отчаяние кричало в крике бесноватых, и ужас шел чумой.
Они расползлись по кладбищу, унизали собой кресты, забирались в склепы, разрывали могилы, они – с закушенными от боли языками, в разодранных одеждах.
Запеленутое в схиму тело старца костенело, а прижатые к измученной груди руки просили:
– Прости им!
Какая-то женщина в венце развевающихся русых волос, полуобнаженная, билась о подножие катафалка и кричала:
– Глеб, Глеб, не мучь меня! Выйду, выйду… А куда я из тебя выйду?
А с кладбища через окна влетал-надрывался вопль:
– Не пойду, не пойду…
И кто-то темный, печальный, попирая лягушку у белой башенки старца, взвывал:
– Пропал я, пропал… Он мучит, сжигает меня! Выйду, выйду!
И тосковал в своем царстве.
Отчего ж не могу я молится Родному и Равному, но из царства иного?
Проклятие – царство мое, царство мое – одиноко. Люди и дети и звери мимо проходят, мимо проходят скор-чась, со страхом.
Я кинулся в волны, в волны земные.
Ты мне ответишь?..
Ты сохранила образ мой странный и зов в поцелуе?
И ушла с плачем глухим в смелом сердце.
Так в страсти, любви к страсти, любви прикасаясь, – Я отравляю.
Даже и тут одинок:
Слышу тоску и измену и холод в долгих и редких лобзаньях.
А сердце мое разрывалось.
Каменщики разобрали стену фамильного склепа Огорелышевых.
Улыбались черепа злорадной улыбкой – поджидали родного… сына и брата, звали на пир.
На пир из глуби оживающей земли ползли жирные белые черви, загребали мохнатыми цепкими ножками.
О. Иосиф-«блоха» лампадки чистил.
Пришла ночь звездная, шумно-весенняя.
Не расходились.
Как половодье, шел народ и гудел.
Запрудили весь двор черные люди.
И трещал ломкий лед на белом покинутом пруде, стонали гвозди под сапогами, притоптывался грунт разрушенного дома, где когда-то жили Финогеновы, и три длинных облупленных трубы с высовывающимися кирпичами торчали, как три креста – виселицы.
Подъезжали кареты к освещенному белому дому.
Опущенные белые шторы вздувались.
Лежал старик в высоком золотом гробе спокойный и тихий.
И был вокруг гомон, как на свадьбу.
Прыгал огонек в решетчатом окне высокой тюремной башни у Николая.
Длинная тень из окна по стене падала… А вдоль стены по тени, как часовые, шагали Петр, Евгений и Алексей Алексеевич.
Далеко от Камушка до сахарного завода и от Воронинского сада до Синички и от Синички через пустырь до Андрониева и от монастыря до красного острога и дальше до края света, напоенное кровью, разливалось жаркое зарево.
Тосковал Дьявол в своем царстве.
И кричал страх из слипающихся, отягченных сном людских глаз.
И, пробивая красные волны, гляделись частые звезда.
А там за звездами, на небесах, устремляя к Престолу взор, полный слез, Матерь Божия сокрушалась и просила Сына:
– Прости им!
А там, на небесах, была великая тьма…
– Прости им!
А там, на небесах, как некогда в девятый покинутый час, висел Он распятый, с поникшей главой в терновом венце…
– Прости им!
Приложения
Предисловие к четвертой редакции
Подорожие
История моего «Пруда»
«Пруд» – мое первое произведение. Написан в Вологде (1902–1903), но в него вошло – все лирические вступления – из ранее написанного еще в Устьсысольске (1900–1901). В 1-ой редакции с некоторыми редакционными пропусками – увы! меня до сих пор редакторы цензуруют! – «Пруд» был напечатан в ж<урнале> «Вопросы Жизни», Пб. 1905. Встреча была дружная – не было журнала и газеты, где бы не было отзыва – везде выругали.
Несмотря на изустное заступничество – несмотря на слово П. Е. Щеголева, Н. А. Бердяева, В. В. Розанова, Льва Шестова, Е. В. Аничкова – я не мог найти издателя. Последняя надежда Пирожков – и Пирожков не согласился! И только в 1908 г. взял меня под свою руку С. К. Маковский и в издательстве «Сириус» (С. Н. Тройницкий, А. А. Трубников, М. Н. Бурнашов) вышел «Пруд» отдельной книгой с обложкой М. В. Добужинского. Это II-я редакция «Пруда». Изд. Сириус. Пб. 1908.
«Пруд» отпугнул «странностью» и «непонятностью», теперь совсем не странной и вполне понятной. Правда, у меня не было ни «серебристой дали», ни «истомы зноя», ни традиционных «вальдшнепов», я, по пылу молодости, наоборот – хотел все обозначить по-своему, назвать каждую вещь еще не названным именем. И в построении глав было необычное, теперь совсем незаметное: каждая глава состоит из лирического вступления, описания факта и сна; при описании же душевного состояния – как борьбы голосов «совести» – я пользовался формой трагического хора. И само собой, как тогда говорили, «наворотил!».
Через год после выхода «Пруда» в Сириусе я попал в еще горшее положение: «Неуемный бубен» – последняя надежда, как тогда Пирожков – был отвергнут редакцией Аполлона, хотя устно – и И. Ф. Анненский, и Вяч. И. Иванов, и С. К. Маковский, и Н. С. Гумилев, и М. А. Кузмин, и Е. А. Зноско-Боровский выражали мне только сочувствие. Все издательства отказались издавать – от Горького («Знание») до Андрея Белого («Мусагет») – ну, никуда!
Через Р. В. Иванова-Разумника, принимавшего в моей жизни сердечное участие, попал я в «Шиповник»: «Шиповник», напечатав в 13-ом Альманахе «Крестовые сестры», взялся издать собрание сочинений в 8 книгах.
Тут-то вот мне и пришло в голову: «а что если попробовать странный и непонятный Пруд изложить своими словами?»
Никому никогда ни под каким видом не пожелаю этого делать – ни волею, ни неволею, ни от желания и сердца, ни со зла, ни назло!
Целое лето, сидя в Париже, я прилежно занимался исправлением: и если в I-ой и во II-ой редакциях я «наворотил», в III-ей я так «разворотил», что самому неловко читать стало. Так вышла III-ья редакция «Пруда» (1911 г.) Изд. Шиповник-Сирин (1910–1912). Собр. соч. т. IV.
* * *
[И теперь – через <2 нрзб.> – «Пруд» в пражском «Пламени»].
И теперь – новый «Пруд».
Я взял II-ую редакцию (Сириус), а из III-ей (Шиповник) только то, что дополняло, все же «изложенное своими словами» вычеркнул; выделил, как запев, лирические вступления, сны и хор; и, насколько возможно, сделал поправки в письме.
Есть для прозы невыносимые вещи:
1) т<ак> н<азываемая> «ритмическая проза» (само собой, во (всякой прозе свой ритм!), но это именно то, что принято называть «ритмической» и что так любят мелодекламировать, – большой соблазн для начинающих, но от которого легко избавиться чтением вслух;
2) всевозможные описательные украшения по преимуществу природы, ничего не изображающие или захватанные донельзя;
3) отдельные слова между точек – без надобности, а главное без внутреннего напряжения, что можно сравнить с искусственным органом без пульса;
4) повторение слова для углубления, смысл не углубляющее, а только строчки – «коротенькие-коротенькие!»
5) библейское «и», уместно звучащее у пророков;
6) беспричинные «многоточия», как мушиная паль…
Виновен —
Виновен: и в только заманивающей «сухой» краткости, и в «пророка», и в «повторениях», и – но когда я впадал, и не раз, в грехи более тяжкие:
7) дешевые ассонансы (глагольные), производящие стрекотню кузнечиков, да чего кузнечиков! – бывает зазорнее;
8) расслабляющая слащавая чувствительность, что достигается очень просто: ставь определение за определяемым и готово дело, не скажи, напр<имер>, «русский народ», а говори «народ русский».
Эту чувствительность (весь т<ак> н<азываемый> «русский стиль» на ней стоит!) исправить легко опять же чтением вслух, ну, а с кузнечиками потруднее (на кузнечиках-то – «Also sprach Zaratustra!» [37]37
«Так говорил Заратустра!» (нем.) – Ред.
[Закрыть]и все, что через него застрекотало по русской земле!), эти кузнечики, что блохи, от которых сейчас Париж стонет – сказывали, что с Океана прибыли с устрицами! – тут без персидского порошку… или, просто говоря, надо все заново.
Что касается самого содержания, я не решался трогать, хотя и следовало бы разгрузить, особенно в любовных сценах, которые: не люблю, и не выходят.
В первый раз я читал «Пруд» в Вологде – Щеголеву, Савинкову и Каляеву: когда П. Е. Щеголев не был еще «архивным фондом», а был «академиком» (в кавычках) за осанку, за голос и за искусное плавание, а Б. В. Савинков был сотрудником «Искры», а И. П. Каляев – корректором в Ярославле в «Северном Крае». И «обезьянья великая и вольная палата» называлась не ОБЕЗВОЛПАЛ, а С.С.А. (Союз Свободных Алкоголиков).
«Пруд» автобиографичен, но не автобиография. Круг моих наблюдений – фабрика – фабричные, где прошло мое детство; улица – я был «уличный мальчишка»; монастыри – «богомолье», куда оравой выбирались мы из города. Все это из жизни. Но самые центральные места романа: «Монах» (самоубийство матери) и «Латник» (в тюрьме) вышли из подлинных снов.
[Я очень благодарен «Пламени»! Алексей Ремизов]
Paris
1925
О романе А. Ремизова «Пруд»
Роман «Пруд» ни в первой печатной редакции (1905), ни во второй (1907) не встретил понимания со стороны современников, «отпугнув», по выражению автора [38]38
Ремизов А. М. Неизданный «Мерлог» / Публ. А. Д'Амелиа // Минувшее
[Закрыть], малопривычной еще в ту пору поэтикой лейтмотивов, пренебрежением к традиционным принципам сюжетосложения и психологической мотивации поступков персонажей, а также многоплановостью и подчеркнутой фрагментарностью текста. Оттолкнули первых читателей романа и его мрачный колорит, чрезмерное, на их взгляд, нагромождение в нем всевозможных «ужасов» действительности и углубленное изображение человеческих нравственных и физический страданий. Все это делало «Пруд» неприемлемым даже с точки зрения утверждавшейся тогда новаторской модернистской эстетики и как бы ставило его вне пределов искусства. Ныне, по прошествии 85 лет с момента публикации, очевидно, что «Пруд» – возможно, и несовершенное по исполнению [39]39
Исторический альманах. Вып. 3. М., 1991. С. 227
В этой связи см. позднейшую (1951 г.) ремизовскую оценку романа: Скажу, как смотрю я теперь на мой «Пруд» (редакция 1907 г.): «Пруд это вереск, крик пробудившейся души, словесно взвихренное с тихими полевыми запевами неумелое, барахтающееся <…>» (Встречи. С. 153).
[Закрыть], но чрезвычайно оригинальное и самобытное по замыслу произведение с весьма необычной для своего времени художественной прагматикой, которая осталась не разгаданной современниками, но которая тем не менее составляет главные его достоинства и первостепенный историко-литературный интерес. Об этом и следует говорить в первую очередь.
Эстетика, явленная в первых двух редакциях «Пруда» (1905 и 1907), – эстетика действенная, имеющая своей целью преображение действительности, изменение ее – посредством воздействия на сознание читателей. Зарубежный биограф Ремизова и хранительница его архива Н. В. Резникова свидетельствует по этому поводу: «В своих ранних писаниях (Пруд, Часы) Ремизов доходит до самого темного дна жизни. Именно в этой непроходимой черноте он старается найти выход из отчаяния жизни и жестокой человеческой судьбы на земле. У него сознательная и смелая идея, он пишет о ней в 1902 году С. П. Довгелло в письме, где он излагает свои мысли о Пруде: он будет говорить о зле своим голосом и, может быть, что-то повернет в мире. <…> Дно жизни в произведениях Ремизова того периода не дно Горького и других писателей реалистической школы. Ремизов стремится дойти до метафизической глубины жизни и человеческой души, он хочет услышать „поддонное“ человеческого существования на земле и найти выход. Он верит в могущество слова» [40]40
Резникова Н. В. Огненная память: Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley, 1980. С. 135. Ср.: «С ранней юности боль человеческой жизни захватила и ранила Ремизова и стала одной из его центральных тем. В романе Пруд (1908 г.), так же как и в повести Часы, А. М. показывает с большой силой и накалом Мрак человеческой души, и бессмысленную, исступленную боль человеческого существования. Это сгущение темных красок (сюрреализм) – не декадентский прием той эпохи. Именно в этой конденсации мрака молодой Ремизов думает найти выход, как будто бы надеясь что-то изменить в мире» (Там же. С. 66).
[Закрыть].
Иными словами, в первых двух редакциях «Пруда» Ремизов предпринял попытку создания эстетической утопии, призванной привлечь внимание читателей к проблеме трагизма человеческого существования, дать объяснение этого явления и наметить пути выхода из него. Задумывая и создавая подобного рода произведение (или, иначе, – в процессе реализации своей эстетической утопии), Ремизов ориентировался на опыт наиболее близкого ему в идейном и духовном плане современника – Льва Шестова [41]41
Перечень научно-исследовательской литературы, посвященной проблеме взаимоотношений Ремизова и Шестова, приведен в Комментарии (см. с. 530–531).
[Закрыть], осуществлявшего на рубеже XIX–XX веков сходное намерение в сфере философского мышления.
Как известно, исходным пунктом глубоко личностной философии Шестова послужило гипертрофированное ощущение трагичности индивидуального человеческого существования. Стимулируемый им, Шестов предпринял попытку «спасения» индивида (читай: в первую очередь самого себя) посредством переориентации общественного сознания на «трагический» тип мышления. Осуществление этого предприятия прошло ряд этапов. В книгах «Шекспир и его критик Брандес» [42]42
См.: Шестов Л. Шекспир и его критик Брандес СПб., 1898.
[Закрыть]и «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше» [43]43
См.: Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше (Философия и проповедь). СПб., 1900 (книга вышла из печати в начале 1899 г.).
[Закрыть]гарантом «спасения» выступала внутренне противоречивая спекулятивная конструкция, в которой «ужасы» действительности уравновешивались признанием их разумной необходимости: страдание, по Шестову, благотворно, поскольку возводит страдающего на высшую ступень самосознания и духовной организации, что и дает ему возможность постичь подобную сверхразумную «целесообразность» мира. Противоречивость и неудовлетворительность этой конструкции была осознана Шестовым уже при завершении второй книги, что и вызвало поворот в развитии его мысли: трагизм человеческой жизни абсолютизируется философом – объявляется неустранимым («неизбывным»), но в таком случае именно этот вывод и должен лечь в основу новой «картины мира». Прежнее же – рационалистическое по своей природе – мировоззрение человечества должно быть отвергнуто – как игнорирующее трагическую проблематику и потому несоответствующее реальной действительности. Эту трагическую онтологию Шестов практически обосновал в книге «Достоевский и Нитше» [44]44
См.: Шестов Л. Достоевский и Нитше (Философия трагедии). СПб., 1903 (первоначально книга была опубликована по частям в петербургском журнале «Мир искусства» в конце 1902 г.).
[Закрыть], усмотрев адекватную для ее выражения форму в «философии» «человека из подполья», «подпольного парадоксалиста» (и в произвольно сближаемых с нею идеологиях других «бунтарей» Достоевского). Шестов создает здесь своего рода апофеоз «подполья», апофеоз положения человека в ситуации «бездны на краю» (той, что позднее будет именоваться «экстремальной ситуацией»): именно «подполье» (экстремальная ситуация) направляет глаза человека на проблему трагизма жизни, именно «подполье» удостоверяет в его (трагизма) «неизбывности», но опять-таки оно же – вопреки всем доводам ratio – вдохновляет «человека подполья» на заведомо бесперспективные, но от этого ничуть не менее интенсивные («исступленные») поиски некоего чудесного, сверхразумного выхода из ситуации «подполья», преодоления трагизма. Шестов декларирует при этом, что человек «подпольного сознания» скорее предпочтет «расколотить» в поисках этого «выхода» голову о «стену» объективных (рациональных) законов действительности, нежели смирится с безвыходностью своего положения.
В «Апофеозе беспочвенности» [45]45
См.: Шестов Л. Апофеоз беспочвенности (Опыт адогматического мышления). СПб., 1905.
[Закрыть](1905) с этих позиций подвергся радикальному пересмотру и отрицанию почти весь существующий набор общезначимых гуманистических ценностей Одновременно дальнейшая разработка трагической проблематики провозглашалась здесь философом единственным генератором и регулятором всех его будущих построений [46]46
Подробнее об этом и о дальнейшей эволюции Шестова в дореволюционные годы см.: Данилевский А. А. А. М. Ремизов и Лев Шестов (Статья первая) // Пути развития русской литературы / /Учен. зап. Тарт. ун-та. Тарту, 1990. Вып. 883. С. 142–151.
[Закрыть].
Вслед за Шестовым и их общим кумиром Достоевским Ремизов пришел к проблеме осмысления человеческих страданий и вслед за ними же и по их стопам сделал вывод о благотворности страданий для человека [47]47
«Шестов и Ремизов, оба под сильнейшим влиянием Достоевского, согласно утверждают (Шестов только в своей первой книге, Ремизов всю жизнь), что человеку предназначено страдание для „очеловечения“ его. Тема эта превращается в сюжеты произведений Ремизова: в Пруде Николай изменяет, страдает и убивает, умирает как страдающая личность в мире страданий „сам собою“ <…>» (Очадликова М. Причудливый мир Алексея Ремизова // Predna Sky ve XIII. behu letni Skoly slovanskych studii v roce 1969: Kolektiv. Praha, [1969]. S. 247).
[Закрыть]. Экспликации, наглядному обоснованию, этого вывода, сохранившего свою актуальность для сознания Ремизова на протяжении буквально всей его жизни [48]48
Так, например, в 1936 году Ремизов писал: «<…> „страдание“, по Достоевскому, может быть, единственное оправдание, единственный свет жизни человеческой безобразной, бессмысленной, складывающейся нелепо в самой сути жизни, благодаря каким-то „ошибкам“ там – за которые человек никак не ответствен, а жить-то надо как-то, <…>не начинать же сызнова историю, начавшуюся гориллой, человеку, страданием достигшему сознания я есмь и тем самым переступившему „человека“ с его „болью“ и „страхом“» (Встречи. С. 131).
[Закрыть], писатель и подчиняет сюжетно-образную структуру первых двух печатных вариантов своего «Пруда». Говоря об этом, следует отметить еще одну важную особенность романа. В 1926 году Ремизов не преминул подчеркнуть: «„Пруд“ – автобиографичен, но не автобиография» [49]49
В этом плане весьма примечательным оказывается сообщение Ремизова об использовании в романе элементов поэтики античной трагедии (см.: Ремизов А. М. Неизданный «Мерлог». С. 227).
[Закрыть]. И действительно: при сопоставлении реальных фактов биографии писателя с их художественным преломлением в романе (см. Комментарий) становятся вполне очевидными, во-первых, существенный «зазор» между ними, и, во-вторых, – последовательная авторская тенденция возможно более «трагедизировать» свое прошлое, «трагедизировав» таким образом и жизненную реальность в целом. То есть, используя и творчески преображая собственные «былое и думы», Ремизов и их тем самым ставит на службу своему общему замыслу. Понятно, что и в этом случае примером ему служит все тот же Лев Шестов, сам как личность вовлеченный в процесс своего философствования.
В «Пруде» 1907 года представлена масштабная и многоплановая эстетическая модель России 1800-х – 1900-х гг., выступающей в истолковании Ремизова неким средоточием вселенского противоборства Бога и Дьявола, разрешающегося в судьбах, помыслах и поступках множества персонажей романа [50]50
В этой связи см. отзыв о «Пруде» 1905 г. Н. О. Лосского в Комментарии к наст, изд., с. 530, а также: Shane. Alex М. Remizov's Prud: From Symbolism to Nee-Realism // California Slavic Studies. 1971. Vol. VI. P. 75–76.
[Закрыть]. Модель эта строится на основе взаимодействия двух принципиально различных способов повествования: натуралистически-описательного и условно-метафорического (символического) – интерпретирующего. Посредством первого создается детализированная картина жизни и быта той поры, – в существе своем антигуманных, изобилующих социальными и политическими конфликтами и чреватых всесокрушающими общественными потрясениями. Посредством второго изображаемое переводится в условно-метафорическую плоскость: жизненная эмпирия возводится к обусловившим его метафизическим абсолютам.
Организующими полюсами сюжетного развития в романе выступают фигуры именитого промышленника Алексея Огорелышева и «Андрониевского старца» о. Глеба. На уровне бытовых отношений, уровне эмпирической реальности они четко противопоставлены друг другу как репрезентанты двух различных типов мироотношения и жизнедеятельности: как прагматичный и в прагматичности своей жестокий к людям деятель-практик, все помыслы и время которого заняты устроением посюстороннего, земного, «дольнего», – и как кроткий и отзывчивый к страданиям «ближнего» «праведник», взор которого постоянно обращен к «потустороннему», вечному, – «горнему».
Противопоставленность распространена и на жизненные судьбы Огорелышева и старца, – они построены по приципу инверсии: Глеб начинает с преступления и «бунта» и приходит к праведности и почти святости – Алексей начинает благими помыслами о всеобщем земном устроении и погибает в атмосфере ненависти со стороны великого множества им униженных и оскорбленных и от руки одного из них.
Символический план повествования еще более усугубляет это противопоставление: Огорелышев контрастирует со старцем как репрезентант инфернального начала (на это указывают неоднократные упоминания о зеленом свете горящей в кабинете Алексея лампы, соотносящие его тем самым с наиболее устойчивым цветовым атрибутом Дьявола [51]51
В этой связи см., например, распространенное доныне словосочетание «зеленый Змий», а также изображение прельстительного своей красотой монаха в зеленой рясе в предсмертном видении Вареньки Огорелышевои (соблазнившего ее на не прощаемый церковью грех – самоубийство, да еще на Пасху!) и описание занавеса в театральной постановке Финогеновых: смеющийся черт на зеленом фоне.
[Закрыть], его скрытая под показной религиозностью неприязнь к церкви и церковной обрядности и, наконец, его прозвище среди его собственных фабричных Антихрист) с репрезентантом начала сакрального, с «земным небожителем», подобно Христу изгоняющим бесов из бесноватых и подобно пророку Магомету и «князю Христу» Мышкину [52]52
«Князь Христос» – так Мышкин назван Достоевским в черновиках романа «Идиот».
[Закрыть]страдающим эпилепсией (см. также сцену, в которой ремизов-ский старец проецируется на старца Зосиму из «Братьев Карамазовых», – этого, по определению Мережковского, «предтечу Христа» [53]53
Мережковский 14. С. 190.
[Закрыть]).
Столь противоположные и как бы взаимоисключающие друг друга, они тем не менее образуют некое сверхразумное антиномическое единство, пару, неразрывную настолько, что смерть одного из них оказывается одновременно кануном смерти другого.
В художественном пространстве между этими двумя антиподами, – под присмотром окон белого особняка и оконца белой монастырской башенки, в перекрещении льющегося из них далеко за полночь зеленого света настольной лампы и красного огонька лампады, – в попеременном тяготении к одному из них и отталкивании от другого разворачиваются судьбы большинства персонажей романа и прежде всего – его главных героев, братьев Финогеновых – «огорелышевцев». Самые старший и младший из них образуют другую – типологически и функционально сходную с первой – антиномическую пару в романе: связанные отношениями родства и особой душевной близостью, Александр и Николай в то же время принципиально различаются характерами, путеводными нравственными ориентирами и самыми своими жизненными судьбами. Александр, начав с поклонения и подражания старцу, проделал затем эволюцию от богоборца (с параллельной проекцией его в этот момент на наиболее радикального и последовательного из «бунтарей»-атеистов Достоевского – Ивана Карамазова) и бунтаря-экстремиста – до расчетливого дельца, превзошедшего своего дядю-«Антихриста» энергией, жестокостью и циничной неразборчивостью в средствах достижения своих корыстных целей, до радости по поводу его (дяди) насильственной смерти и до предательства «иудиным поцелуем» некогда самого любимого из братьев. И напротив: Николай проделал жизненный путь, существенно напоминающий судьбу о. Глеба и, по всей видимости, подобно ему же должен в конечном итоге приблизиться к праведности и святости.
Подобного рода репродуктивность антиномических пар, конечно, не случайна. Она – как лишь одно из проявлений и следствий – призвана демонстрировать абсолютную (метафизическую) антиномичность мирового универсума в целом. Именно это тотальное смешение, переплетение и взаимообусловленность сакрального и инфернального, «Добра» и «Зла» и является, по мнению Ремизова, источником и причиной всевозможных «ужасов» действительности и людских физических и нравственных страданий.
Совершенно очевидна связь данного миропонимания с представлениями гностиков, увлечение которыми Ремизов впервые пережил еще в юношеском возрасте [54]54
См. об этом: Иверень. С. 25.
[Закрыть]и которое сохранил затем на всю жизнь [55]55
В этой связи см., например, дневниковую запись Ремизова от 19 марта 1957 года: «И неужто мир Божье творение? И не правы ли гностики: мир в котором живет существо – творение не Бога, а Сатаны. А отречение – единственный
путь к Богу» (Цит. по: Кодрянская. С. 318)
[Закрыть], подпитывая его элементами гностицизма в зороастризме, усвоенном через посредничество «философии жизни» Ницше [56]56
О бурном увлечении Ремизова философией Ницше см., например, в его автобиографии 1912 г. в ст.: Грачева А. М. Революционер Алексей Ремизов: миф и реальность // Лица: Биографический альманах. Вып. 3. СПб., 1993. С. 440 (Приложения).
[Закрыть], в идеях и писаниях В. В. Розанова [57]57
Об отголосках гностицизма у Розанова см.: Варшавский В. С. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 294, 297.0 взаимоотношениях Ремизова с В. В. Розановым и о влиянии последнего на ремизовское творчество см.: Данилевский А. А. Герой А. М. Ремизова и его прототип // Актуальные проблемы теории и истории русской литературы. Учен. зап. Тарт. ун-та. Тарту, 1987. Вып. 748. С. 150–152: Данилевский А. А. Из комментариев к «Кук-хе» А. М. Ремизова // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia III: Проблемы русской литературы и культуры / Под ред. Л. Бюклинг и П. Песонена. Helsinki, 1992. С. 99–100 (Slavica Helsingiensia II).
[Закрыть]и т. д. В эстетической «модели мира», явленной в «Пруде» 1907 года, отражены и гностические представления о мире как греховной материи, порожденной Демиургом (особым творческим началом, лишенным божественной полноты и совершенства) и изначально противостоящей эманациям непознаваемого в своей сущности божественного первоначала, и представления гностиков об обитателе греховного мира, – человеке и о стоящей перед его духом задаче – преодолении уз материального мира через аскезу и духовное познание (образ о. Глеба). Но, разумеется, отражаются они подспудно (имплицитно) и опосредованно – языком искусства и в соответствии с законами эстетического творчества. Достигается это посредством актуализации в романе темы «богооставленности мира». Пребывание мира земной эмпирии под властью Демиурга-Дьявола, истинного «князя мира сего», особенно наглядно иллюстрируют страницы, изображающие жизнь монастырей: «божьи люди» сквернословят, пьянствуют и распутничают в своих «божьих домах», служат в них не Богу, а Мамоне. Однако в то же время Ремизов представляет дело так, будто в сознании человечества продолжает жить иллюзия Божьей власти над миром. Поддерживается и стимулируется она Сатаной, заинтересованным в сохранении подобной фикции, – для того, чтобы под сенью ее авторитета нейтрализовать благотворные инерцию «божественного первотолчка» и воздействие божественных эманации, исподволь осуществляя тем самым дискредитацию всего сакрального и его полное искоренение. Особенно показательна в этом отношении интерпретация в романе новозаветной истории: декларированное в Евангелии воскресение Богочеловека, посланного в материальный мир для искупления его греховности крестными муками, представлено здесь фикцией. Реальными оказываются лишь крестные муки Христа, и не случайно «христоподобные» о. Глеб и Николай Финогенов соотносятся со своим прообразом именно по этому признаку: исторический процесс предстает в истолковании Ремизова как беспрерывное с незначительными вариациями в каждом конкретном случае) репродуцированием Голгофы, где «распинаютися» жизнью наиболее отзывчивые к чужому горю, наиболее сострадающие людским страданиям.
С другой стороны, Дьявол-Демиург – «обезьяна Бога», его вечный антагонист-завистник, обреченный, однако, на вечное же копирование источника и причины своего бытия, на имитацию его деянии, но такую, в результате которой имитируемое предстает в сниженном, «опошленном» (Мережковский) обличье (эффект, аналогичный эффекту пародии). Главным объектом сатанинского пародирования остается все тот же Христос, точнее – божественный «промысел» искупительной миссии Христа. Ему Дьяволом противополагается его собственный замысел: Спасителя должно заменить внешне скроенное по его подобию «сатанинское отродье» – пародия на Христа, Антихрист, дабы таким образом усиливать под сакральным обличьем сатанинское начало в мире. И весьма знаменательно в этом смысле, что Пасха, по Священному писанию, – момент «посрамления» добрым началом начала злого, оборачивается в «Пруде» моментом высшего торжества Дьявола: именно на дни Пасхи приходятся наиболее трагические события в романе. Знаменательно и то, что показная религиозность Огорелышева-«Антихриста» – лишь личина, призванная скрывать его полное безразличие к страданиям окружающих.
Такое состояние материального мира «князь мира сего» поддерживает и упрочивает посредством навязанных ему жестких форм существования. Одной из таких сатанинских форм оказывается, по Ремизову, социальное расслоение общества. Другой – биологическая наследственность: не случайно жестокие деяния юных Финогеновых-«огорелышевцев» представлены как следствие их родовой принадлежности.
Подмена божеского сатанинским, «дурной синтез» того и другого и прочие «наваждения» Дьявола приводят к повышенной хаотичности бытия (в этой связи нельзя не вспомнить утверждение апостола из «Послания к римлянам»: «Что от Бога, то упорядочено»), к морально-этической дезориентации людей, к утрате ими способности различать Добро и Зло (в этом плане вновь показательна жизнедеятельность «огорелышевцев», предстающая как цепь деяний, то отталкивающих своей прямо-таки звериной жестокостью, то, напротив, привлекающих вызвавшими их подлинно гуманными чувствами). В этих условиях самореализация отдельной личности в пределах отпущенной ей жизни оказывается в прямой зависимости от волеизбрания человеком своего нравственного ориентира, от активности и сознательности этого выбора.
Выбор ориентации на земное, посюстороннее, «дольнее» – активен и сознателен (таковы судьбы Алексея Огорелышева-«Антихриста» и Александра Финогенова). Путь же ориентации на прокламируемое в Библии потустороннее, «горнее» человек выбирает не по своей воле, а понуждаемый к тому стечением обстоятельств – «роковых случайностей», толкающих его на преступление, вынуждающих «перейти через кровь», дабы в такой форме выказать свой «бунт» против антигуманности «божьего» мира. Заявленное в такой форме несогласие человека с существующим мироустройством оборачивается непременным условием его последующего уподобления Христу (о. Глеб, перспективно нацеленный на это Николай). Тем самым «роковая случайность» оказывается санкционированной свыше, а сам «бунт» сакрализуется – получает потустороннее оправдание. Бог «облегчает» таким образом избрание человеком ориентации на «горнее», духовное, предоставляет ему возможность уподобиться Христу. Но окончательный выбор должен сделать все же сам человек. Принявший на себя ответственность за содеянное им против собственной воли преступление, усмотревший в этом несчастье, в этой «божьей каре» благо для себя, поднимается на высшую ступень духовной организации (согласно представлениям гностиков, построениям Льва Шестова): чувство вины за невольно содеянное зло понуждает человека принять на себя ответственность за в с е зло человеческого бытия и вызывает ответное стремление искупить это зло ценой собственных страданий (таковы просветления Николая в тюрьме). Покорно вынесшим эту «крестную ношу», прошедшим «через великое страдание» и благословившим свою судьбу открывается истинное знание о мире. Таким знанием обладает повторивший путь Христа о. Глеб, перспектива обретения подобного знания открывается перед Николаем. Такая же перспектива открывалась в свое время и перед Александром Финогеновым… Подобного рода перспектива и есть, собственно, то, чем надеялся увлечь своих читателей Ремизов, затевая свою утопическую попытку «спасения» мира. Объективно же «Пруд» 1907 года явился эстетической декларацией декадентски-бунтарского мировосприятия Ремизова 1900-х годов и его рефлексией на него [58]58
В этой связи см. фразу из письма Ремизова Ф. Ф. Фидлеру от 9 января 1906 года: «Ношу кличку декадента и не жалуюсь» (РГАЛИ. Ф. 2571. Оп. 1. Ед. хр. 309. Л. 1).
[Закрыть].








