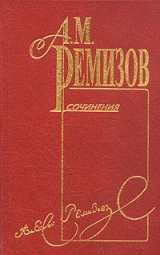
Текст книги "Том 1. Пруд"
Автор книги: Алексей Ремизов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
Латник
На праздниках в тюрьме бывает особенно тоскливо.
Тоскливо проходили Святки. Николай места не находил себе, вся душа изнывала.
Пользуясь праздничной сонливостью надзирателей, он взбирался на стол, отворял форточку на мороз и так простаивал у окна, глядя на волю. И должно быть, простудился: нет-нет да и принималось трясти его, а ночью нападало мучительное полузабытье.
В полузабытьи мерещились ему всякие страхи: наполнялась камера маленькими насекомыми, юркими, как муравьи, заползали эти муравьи за шею, вползали в рукава, впивались, точили тело, растаскивали тело по мельчайшим кусочкам. Уж, казалось, все было изгрызано и съедено, оставался от него всего один голый скелет, и чувствовал он, как ссыхались и сжимались кости и давили на сердце. Делал он страшные усилия, тряс головой и на минуту пробуждался, но только на минуту, – снова из каких-то совсем незаметных щелей и трещин, сначала в одиночку, потом целыми стаями, выползали эти проклятые муравьи.
Тоскливо проходили Святки и мучительно.
В Крещенский сочельник в положенный час повели Николая на прогулку, как водили однажды всякий день.
Камеры расположены были полукругом ярусами. Николай сидел на самом верхнем ярусе и до последних ступеней лестницы провожали его одноглазые камеры. В некоторых камерах засветили лампочки, и мутный свет отбрасывал через матовые волчки черные живые тени на решетку коридора: перегибаясь через решетку, живые, тени эти словно хотели спрыгнуть в нижний ярус.
Как на аркане, ходил Николай по кругу на тюремном дворе.
Заходило солнце, золотисто-инеевой крещенский вечер рассыпал по небу холодные красные искры и валили со всех концов алые клубы зимнего дыма.
Зудящее жужжанье телеграфных проволок, уханье ухабов, скрип и скат полозьев, – все это мчалось куда-то, оглашая своим грохотом.
Как пьяный, ходил Николай по кругу на тюремном дворе.
И когда снова сунули его в камеру, захлопнулась дверь, щелкнул замок, стены глянули на него чугунными плитами склепа, и нечем дышать ему стало. А блеснувшая мысль, что это болезнь какая-то, и вот берет его и ему не совладать с ней, отточила все его чувства.
В один миг ожили все его воспоминания, прошла вся его жизнь, а сердце будто подо льдом горело: и стыло и раскалялось.
Хлопнула форточка двери.
– Сто двадцатый, – сказал дежурный и голос его про звучал будто из страшной дали.
– Сто двадцать первый! – ответил другой голос резко.
Вошел в камеру надзиратель, отпер кровать и Николай, не раздеваясь, повалился, и, кутаясь в одеяло, все не мог согреться. Мысли спутанно шли и хотел он что-то припомнить, зацепиться за что-то, чтобы остановить мысли и успокоиться. Трясло его немилосердно. И было такое ощущение, будто на горячих помочах тянут его куда-то глубоко на дно погреба. И слышал он, как что-то стучало и ходило везде: в висках стучало, в груди стучало, за окном стучало и за стеною, а в глазах мелькали огненные топорики и молоточки, – это они, должно быть, и постукивали. Трясло его немилосердно.
И вдруг резко, словно над ухом, прозвенел в коридоре звонок. Кто-то шарахнулся от двери, шмыгнул по коридору. Где-то щелкнул замок, а за ним другой. И опять стало тихо.
Николай сдернул одеяло и к двери, насторожился.
– Повесили! – шепнул ему кто-то из коридора.
– Кого? – шепотом спросил Николай.
Но ответа ему не было, и хлынула на сердце смертельная тоска.
– Повесили! – крикнул Николай и, схватив табуретку, грохнул табуреткой в лампу.
И звякнула, задребезжала под потолком лампа. Хлынула тьма кромешная.
Скорчившись, с затаенным дыханием слышал Николай, как где-то далеко в коридоре, словно в ответ ему, прозвонил один звонок, и другой, и третий. И опять стало тихо, и тихо и черно.
И вот из черноты из угла выделился блестящий латник. Медленно и упорно подвигался латник к Николаю, и, не дойдя шагу от него, остановился. Латник стоял перед ним с суровым, ужасно знакомым лицом.
Измученными глазами, вытягивая всю душу, латник в упор смотрел на Николая.
И Николай смотрел на латника, не мог оторваться от его ужасно знакомого лица.
Минуту казалось ему, он уж понял что-то, разгадал что-то, узнал его, латника в блестящих медных латах и медном шлеме.
Зашевелился латник, сделал еще один шаг, еще один шаг, и медные латы сдавили сердце и с сдавленным сердцем Николай упал у кровати на асфальтовый пол.
Лежа на полу, забыл он и о том, что повесили кого-то, и о латнике, ему чудилось, вскарабкался он будто на стол, отворил форточку.
В лунной ночи ясно белела белая колокольня Боголюбова монастыря, белели башенки, а за монастырем лежал пустырь-огороды, а за пустырем белый пруд. Над прудом, будто поднятые вверх черные руки, торчали обрубленные ветелы и никли кустарники в белом серебре. У плотика чернела прорубь, а красный финогеновский флигель был весь в снегу, и сквозь запорошенное окно детской мерцала лампадка.
Выломал он будто решетку, вылез из камеры и стал спускаться по карнизу.
Месяц так близко – месяц такой большой.
Смотрит он на месяц, скользит по карнизу: обрываются руки, выскакивают камни, шелушится штукатурка – вот сорвется!
Уж за сто двадцатый карниз зацепился, а конца краю не видно, и месяц все ближе.
«Да ты вверх лезешь!» – шепнул ему кто-то, как тогда под дверью.
И в самом деле: от Боголюбовской колокольни мелькала лишь белая точка, а пруда и вовсе не было.
И вдруг оборвались руки и, скользнув по воздуху, Николай пальцами впился в кирпичи и на страшной высоте с захолонувшим сердцем повис…
И не бред, это вправду: в Крещенскую ночь в новой тюрьме у заставы на тюремном дворе повесили преступника.
Был час рассвета. И рассвет был лунен, как лунной стала ночь.
Обделав свое дело, пьяный храпел палач в крысьем, без окон, темном карцере.
Из-под подушки красный новенький кафтан его торчал ухом: проиграл палач кафтан, а чуть свет в дорогу опять, и не дадут отыграться.
Вышла из-под пола голодная крыса, оскалила чутко желтые зубы.
Разметался палач, растопырил немытые сальные пальцы.
Снилась ему старуха-мать, с котомкой по полю шла, а он будто, палач Васька Коньков, совсем крохотный, Васька бежит за старухой, хочет за подол схватиться, да ножонками не поспеет, и покликать не может, голос пропал. Потом скрылась мать, остался он один среди поля и стоит он среди поля, как следует, Васька Коньков, на нем красный новенький кафтан. И взял его страх: нарядили его в красный кафтан палача, чтобы живьем в могилу зарыть…
А на тюремном дворе, где совершилась казнь, неразобранный помост с виселицей к земле пристывал. Большой фонарь на помосте коптел.
От фонаря росла черная тень. И другая черная тень находила на тень фонаря, пропадала к воротам.
Месяц, как голый череп, над головой стоял.
Часовой Яшков на помост поднять глаз не смел: лезли мысли жуткие, жалостные, казалось, и смены не будет.
Вспоминалось Яшкову, как надели на преступника саван и трудно ему было в саване идти до петли: ноги путаются.
«Я, говорит, ничего не вижу!»
А Васька Коньков кричит: «Пожалуйте!» «Да я, говорит, идти не могу!»
– Царица небесная! – шепчет Яшков, все слышит голос из-под савана, – Царица небесная, дьяволы мы проклятые, все мы его повесили!
А в сводчатой тюремной мертвецкой коченел теплый труп повешенного преступника. Промерзшие седые доски под ним таяли. Кто-то в подполье острым зубом мертвецкую стену точил. И от того звука в тишине волос дыбом вставал. От того звука непокорное сердце, как нож, заострялось в груди. От того звука с тоски места не стало.
Месяц, как голый череп, над головой стоял.
И конца ночи не было.
И люди понуро спали и спросонья слипшимися губами бормотали молитвы, просили у Бога, чтобы посытнее жить и одиноким не остаться, чтобы всего было вволю.
А там, на небесах, устремляя к Престолу взор, полный слез, Матерь Божия сокрушалась и просила Сына:
– Прости им!
А там, на небесах, была великая тьма.
– Прости им!
А там, на небесах, как некогда в девятый покинутый час, висел Он, распятый, с поникшей главою в терновом венце.
– Простоим!
Глава восьмаяПожар
В городе шла жизнь своим чередом.
Людям недоставало времени всех своих дел переделать, а дела были все ненужные и неважные, весь смысл которых держался одной минутой.
Все хотели сделать что-то такое, чтобы раз навсегда успокоиться, но пути к своему покою не знали и метались из стороны в сторону, хватаясь то за одно, то за другое. И, кончая одно, видели ничтожность сделанного и начинали другое, а чаще толклись на месте, переворачивая и подправляя одно и то же всю жизнь.
Все, чего хотелось, не исполнялось, а если и приходило, то совсем невзначай, и чаще приходило то, от чего обеими руками открещивались.
Завтрашнего дня не знали.
Казалось, кто-то скрытно изготовлял его, этот завтрашний день, да в потемках и подкидывал его на улицу, а люди поутру от неожиданности, встречая то, что совсем не предполагали встретить, только рты разевали и начинали жизнь по скрытой указке, нелепо, на горе себе.
Сил тратилось пропасть. И всякий по-разному: одни работали, потому что голод этого требовал, работали до одури, а толку не было – голодали по-прежнему и тупели; другие сытые просто излишествовали – обжирались и опивались, празднословили и праздношатались, выдумывали себе заботы и хлопоты, а толку не было, – удовлетворения не испытывали и, обессилев, тупели.
С утра до ночи улицы кишели людом. Сновал всяк туда и сюда за своим делом.
Лица были озабоченные, искаженные, напускные, редко кто улыбался и смеялся, как следует, а больше и улыбались и смеялись деланно, скверно и отвратительно.
Заповеди топтались и средь бела дня и ночью, под призором стен и под открытым небом: насиловали, убивали, грабили, обманывали, растлевали, клеветали.
По мелочам все уж преступили, и преступать нечего было, тайком все нарушили, и пробовать нечего было.
Заповеди и законы стояли чем-то навязчиво-приличным, жизнь же катила своим путем как-то беспастушно и беззаконно.
И, когда разгорались страсти и когда скрыто кипели вожделения, какими смехотворными представлялись все одинокие пожелания и благие россказни обновителей и устроителей скученной своры, имя которой – человеки.
Издалека, из-за стен, окружавших город, доносился голос мудреца и учителя.
Взывал мудрец и учитель.
– Остановитесь! Не делайте!
Но вся городская толкучка по-старому толклась и бежала, подергивая своими маленькими хитрыми ушами, с заплаканным сердцем.
Как остановиться, как не делать? Не остановиться, а мчаться, сломя голову, чтобы жить, иначе разойдутся все дороги, и пути не станет, время станет, смерть пожрет, а смерти не надо!
Куда гнала людей страшная, беспощадная рука, зачем так больно била и мучила и так обидно мало давала ласки, кто знал, кто узнает! А тут дети ручонками вцепились в тебя, кричат от голода: «Папа! Папа!» И у соседа тоже дети такие же, и у того, кто помыкает и кровь твою пьет, и у того, кто его кровь пьет, «Господи, только бы день хорошо прошел, да завтра утром проснуться!» А для чего проснуться? Всюду вонь, нечистота, помои, нагая гниль, гниль разукрашенная, и так обидно мало тихих светлых минут, тихих светлых уголков. Остановиться, не делать? – Да ведь это возможно только там и тогда, когда дух твой говорит тебе, что пришло время остановиться и не делать, и страх смерти ушел от тебя, и вся жалость к детям твоим, к дому твоему – их голос, их жалоба стали невнятны.
И вот люди насыщались, чтобы зажаждать еще большей сытости, рожали, чтобы убивать, и убивали, чтобы плодиться.
Казалось, наконец, распояшутся, сбросят с плеч лохмотья и побрякушки, бросятся друг на друга, и закипит свалка, и с перегрызенным горлом и с распоротым животом повалится тело на тело.
Лицемерие подтачивало всякую веру, и напускная святость глаза отводила, чтобы убить веру. И по-другому жизнь идти не могла. Или и вправду нечистый был всюду первым коноводом, как шептали люди простые, немудреные, веровавшие в бесовское повиновение.
По-прежнему Огорелышевский дом стоял такой белый, как сахар, а согретый снежной зимой палисадник перед домом зацвел весной душистыми и красными цветами.
Игнатий Николаевич с головой ушел в благотворительность. Нищих по воскресным дням толпилось около огорелышевских ворот видимо-невидимо. Нищим подавалась медь, и душа пребывала покойной.
Управление фабрикой перешло Семену Арсеньевичу, который еще утонченнее перетасовал дедовский уклад с заморским: фабричных не пороли, как при деде Николае Огорелышеве, но шкуру драли не хуже прежнего, только все чисто и гладко – комар носу не подточит.
Сам же, Арсений Огорелышев, как ни старел, а ухо востро держал, во всякую безделицу встревался и, кажется, ни один волос не падал без его воли и ведома.
Александр Финогенов при Арсении быстро шел в гору. За год вошел к нему в полное доверие, без Александра, кажется, ничего не делалось, ничего не предпринималось, как скажет, так тому и быть, а говорил Александр дельно.
Конечно, по городу не замечали, как Финогенов скрутил Огорелышева, а если и замечали, то заикнуться не смели. И Арсений не говорил себе об этом, боялся: ведь это конец его, смерть. А умирать ему не хотелось. Как ему умирать, когда столько еще надо дел начатых окончить и столько всего задумано, ввек не переделаешь.
Придирался Арсений к Александру, изводил, мучил в свои злые нетерпеливые минуты. С каждым днем чувствовал он, как крепкая ладонь Александра давит ему череп, погружает его куда-то, уж загнала по самую шею, – заливает уши…
А тому словно только этого и надо.
«Давить надо человека, чтобы человеком владеть, иначе, не ровен час, этот самый человек, ближний твой, на плечи тебе вскочит!» – так Алексадр Николаю сказал в тюрьме на свидании.
Будничный зеленый огонек теперь до рассвета светился в кабинете Арсения, мигал своим дьявольским глазом, прорезая темь двора.
А на дворе Трезор и Полкан метались на рыкале, лаяли, и выло в ответ им бессонное эхо и кто-то илистой лапой обваливал берега пруда, затягивал тиною дно.
Только вот с прудом и творилось неладное – так по двору думали, – а то все было по-старому, на своем месте.
Стоял красный финогеновский флигель, как стоял, будто кто и жил в нем, только двери были заколочены.
Пришибленно и придавленно шла жизнь на огорелышевском дворе, но как-то стройно по заведению. Одно смущало: на Пасху в ночь сторож, Иван Данилов, своим единственным неокривевшим глазом видел, как барышня Варенька будто стоит на террасе и головой кивает вроде Сёмы-юродивого, и, видев все это, он с перепугу доску выронил и коленку себе отшиб.
Беды ждали.
И напасть пришла,
На Николу в сумерки, когда, по огорелышевскому расписанию, фабричные должны были уж спать, вспыхнули битком набитые фабричные корпуса – спальни, вспыхнули с какой-то неистовой силой: задуванило со всех концов.
Кто не поспел выскочить – и был таков. Детей одних погорело – тьма-тьмущая.
Когда подоспел Александр, только головни пылали, да чадили пережаренные человечьи трупы.
Красный флигель стоял весь обуглившийся, с пробитыми окнами, не красный, черный.
Вовремя Александр не мог приехать: в этот вечер дали ему свидание с Николаем, – Николая отправили по этапу в ссылку.
Приехал Александр такой спокойный и важный, и долго сидел, запершись в кабинете с Арсением, потом с каким-то остервенением выскочил во двор и, прорезая толпу не хуже самого Огорелышева, прилетел на пожарище. Лицо его было синее от злости, тряслись челюсти, кричал, чтобы головни растаскивали, чтобы все в пруд валили.
И, когда оторопевшие фабричные и пожарные бросились исполнять приказание, вспыхнули дрова и деревья.
Насилу огонь уняли.
А он прошел во флигель и стоял на террасе и смотрел куда-то далеко, и, красный от зарева и пламени, улыбался каменной огорелышевской улыбкой. Как улыбался!
Глава девятаяСерый огонь
Было уже к ночи, когда Александр вернулся к себе. Александр жил за Чугунолитейным заводом у Покрова, занимал он дорогую квартиру, для одного слишком просторную.
Спать Александр не мог, ходил по комнатам. На лице его не было каменной улыбки, и стал он каким-то прежним, немного лукавым и милым, и острота глаз притупилась, и были глаза грустные. Он не думал ни о доме, ни о пожаре, ни о Арсении, ни о той постоянной деловой тревоге своей, которая не давала ему покоя и гнула, и гнала, и одарила большой властью, и открыла вперед дорогу к еще большей власти.
Ему вспомнился Николай, свидание с Николаем. Кажется, весь последний год он только и думал о нем, ему слышался его голос той измученной кротости, которая хватает за душу и заставляет вспомнить позабытое, создавать небывалое, как музыка.
Он вспомнил и Петра, и Евгения, и Алексея Алексеевича, вспомнил ночные стояния наверху, мать-пустыню и на минуту горьким чувством захватило сердце, и снова окаменело лицо.
Александр ни в чем не укорял себя, нет, он твердо знал, прошлое кончилось и путь один был. Надо строить жизнь, как устроил жизнь Арсений, надо владеть людьми, как владел людьми Арсений, быть господином на земле, смирять, а не смиряться.
Вдруг Александр вздрогнул и застыл, ровно в страшном испуге.
С портрета глядела Таня: она стояла, крепко сомкнув опущенные руки, венец развевающихся русых волос наклоненной головы полураскрывал лицо ее, и улыбались губы, губя и страдая, и звали притуманенные темные глаза, пели песню, песню песней – «Приди ко мне!»
На стук очнулся Александр. Прасковья-нянька, приютившаяся у Александра, стучала в дверь.
– Батюшка, Александр Елисеевич, а Колюшке чулочки-то и забыли, – шамкала Прасковья тупо-горько сжатыми губами, вспомнив, что не передал Александр чулки Николаю.
– Кланяться тебе велел, – почти закричал Александр, – Прасковье, говорит, кланяйся, слышишь!
– Кто ж его знает, девушка, напущено видно. Спите, батюшка, Христос с вами.
Ушла Прасковья и опять поднялось перед ним прежнее, ночные стояния наверху, мать-пустыня, и опять Таня. Таня уж не стояла перед ним, Таня плыла перед ним и, притупив глаза, манила вослед за собой и сгибала его, трясла лихорадкой. Он тянулся за ней, он вдыхал ее, как полевой цветок.
– Таня… Таня… Таня! – шептал Александр и чувствовал ее всеми чувствами и вдыхал, как полевой цветок: запах раскрывал свое первородное, что приковывает к себе бесконечно дорогим забытым и вновь восставшим.
И с болью рвалось желание, хотелось ему нестерпимо, хотелось ужасно, тотчас же наяву видеть ее и слышать ее…
А была ночь. Темная ночь своей темною грудью уж коснулась земли. Темная ночь задышала на землю, завеяла тишью спящие здания, и зоркие башни томящихся тюрем, и дворцы и монастырские кельи. И в ночи Демон один тосковал с своим демонским сердцем.
«Не услышит, не пронзится стуком сердца моего, сердце рвется, сердце стонет, не услышит!»
В оковах забот застыли люди. И ржавое звяканье отчаянных молитв скорбно ползло ненастным дымом по закопченным крышам к чугунным холодным небесам. Судьба, кому надо, уж копала могилу и готовила люльки, и золото сыпала, и золото грабила, посылала удачу, болезнь и нужду.
«Не услышит, не пронзится стуком сердца моего, оно рвется, оно стонет, не услышит!»
И шла ночь и прошла полночь. Изнемогая, в предутреннем свете неслось усталое время.
А Ему в этот час незримому одиноко на земле было и холодно. И отчего Он не может молиться родимому брату, но из царства иного? Или проклятие царство Его, Его одинокое царство. Люди, дети и звери мимо проходят – скорчась, со страхом. Раз Он кинулся голубем в волны, в речные волны – там ее встретил…
«Ты сохранила образ мой странный, мой зов в поцелуе?» – тосковал в ночи Демон с своим демонским сердцем.
Краткая встреча, и опять одинок: отшатнулось от Него ее смелое сердце, глухо плакало сердце. Так в страсти, любви к страсти, любви прикасаясь, слышит Он в долгих и редких лобзаньях холод, тоску и измену, и отравляет.
«Ты сохранила образ мой странный, мой зов в поцелуе?» – тосковал в ночи Демон с своим демонским сердцем, сердце Его разрывалось.
Алые ризы утренних зорь загорелись, стало светать, и задымился пурпур на гребнях уплывающей ночи.
«О, люди, вы прильнули устами к пескам пустынь повседневных, ищете звонких ключей в камне истлевшем, вы затаились, молчите в заботах. У меня есть песни!..»
Алые ризы утренних зорь кровью оделись, скоро солнце взойдет. Или проклятие царство Его, одинокое царство его? Словно золото облачных перьев крепким тыном заставило путь. И будет так вечно, вовеки. Так вечно, вовеки, вечно Он будет желать безответным желанием, и томиться. Власть и тоска, беспросветная, и одинокая одинокого темного сердца!
Всю ночь до утра Александр не отходил от портрета. Одна Таня заполняла весь мир для него. Он знает, что жить без нее не может, он умрет без нее. И ничего ему не надо, никакой власти, и готов он смириться, только чтобы быть с нею вместе всегда – вечно, вовеки.








