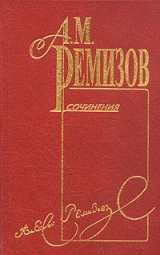
Текст книги "Том 1. Пруд"
Автор книги: Алексей Ремизов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 41 страниц)
Приснилось Коле, сидит он будто наверху, в окно смотрит.
Весь пустырь под монастырем распахан. На дальней гряде разрывает ворона черный ком. И клюв черный и перья черные, а глаза красные. Почему у вороны глаза красные?
В дверь входит девочка. Белый платочек в руках комкает. Безглазая. Хочет девочка в беленький платок душу положить.
Безглазая. И убежать бы, да ноги не слушаются. И от ужаса расщепляется сердце на мелкие щепки…
Перед кроватью стоял Саша, говорил что-то, но что, Коля разобрать не мог.
Осколки сна немо с болью таяли, и подплывала к сердцу радость, что так счастливо опасность канула.
– Вставай! вставай! в Андрониев пойдем, к обедне.
И комната в ярко-желтых лучах, льющихся золотой густотой на сонные предметы, показалась особенной, золотой, и голубой дым папиросы, увязая, цапался и, обессиленный, сдаваясь, таял.
Посередь комнаты, уткнувшись в сапог и подобрав согнутые ноги к подбородку, валялся Прометей, поскрипывая зубами.
Коле вдруг вспомнился прошедший вечер, вспомнилась пивная, в пивной драка…
Зарезало в глазах, и опять повалился.
Да ты поскорей! – заторопил Саша, и то особенное, что прозвучало в голосе брата, вывело Колю на свет Божий.
Проворно оделся, и они вышли.
Несмотря на раннее время, летне парило. Даже в низких местах как-то сразу истлел снег, а лед, до крайности напряженный лопнул, и серый слой воды поплыл по реке, и пошла река.
В Андрониеве звонили к обедне, нарядно звонили, как только звонят на пасхальной неделе.
И под этот звон утренний доносил ветер чуть внятный далекий шум и бурленье воды.
Монастырь стоял весь белый, весь в солнце, и жарко горели золотые шпицы круглых башенок.
Идти было легко; влажная теплая земля не трудила ног, а изгибалась воздушно, и хотелось попирать ее, попирать все глубже.
На откосе к реке зеленела травка тоненькая, светлая.
Вон и одуванчик! – крикнул Коля и мигом спустился вниз, сорвал цветок и так весь ушел в него, лаская, голубя и радуясь этому солнцу, земле и цветку первому.
Вдруг опять встало вчерашнее, зацепило, и отделаться не было сил.
Выронил цветок.
Шли молча.
Коля восстановлял подробность за подробностью, приближал эту мерзость к самым глазам, вдыхал ее, отвращался и опять лез на нее… но взглянуть поглубже, чтобы отойти прочь, было страшно… и путался неоплаченный счет, драка, и какие-то плевки и харкотина покрывали все.
Саша цеплялся за последнюю гнилую нить, обрывался и падал.
Одного желал, одного искал – выместить свою злобу, расплатиться с кем-то за эти ночи, от которых сердце лопалось, за то свое дело, которое совершить хотел; и для чего, для кого столько убито сил?..
Дальше нельзя, нельзя… все нити подгнили. А ждать-то как…
Нет, он непременно пойдет, скажет им всю правду, все выложит прямо в глаза, – пускай делают, как знают.
Воскресения день!
И просветимся людие
И друг друга обымем…
– вырвалось пение из раскрытых окон собора, когда, поднявшись по лестнице на монастырскую гору, вошли в ограду.
В соборе стояла давка, еле на паперть пробрались.
От свечей и ладану душно стало. Но пение и то чувство, которое жило вокруг, были такими легкими и особенными, как бывает только на пасхальной неделе.
Потолкались и вышли на кладбище.
– А помнишь, Саша, наши службы? Мы бы тогда все молебны с акафистами выстояли.
Саша горько и злобно засмеялся.
– Ты уж совсем не веришь? – спросил вдруг Коля.
– Нет, – резко ответил Саша.
Подошли к склепу, сели на ступеньки.
Красный огонек поглядывал на них сквозь матовое стекло.
– А как же Глеб?
– Игра и дешевая: и почему бы я верил? – это и у меня есть и у тех…
– Любви нет, любовь сон… Впрочем, я не то хотел, я насчет Глеба… – прервал Коля и чувствовал, как что-то мучительно-страшное подходит к его душе, что-то, чего душа еще не может сказать.
– Дан-дан! – Дара-дан-дан! дан! Дуу-доон – Дуу-до-он… – зазвонили шумно во все колокола.
Тронулся крестный ход с артосом.
Саша и Коля дошли в хвосте до башенки и, покинув процессию, стали взбираться по каменной холодной лестнице.
У самой двери Коля повернул назад.
– Я не могу, – сказал он тихо с усилием, будто останавливая другое слово, которое билось на языке и рвалось сказаться…
* * *
О. Глеб обрадовался гостю, похристосовался. Но был чем-то расстроен, или так уж изменился: губы, совсем сохлые, вздрагивали, и щеки потемнели, словно у мертвого.
Улыбался, но лежала на улыбке едкая горечь.
Пирский, послушник старца, принес чаю и пасхи.
Христос Воскресе из мертвых…
– донеслось пение в башенку, – должно быть, крестный ход возвращался обратно.
Саша сразу заговорил о себе, рассказал об экзаменах, которые хорошо кончились, об университете, с которым он расстался, и, рассказывая так, он подходил к чему-то важному для себя, для чего, собственно, и пришел к старцу, но сказать не решался.
– А чем жить будешь, Саша? – спросил о. Глеб.
Ответил не сразу:
– Надо… надо новое создать, большое и крепкое, нерушимое навек.
– Навек из крови?
Саша хотел что-то возразить и задумался.
– Не верю я в них, – сказал он глухим голосом, – потому что… – и вдруг загорячился, – понимаете, только резкое разрушение, кровавый неминуемый бич, творит мечту в человеке. А они смерти боятся, любят свою жалкую жизнь, скучную, ведь задохнуться можно… С ними не выстроить… Они этой вашей любовью прогнили. Николай говорит, «любовь – сон», хорошо, пускай будет так, но к чему она?
Если она – сон, то сон этот для тысячи грезится мутно или совсем не грезится, и люди костенеют в этой изморози, глаза у них опускаются, сонные, они кутаются, зябнут и идут шажком и топчут полегоньку друг друга – эти братья милосердия – топнет, а сам посмотрит, не больно ли… А надо подойти и… вот так! – Саша сделал такой жест, будто ножом ударил.
О. Глеб привстал с кресла. Мускулы задергались на его лице, и руки принялись ловить что-то.
– Душа-то твоя… – едва проговорил он.
– Душа! – захохотал Саша, – песчаная, выветрившаяся, туда и дорога ей, пускай останется одна, но такая… Ты возненавидь всем сердцем твоим, возненавидь крепко, и придет любовь… Не хочу я, чтобы мою душу убивали, и не отдам я моего духа, я не отдам даром! – и, страшно побледнев, застыл весь, глядя в упор на старца.
О. Глеб запечалился, губы вздрагивали.
– Вот, Саша, думаю я, во имя правды мучают, за правду мучают. А правда и там, правда и тут. Привели блудницу ко Христу, привели, потому что закон говорил, и ушла блудница непорочною… Тесно, жутко, странно жить на земле. Ты говоришь: возненавидь, и придет любовь…
– А, может быть, Христа и вовсе не было? – подсмеялся Саша.
– Ты говоришь, надо новое создать, большое и крепкое, навек нерушимое… «Иисус же ста пред игемоном: и вопроси его игемон, глаголя: ты ли еси Царь Иудейский; Иисус же рече ему: ты глаголеши». Понимаешь, Саша?.. и если не полюбишь врага, нелюбовью измучаешься… а что твой нож и твоя кровь, ты послушай меня…
– Не могу я простить, – заерзал Саша.
– Ведь враг – не весь твой враг. Подойди к нему, загляни в глаза: глаза горюют. А ненависть не зальет и не ракроет тебе этой горечи. Жгучий стыд, что вот он, родной тебе, такой вот… Нет, ты подойди к нему, загляни в глаза…
– А он захочет?.. Да он тебя ножом пырнет. Ха, ха, ха. Он с тебя шкуру будет драть, а ты с губами потянешься, ха, ха, ха…
– Я знаю, слушай, Саша, но ведь есть путь…
– Я подходил, – с горечью перебил Саша, – я подходил, руки мои протягивал, а они загорались от обиды: никто их не принял…
И, когда проговорил он эти последние слова, вдруг стало ему ясно, что говорить больше не стоит, что старец ничего не знает, а так играет в блаженного, увертывается, виляет, лжет перед ним.
– Заповедь: убий! – вот она заповедь! – он встал и твердо заходил по келье, – за зло – тысячекратным злом… да, кровь, и если я не пролью крови, так мою прольют, да не только мою…
– Согрейте сердце! согрейте сердце! – простонал старец.
Гадок, омерзителен стал для Саши этот схимник, который схимой прикрыл прогнившие глаза; и чудился запах, он шел по талье, проникал через платье в кожу и сосал сердце. И так захотелось обидеть, уничтожить этого старого лгуна, прожившего все свои силы, и хотелось крикнуть в лицо самое тяжкое оскорбление, такую какую-нибудь обиду горькую, чтобы прожгла она всю эту показную святость заклинателя бесов. И, мысленно понося и издеваясь, он злорадствовал.
– Саша! – протянул старец дрожащие руки, – Саша!
Саша стиснул зубы от горечи, а сердце, сердце готово было…
В монастыре ударили к вечерне.
Вспомнилось Саше, что к четырем он должен поспеть, чтобы всех застать и навсегда уж покончить со всякими делами. Заторопился.
Одна мысль разрывала другую и, разорванные, они вновь бросались друг на дружку, и был ад криков в его душе.
И проклинал старца, себя и весь мир; он не сказал чего хоте% и зачем пришел, зачем это все…
Не приняв благословения и не поцеловав руки, вышел из кельи.
Старец сполз с лестницы и долгим взором сердца глядел вослед ему, и губы что-то горько перебирали, – молился, и рука крестила – молился, и рука крестила неясно-дальнее, что наступало на человека.
XXIVНепонятное одиночество давило Колю: сам себе представлялся он смертью, мыкающейся посреди всеобщего воскресения.
Так кругом и небо, и люди жили.
И, силясь не глядеть, он провожал всякий крик и всякое живое существо и думал, не разбирая дум, о чем-то жутком, что вот наступит, и тогда он погибнет.
Очнулся.
Увидел грязный знакомый трехэтажный дом с черной сплошь измелованной доской на воротах, позвонил.
Вышел дворник.
Коля стоял и смотрел, удивленный, смотрел на его рыжие засаленные усы и на мелкие потные рябины.
– Вам Машку? – спросил дворник.
– Машку!.. Да, да, вызови Машку.
Дожидался. Дожидаясь, разбирал фамилии жильцов. Одна фамилия застряла в мозгу. Машинально повторял ее.
– Плямка – Плямка – Плямка…
И, повторяя, осматривался, будто внезапно разбуженный, ничего уж не понимая.
Наконец, запыхавшаяся девушка в драповой кофточке сбежала с лестницы, и на исхудалом болезненном ее личике засветилась улыбка.
И она пошла за ним.
Как пчела, налетела эта проклятая «Плямка» и жужжала в мозгу.
– Куда вы? куда вы? – крикнула Машка.
Но он ничего не слыхал, ноги сами собой шли.
И они плутали из переулка в переулок, с улицы на улицу, пока не поравнялись с подвальной пивной.
Вошли в пивную.
Пивник-«Гарибальди» – лысый, в очках, с крошечной бородкой колышком, без усов и со скошенным на сторону носом, лукаво улыбнулся гостям.
В пивной было жарко.
Отдышавшиеся тяжелые мухи полусонно перелетали по стаканам. И пиво казалось тягуче-приторным.
– Самую новейшую откупорил-с, – утешал «Гарибальди» какого-то оболваненного гостя, и при этом нехорошо улыбался.
А Коле казалось, это он над ним смеется, да и как не смеяться лысому: вчерашнюю-то ночь перед ним выворачивали…
Машка сидела одетая, конфузилась; из-под платка выбилась светлая прядь волос, а лицо закраснелось. Несколько раз порывалась она вытереть себе пот со лба, да платок забыла, а тяжелый драповый рукав шерстил.
Набирались гости, занимали липкие столики.
Пробки наперебой били.
– Не знаю, что делать, – нагнулся Коля к самому лицу девушки, – слышишь, уеду я, тяжело мне так сейчас, свету не вижу.
Машка ничего не сказала, испуганно захлопала покрасневшими глазами, а веки пухнуть стали, губы вздрогнули.
– С другими ходишь… да?
– Хожу, – едва слышно ответила и закрылась руками.
– И не захворала?
– Н-нет… еще…
– С кем?
– Да с вашими… с городовым… Сами вы виноваты, помните, как переехала я, написала письмо вам, а сама ночи не спала, все ждала вас. И измучилась вся, ждамши, думала, не увижу уж. А вы и пришли вечером, поздно, и с вами этот длинный… Поняла я тогда сразу, чего хотите. И горько и обидно мне было, так бы всю грудь разорвала себе.
Коля сморщился.
– Уйду я, – сказал он сухим голосом.
– Бог с вами! – Машка сжалась, ушла вся в свою кофточку, только худенькое личико еще больше зарделось.
Подали свежую бутылку.
Коля наливал Машке и, не дожидаясь ее, пил.
Не смотрел на нее, не думал, ни о чем не думал.
– Плямка, – сказал кто-то, – ты и есть эта самая Плямка, паршивая…
Машка утерлась рукавом и залпом хватила стакан.
– Навсегда? – спросила она резко, будто перерожденная.
– Навсегда.
И он хотел сказать ей еще что-то, но мысли безалаберно мчались, и одна мысль била другую, а расплывающиеся звуки хмельных голосов сновали где-то так далеко…
А это «навсегда» выстукивало у ней в сердце, выстукивало твердо, без пощады.
Она не плакала, лицо состарилось, яркие красные пятна вспухли на щеках, а губы дрожали. Стояли глаза над пропастью, ужаснувшиеся. А это «навсегда» уж резало сердце, но крови не было, сухо резало.
Острая мысль о завтра рассекла ее с головы до ног, и стало ясно, что там ничего-то нет, ни единого самого малого светика.
Кофточка на ней затопорщилась, будто лопнул тугой неуклюжий футляр.
Машка вскочила, схватила порожний стакан и хряснула им прямо в лицо Коле.
И стакан, ударившись по губам, разлетелся вдребезги.
Коля видел лицо большое и страшное, оно мелькнуло на минуту перед ним, как шар-молния. Веки от боли захлопнулись.
Машка всем телом навалилась на него и била кулаком по глазам, по этим темным глазам, скрывающим всю жизнь ее, всю тоску, все – переболевшего сердца.
И жгло ему щеки и губы и, царапаясь, ползло по щекам, губам.
– Хо, хо, хо!
– Ой да бабенка!
Гоготали вокруг голоса, и огромные красные рты раздирались от хохота.
«Гарибальди» подошел к гуслям, поправил очки, улыбнулся, взмахнул рукой.
И запели гусли широкую заунывную песню, они пели, вили, – пелась песня, плакала…
– Мать-земля, я – сын твой, не покинь меня…
Коля вырвался из рук Машки и, размахнувшись, шваркнул ее ч>земь…
Медленно поднялась девушка, харкнула кровью и затихла.
Капали на стол капельки, горячие, горькие, и расплывались в пролитом пиве.
В монастыре ударили к вечерне.
– С-сукина манишка! – дубастил чей-то барабанный голос, разбивая песню.
– Та-та-та-бух! – стучали кулаками.
Капали капельки крови горячие, горькие…
– Мать-земля, я сын – твой, не покинь меня… – дрожала струна
У нашего кабака
Была яма глубока.
– задрал вдруг чей-то кумачный бабий голос. Показалось Коле, что закрыты все двери, забиты совсем, навсегда, и выйти нельзя…
Навсегда.
А там внутри чья-то железная рука, защемив тугими железными пальцами сердце, выжимала кровь сердца.
Дух перехватило.
И, проскрипев что-то неясное странным, страшным зеленоватым голосом, он уткнулся в колени Машки и так застыл, весь дрожа и задыхаясь.
– Оставьте, неприлично-с тут… – отстраняла девушка.
Как во этой-то во яме
Завелися крысы-мыши,
А крысиный господин
По канату выходил.
– Кой черт, кобылья вонючка, посмел ты во гусли петь, а? Государственными законными правами, слышь, лысый.
– Плямка-сволочь!!
– Лексеев, отступись… Лексеев…
– Уж сколько раз я зарекался… – тянул наперекор всяким звукам одинокий мутный голос, и чьи-то руки бултыхались в табачном дыму.
А едкая горечь, выползая из углов, ползла по полу и подползала к сердцу, впивалась и отпивалась…
Какие-то голые уроды, киша под лавками, вдруг выскакивали к столам и, взявшись за руки, вертелись в ужасном хороводе.
И хоровод рос, сползался, сливался, – прыгал, прыгал, взлетал под потолок огромным грузным телом, расплывался по полу тягучим тухлым тестом, – прыгал, прыгал, – и, закрутившись зубастым винтом, вертелся – не хоровод, не тело, тошнотворная, гадкая…
– Плямка…
– Колюшка, голубчик, дай помогу… вот так…
– Плямка…
«Гарибальди» улыбался.
XXVКоля глубоко дышал, вдыхая теплоту вечернюю.
Веял вечер весенний, голубыми воздухами любовно пеленал красную землю.
Тысячи толкачиков толклись, теребя долгий ласковый луч, уходящий, засыпающий на ночь.
Коля дошел до монастыря и повернул на широкую улицу с чахлым, теперь нарядным, бульваром и медленно пошел по боковой аллее, хоронясь и надвигая на глаза шляпу.
Щеки саднило, а прикушенный язык то и дело лизал кусочек отсеченной, мешающей губы.
Спина и ноги ныли, и голова тяжелела, будто он нес на плечах тяжелый пуд.
Он перед кем-то оправдывался и, оправдываясь, залезал в такие дебри, откуда выхода уж никакого не было… Травил себя, потому что и в пивной, и когда прощался с Машкой, лгал, лгал и себе, лгал и ей…
– Я уйду.
Оборвались мысли.
Вышел на главную, но, и шагу не сделав, повернул в сторону.
Прямо навстречу шел Алексей Алексеевич.
Очень неловко стало, хватился застегиваться, но неровно пришитая пуговица только отдула полу, бросил пуговицу. Да и поздно.
Поравнялись.
Взглянули друг на друга. Не поздоровались.
Пошли рядом.
– Что случилось? – испугался Коля: вид у Алексея Алексеевича показался ему донельзя странным, руки болтались, как плети.
Но тот ничего не ответил.
Так шли они молча, не глядя друг на друга, и не расходились, словно кто-то третий шел с ними, сковывая своими руками их руки.
– Сергей – брат зарезался, – проговорил вдруг Алексей Алексеевич и улыбнулся, – в отхожем месте перочинным ножичком.
Коля оступился.
Что-то хотел сказать, но слова захрясли, все холодные, как ледяшки.
– Крови так пустяки, – на ладошке унесешь… – продолжал спутник и, согнув руку совочком, понес ее перед собой, не разжимая пальцев.
И опять пошли молча. Шли неровно, то торопясь, то замедляя.
От моста бежать пустились.
Все нарастающая вода клокотала, подплывала Синичка к пруду..
Мелькнул красный забор.
– Почему это ворота отворены? – крикнуло что-то и кош кой царапалось в сердце.
Добежали до дому.
На сыром дворе перекрестные следы от колес.
Вломились на черный ход.
Голос Пети каплей долбил.
– Известное дело, из тюрьмы в крепость… – обдал Прометей.
На кухонном столе горой подымались подушки и одеяло Саши.
– Братца вашего, так ей-Богу, один грех на Пасху… – виновато обернулся к Коле городовой Максимчук.
– Ваша милость, никто другой! – ворчала Эрих, поводя носом и косясь почему-то на Прометея, – всех вас повесить мало.
– Сгноят, известное дело… – отплевывался от папироски Прометей, и вдруг, засучив руки, заорал во все горло: – шпульники вы проклятые, доберутся до вас, доберутся до окаянных, просить будете, н-нет, не будет пощады, шилом пупок проколют, выворотят брюхо…
– Я тебе говорю, чтобы ты подушку сейчас же отправил, я тебе говорю… – приказывал Петя городовому, уши у него страшно горели.
Лисенок, собачка Саши, заглядывая в глаза, служил, а глаза плакали этими невыносимыми слезами, молча.
И, насторожив уши, взволнованно слушал кургузый Розик.
Коля принялся расспрашивать, но никакого толку не мог добиться: говорили все зараз, кричали, и одно понял: какой-нибудь час назад вернулся Саша, и его взяли…
Женя ходил из угла в угол, – бровь у него дергалась:
– Черт знает что – черти…
Прасковья плакала:
– Сашечка… Сашечка… Светло Христово Воскресение… мамаша-то, кабы знала, девушка, мамаша-то видит все… Сашечка, яко разбойник…
– Маво сызнова по статье законов… Филиппок-то говорит мне: мамынька…
– Я тебе говорю, чтобы ты сейчас же нес, слышишь…
– Мамынька, сердечная…
– Дерьмо ты, шпульник, черт…
– Перочинным ножичком… крови так пустяки – на ладошке унесешь…
Коля бросился из дому, через двор, за ворота, на улицу; что-то гнало идти, идти без оглядки куда глаза глядят.
Чувствовал, как ноги несут куда-то, и слышал все, не проронил ни одного звука; шумела тревожно жизнь, и слышал каждую жизнь.
Свистки на железной дороге и звон часов, и дребезжание пролеток, и гул отдаленных колоколов были не как всегда, не как всякий день.
Все вокруг навязчиво лезло, что-то пряча, что-то скрывая, отнимая, отщипывая кусок за куском.
На запотевших окнах какого-то освещенного дома, под едва слышную музыку, прыгали тени.
Остановился.
– Тут веселятся, – подумал, – они не знают. Они не знают.
Тени, прыгая, зачертили страшные слова.
Он видел ясно: люди плясали, а тени их плакали. Вдруг стрекозами выпорхнули одна за другой все до единой мысли, скучились, зацепились, и упал нож огромный, острый и рассек их…
Глухая тоска безответно, тупо хлынула, как кровь из глубокой смертельной раны.
Если бы можно было сразу выкрикнуть всю эту боль невыносимую, задавить в себе эту тоску… Бежал, куда глаза глядят, не чувствовал под собой ног.
Цапаясь, падая, вскарабкался на монастырскую гору.
Но сил больше не стало, повалился на землю, на холодную траву.
Тоска не отхлынула, наводняла тоска пустое сердце.
Меркло зеленоватое затихшее небо. Зеленый месяц тихо взбирался на ограду вверх к колокольне.
Гудела, плескалась высоко поднявшаяся река, гудела, ворчала, выводила одно и то же, одно и то же.
Поднявшиеся слезы теснили грудь, душили горло; что-то хо додное царапала ссадины, врезалось в мясо.
Закусил от крика землю.
– И себе, и им – и себе, и им! – разрывалось сердце, черно-синее сердце, и кровь вскипала, и каждая капля крови, испаряясь, ложилась иглой на сердце, и их было тысячи тысяч, и каждая колола сердце…
И, чернея от боли, сердце мстило:
– И себе, и им – и себе, и им!
Громоздились плахи за плахами, щелкали пытки страшными зубами…
Сгорбившись, прошел Алексей Алексеевич, неся перед собой согнутую «совочком» темную руку, зеленый, улыбаясь…
Коля поднялся на руки, минуту каменел так от блеснувшей ужасной мысли: догнать и…
Вдруг со страшной высоты грохнулись на него тысячи колоколов и, придавив к земле, расплющили мозг.
– Дуу-доон! – Дуу-доон! – били часы, и каждый выбиваемый час бил по обнаженному.
* * *
Медленно поднялся Коля с земли.
Окутала мир страшная тишина: река не бурлила, не росла трава, и часы не ходили.
Медленно пошел к ограде, к башенке.
Плакало сердце, тихо, как плачут одинокие, у которых отнимают последнее, как плачут оклеветанные, как плачут бессильные перед тем, что кто-то крутит и вертит миром и не слышит и слышать не хочет…
Каменная лягушка шевелила безобразными перепончатыми лапами.
Вздувалось ее белое брюхо.
И он вспрыгнул на ее живую спину и, обняв полукруг башенки, ударился.
Град белых острых искр, взорвав тьму, разлился в глазах.
И с безумной радостью он бился лбом, бился крепко, больно, больно, больно…
Казалось ему, прощается он со светом, надругавшимся над ним, над его детским сердцем, прощается со светом, искровянившим его тело, исполосовавшим всю его душу, прощается с теми, кого так крепко… кого не любил вовсе, и просит простить и бьет, бьет, бьет себя за слезы их…
И раскрывалась под ним изъеденная красная пасть лягушки и короста, шелуха слетали с лягушачьего лица, и окрылялся камень… Вот взовьется…
Встревоженные стрижи закрестились крылами, зазвенели, перенося молитвы тихие.
И вспомнился старец.
Красный огонек теплился в окне башенки.
А над ней улыбался месяц искаженно-зеленой улыбкой.
Коля отступил на шаг, отступил и, пораженный, остановился.
Окаменел весь.
Смотрел пристально, смотрел долго-долго.
Припоминал…
Вдруг перехватило дыхание.
Он быстро нагнулся, пошарил по земле, нащупал голыш… вздрогнул кровавой дрожью, прицелился, развернулся…
И камень свистнул.
Жалобный стон прозвякнул в окошке.
Раскатился.
Огонек метнулся.
Затрепетал.
Огонек заплакал.
– Ха, ха!
И загас.
Ночь.
* * *
В доме Огорелышевых отдавалось приказание, чтобы духу Финогеновых не было на дворе.
– Тебя еще заберут…
И люди шли исполнять приказание.
А Бес, неприкрашенный, худой, сидел на гвозде затопленного забора, отделявшего Синичку от пруда, и, курлыкая, грыз копыто, голодный Бес, испачканный плевками, кровью, а людям, таким жалким и доверчивым, казалось: это половодье гремит, волны ворчат…
Эх, ты, гордый человек!








