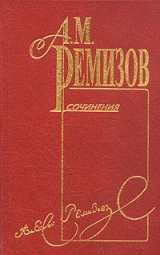
Текст книги "Том 1. Пруд"
Автор книги: Алексей Ремизов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц)
– Если не полюбишь врага своего, нелюбовью измучаешься, а твой нож и кровь, пролитая тобою, на тебя же обратятся, – о. Глеб запечалился, губы его вздрагивали.
– Не могу я простить, – заерзал Саша, – и скажите, пожалуйста, как же поступить мне с человеком, который людей ест, да, ест, жизнь у них отнимает, как поступить со всеми этими, кто приказывает и кто исполняет повеления, от которых гибнут люди? Уничтожать их только, больше ничего не остается.
– Подойди к нему, врагу своему, – заговорил старец, – загляни в глаза: глаза его горюют, на нем своя беда ох, страшная беда! А ненависть твоя не зальет и не раскроет тебе этой горечи и беды его. Нет, ты подойди к нему, загляни в глаза…
– А он захочет?.. Да он тебя ножом пырнет. Ха, ха! Он с тебя шкуру будет драть, а ты с губами потянешься, ха, ха! Я, может, подходил, и не один раз, – уж с горечью сказал Саша, – руку мою протягивал и до корней волос краснел от обиды: руку мою не принимали…
И, когда проговорил Саша свои последние слова, вдруг стало ему ясно, что говорить больше не стоит: старец не знает ничего, а только из прописей повторяет уж много раз слышанное, разыгрывает из себя какого-то блаженного, увертывается и виляет, лжет перед ним.
– Заповедь; убий! убий того, кто убивает – вот она заповедь! – Саша встал с места и твердо заходил по келье, – за зло тысячекратным злом… Да, кровь, и если я не пролью крови, так не мою, Бог с ней с моей, вашу прольют, Розикову прольют.
Старец сидел в своем кресле, казалось, и не слушал Сашу, дремал в своем мягком удобном кресле.
И гадок и омерзителен стал в эти минуты для Саши старец.
«Вот он схимой прикрыл свои прогнившие глаза!» – думал Саша, злорадствовал, ему чудился запах, шел запах по келье, проникал сквозь платье, через кожу, сосал сердце. И так захотелось Саше обидеть, унизить старца, «старый лгун, – думал он, – изжил все свои силы», так хотелось ему крикнуть в лицо старца самое тяжкое оскорбление, такую обиду горькую, чтобы прожгла она всю его святость, – «показную святость заклинателя бесов!» – сказал себе Саша. Мысли его разрывали друг друга и, разорванные, бросались друг на друга, кипело сердце.
– Саша, – сказал старец и дрожащей рукой протянул ему красное пасхальное яичко, – Саша, сохрани его на всю жизнь.
«Стопудовое, – вспомнилось Саше, – Христа ради подайте милостыньку на стопудовое!» – и, не приняв подарка, стиснул он зубы от горечи, закрыл лицо и сидел так, не раскрывая лица.
В монастыре ударили к вечерне.
Очнулся Саша, вспомнил: к четырем он должен поспеть к Сергею Молчанову, чтобы всех застать у него и навсегда уж покончить со всякими делами, и со всякой своей непримиримостью, и, не приняв благословения, вышел вон из кельи.
Старец до двери проводил Сашу, сполз с лестницы и долгим взором сердца глядел вослед ему: губы горько перебирали, – старец молился, – и рука крестила, – старец молился, – и рука крестила еще неясное, еще далекое, что вышло и наступало на человека:
– Господи, подуй, подуй, Господи, святым духом на землю!
Глава двадцать четвертаяПлямка
Коля любил Машу-горничную, во сне она снилась ему и всякий раз, просыпаясь, он чувствовал какую-то слитность со всем миром, будто за ночь произошло что-то, что соединило его с каждым предметом и не оставило никаких промежутков. Коля любил Верочку, которую, казалось ему, не раз он видел мелькающей в толпе, и сердце тогда замирало, и дух захватывало. С болью любил он Маргаритку, с болью вспоминал ее, всю, с ее язвами, с ее грубым криком, как дорогое, бесценное, отшедшее. Но Машку, Машку Пашкову он совсем не любил или любил ее только с закрытыми глазами, видя перед собою то Машу, то Верочку, то Маргаритку, а за любовь ее, изводящую и покорную, ненавидел порою и еще ненавидел за то, что уж очень ясно представлял себе, как сам-то он смешон и надоедлив с своею Машкиною любовью к Маше, к Верочке, к Маргаритке. И жестоко издевался над Машкой: приходил он в Бакаловский дом, в ее комнатенку, и не один приходил, а с Петей или с Женей, или с Алексеем Алексеевичем и их вместо себя предлагал ей. Последнее время Машка выходила по ночам на бульвары. Что у ней было на сердце, какое отчаяние, какие слезы, но она все исполняла, на что, издеваясь, толкал ее Коля.
Сколько раз хотел Коля все сказать Машке, сказать ей, что не любит он ее и не любил никогда, и кончить, наконец, всю мучительную ложь, которая извела его, и все ничего не выходило, – то не решался он из какой-то трусливой жалости, то решиться не мог просто из какого-то упрямства. Но теперь он твердо решил все кончить и уйти куда-нибудь, начать новую жизнь.
Выйдя за монастырскую ограду, Коля пошел по дороге – к Бакаловскому дому и так размечтался, так уверился в себе, в решении своем, что забыл, куда идет и зачем.
Ему казалось, что уже объяснился он с Машкой, и она все поняла и со всем согласилась, и он уж уехал куда-то в другой какой-то город далеко от Бакаловского дома и теперь только вспоминает о прошлом мучительном, но таком далеком.
И вдруг Коля очнулся, и решение его вдруг куда-то исчезло, и он свернул на другую улицу в сторону от Бакаловского дома.
Как был бы он счастлив, если бы ничего не надо ему было делать или все само собою сделалось бы! И как завидовал он, кругом виноватый, Саше, который был во всем чист. И чувство оторванности охватило Колю. Сам себе представлялся он какою-то смертью, мыкающейся посреди всеобщего воскресения, и думал он, не разбираясь, о чем-то жутком, что вот наступит, и тогда всему конец.
Долго бродил Коля по переулкам, пока ноги сами собою не вывели его к знакомому Бакаловскому дому с черной доской на воротах, сплошь измелованной фамилиями жильцов. Как клопы жили люди в Бакаловском доме.
На звонок вышел дворник Степан.
Коля стоял и смотрел на его рыжие, засаленные усы, на мелкие, потные рябины и ничего не говорил.
– Вам Машку? – спросил дворник и подмигнул: знаю, мол, зачем вам она понадобилась.
– Машку, вызови Машку! – словно обрадовался Коля.
И пока дворник ходил за Машкой, стал он разбирать фамилии жильцов на черной доске, и одна чудная фамилия Плямка привязалась к нему.
«Плямка!» – повторял Коля, бессмысленно глядя перед собой, пока не выбежала к нему Машка: она запыхалась в своей драповой кофточке, а на исхудалом болезненном лице ее светилась улыбка.
Коля молча пошел от ворот, и Машка за ним. Шли молча. Как пчела, налетала на Колю Плямка и жужжала где-то в мозгу.
«Плямка!» – повторял он бессмысленно.
– Куда вы? – испуганно окрикнула Машка, схватила Колю за руку.
Но он вырвался, ничего не ответил. И долго плутали они из переулка в переулок, с улицы на улицу.
Поравнявшись с подвальной пивной, Коля вошел в пивную, и Машка за ним.
Пивник Гарибальди – лысый, в очках, с крошечной бородкой-колышком, без усов, лукаво улыбался гостям.
В пивной было жарко.
Отдышавшиеся тяжелые мухи полусонно перелетали по стаканам. И пиво казалось тягуче-приторным.
– Самую новейшую откупорил-с, – утешал Гарибальди какого-то оболваненного гостя, и улыбался.
А Коле казалось, пивник над ним смеется, да и как ему не смеяться: вчерашняя-то ночь на его глазах прошла!
Машка жалко сидела в своей драповой кофточке, из-под платка выбилась у ней светлая прядь волос, а лицо закраснелось. Несколько раз порывалась она рукавом вытереть себе пот со лба, а тяжелый драповый рукав только шерстил.
В пивную набирались гости, занимали липкие столики. Пробки наперебой хлопали.
– Не знаю, что мне делать, – нагнулся Коля к самому лицу Машки, – слышишь, уеду я, тяжко мне так…
Машка испуганно захлопала покрасневшими глазами, а веки ее стали пухнуть, и губы вздрогнули.
– С другими ходишь… да? – уж резко спросил Коля.
– Хожу, – едва слышно ответила Машка, закрылась руками.
– И не захворала?
– Н-нет… еще…
– С кем?
– Да с вашими… Сами вы, сами вы кругом виноваты! От Бакалова-то, помните, написала я письмо вам, помните, а сама ночей не спала, все ждала вас. Измучилась вся, ждавши, думала: не увижу уж. А вечером пришли вы тогда поздно, и с вами этот длинный… Поняла я тогда, сразу поняла все, чего хотите. И горько мне и обидно мне, так бы всю грудь разорвала себе.
Коля сморщился, ясно вспомнив вечер, когда привел он к Машке Алексея Алексеевича.
– Уйду я, – сказал он сухим голосом.
– Бог с вами! – Машка сжалась, ушла вся в свою кофточку, только худенькое лицо ее еще больше зарделось.
Гарибальди поставил на стол еще бутылку.
Коля налил себе и Машке и, не дожидаясь, стал пить.
– Плямка, – сказал кто-то, – ты и есть эта самая Плямка, безглазая, паршивая… Плямка.
Машка утерлась рукавом и залпом хватила стакан.
– Навсегда? – спросила она резко не своим голосом.
– Навсегда, – сказал Коля твердо, не взглянул на нее, и еще что-то хотел он сказать ей, чтобы смягчить резкость свою, но мысли безалаберно мчались, и одна мысль била другую, и расплывающиеся звуки хмельных голосов изводяще сновали.
А у Машки страшное слово одно выстукивало в сердце, выстукивало твердо, без пощады. Она не плакала, только лицо ее как будто состарилось, да яркие красные пятна вспыхнули на щеках, а губы дрожали, словно над пропастью стояла она, словно сердце ей резали. И вдруг острая мысль о завтра будто рассекла ее с головы до ног, и стало ей ясно, что в ее завтрашнем дне нет ничего, ни единого самого малого светика. Кофточка на ней затопорщилась, будто лопнула. Она схватила Колин порожний стакан и хряснула стаканом прямо Коле в лицо.
И стакан, скользнув по его губам, разлетелся вдребезги.
Коля на минуту видел лицо Машки, такое вдруг большое и страшное, оно мелькнуло на минуту перед ним, как шар-молния, и веки его от боли захлопнулись.
Машка всем телом навалилась на Колю и била его кулаком по глазам, по его темным глазам, скрывающим всю жизнь ее, всю тоску ее, все, все ее сердце. И кровь жгла ему щеки и губы и ползла по щекам и губам.
– Ой да бабенка! – гоготали в пивной за столиками, и огромные красные рты раздирались от хохота.
Гарибальди подошел к гуслям, поправил очки, улыбнулся, взмахнул рукой.
И запели гусли заунывную широкую песню, – пелась песня, выплакивала, выговаривала:
«Мать-сыра земля, я – сын твой, не покинь меня!..»
Коля вырвался из рук Машки, размахнулся и шваркнул ее оземь.
И медленно поднялась Машка, села к столику, покорная, и затихла, и Коля сел к столику, закрылся руками.
Капали на стол капельки крови горячие, расплывались в пролитом пиве.
«Мать-сыра земля, я – сын твой, не покинь меня!..»
– дрожала струна, выплакивала, выговаривала.
И вдруг задрал чей-то визгливый, резкий, как красный кумач, бабий голос кабацкую песню:
У нашего кабака Была яма глубока…
Показалось Коле, что закрыты все двери, совсем наглухо забиты двери, и выйти нельзя. А на сердце будто чьи-то тугие железные пальцы защемили сердце. Коля открыл лицо, хотел сказать Машке, не прощенье просить, а сказать ей, как тяжко, и за что так невыносимо тяжко, и, проскрипев неясно голосом странным, как зелень, с болью, уткнулся в колени Машки и так застыл, весь дрожа.
Как во этой-то во яме
Завелися крысы-мыши,
А крысиный господин
По канату выходил…
визжал резкий, как красный кумач, бабий голос кабацкую песню.
– Сукина манишка! – дубастил чей-то барабанный голос, разбивая песню, – сукина манишка! – и стучал кулаком.
– Кой черт посмел во гусли петь, а? Государственными законными правами, слышь, лысый! – кипятился какой-то законник.
– Плямка, сволочь… – дружески, необыкновенно ласково упрашивал о чем-то приятель приятеля.
– Лексеев, отступись… Лексеев… – уговаривал задирщик тихого.
– Уж сколько раз я зарекался, да в эту улицу не ходить… – тянул свое одинокий мутный голос, и чьи-то руки бултыхались в табачном дыму.
Гарибальди улыбался.
И казалось Коле, едкая горечь, желтыми, как пиво, мокрицами выползала из углов, ползла по полу и прямо на него, и какие-то голые уроды, киша под лавками, вдруг выскочили к столам, взялись за руки и завертелись хороводом, и хоровод рос, сползался, – прыгал, сползался, взлетал под потолок грузным пивным телом и расползся по полу тягучим тестом – прыгал и, вдруг закрутившись зубастым винтом, завертелся не хоровод уж, а сам крысиный господин – тошнотворная, гадкая, безглазая плямка. И слезы душили его от отчаяния и не проливались, слезы напрягали все сердце и не выходили.
– Колюшка, голубчик, Колюшка, дай помогу! – Машка помогла ему встать и, расплатившись, повела его к двери вон из пивной.
В монастыре звонили к вечерне.
Глава двадцать пятаяРаненое сердце
В то время, как Саша оканчивал свои объяснения у Сергея Молчанова и, высказав всю правду свою и всю свою тяготу сняв с себя, чистый кругом и уверенный, успокоенный собирался домой уходить, в то время, как Коля, чувствовавший себя кругом виноватым, и не сделав ничего, чтобы распутать узел, затянувшийся петлей, засыпал тяжелым сном на кровати у Машки в ее убогой Бакаловской комнатенке, – в Огорелышевском саду погибал Прометей, раб Митрий, великий Прометей, солитер, служитель при слоне, половой с Заречья, Наполеон, не обнаруживший своего величия, не завладевший землями и странами, не покоривший Азию, Африку и Европу. Прометей погибал среди бела дня один в неизъяснимых муках и страданиях великим избранником, явившимся в мир несовершенный и убогий.
Поднявшись на ноги с Петей и Женей, когда уж прошел в монастыре крестный ход, и здорово опохмелившись, Прометей поиграл на своей гармонье, прокричал себе многолетие с перекатами и, вместо обеда снова выпив, пошел в сад поразмяться. И там, в саду, затеяв с Петей на березе чай пить, влез на крышу сарая, а с крыши на старую березу, всю одетую зелеными сережками, такими душистыми и нежными.
Петя вызвался подать Прометею стакан чаю на березу и, схватившись за ветку, подавая стакан, крикнул:
– А что, Прометей, вот выпьем мы чаю на этой березе, у нас, как у птиц, вырастут крылья, что тогда?
– Полетим! – будто гаркнул, просипел с березы Прометей и, приняв стакан, залпом выпил горячего чаю и вдруг застыл весь: сзади спину что-то кололо.
«Не крылья ли уж?» – подумал Прометей и, страшась оглянуться, потер спину рукою…
Стакан выпал из рук Прометея, и в ужасе хотел Прометей крикнуть Петю и только скрипел зубами: один он сидел высоко на старой березе, и крылья клейкие, как молодые листочки березы, все из клейких зеленых листочков и нежных сережек, огромные лебяжьи крылья давили ему спину.
«Куда теперь? – метались его обожженные мысли, – куда ему деваться с этими тяжелыми лебяжьими крыльями? Спуститься с березы, но там на дворе не ступить ему и шагу, затравят фабричные, и никуда не выйти ни за ворота, ни в баню: с крыльями не пустят в баню, заберут в участок, и коричневую праздничную визитку нельзя надеть и спать невозможно, не уснуть, когда спину давит. Куда ж ему деваться? Лететь, – куда полетишь? На Ивана Великого? Или перелетать ему с колокольни на колокольню? Хорошо еще летом, а зимою замерзнешь, на Иване Великом замерзнешь, как сорока. Куда же ему? Выше лететь, но там, высоко, там задохнешься, там голова закружится. Ни до какой звезды не долететь ему, ни до какой планеты, там задохнешься. Да куда же деваться ему, Прометею, единственному крылатому на земле, ему, генерал-лейтенанту, генералу от инфантерии, наказному атаману Войска Донского, генералиссимусу Дмитрию-Прометею Мирскому? Нет ему нигде места!»
А крылья клейкие, как молодые листочки березы, все из клейких зеленых листков и нежных сережек, огромные лебяжьи крылья давили ему спину, и спина ныла от боли, и мутилось в глазах: нет ему нигде места!
– Маменька, спасите меня! – Прометей перекрестился и полетел, полетел с березы прямо в пруд.
Прошло с час, пока не хватились Прометея.
В монастыре кончали звонить к вечерне, когда вышла Прасковья в сад Митю покликать чай пить, да так у калитки и подкосило ее: в пруду у плотика, стоя, с разинутым рыбьим ртом, плыл мертвым поплавком захлебнувшийся Прометей с веткою березы за плечами и не откликался, не мог откликнуться – мертвый.
Ничего не знал Коля, он не знал, что делалось в их красном флигеле, и что уж нет на свете Прометея, что увезли Прометея в больницу для вскрытия, и также не знал он, что его самого ждет завтра, когда вечером, проспавшись, шел он от Машки, глубоко вдыхая теплоту вечернюю.
Веял вечер весенний, голубыми воздухами любовно пеленал весеннюю красную землю. Тысячи толкачиков толклись, теребя долгий ласковый луч, уходящий, засыпающий на ночь.
Дойдя до монастыря, Коля повернул на бульвар и медленно пошел по боковой аллее, хоронясь и надвигая на глаза шляпу: саднило щеки, а прикушенный язык то и дело лизал кусочек отсеченной, мешающей губы.
Коля то обвинял кого-то, то перед кем-то оправдывался и, оправдываясь, залезал в такие дебри, откуда выхода никакого не было: все были правы и нечего оправдываться! – и начинал травить и унижать себя, а унижая, жалел себя и опять оправдывался. Наконец, все мысли его оборвались, и он перестал думать, только чувствовал, как спина и ноги его ноют, а голова тяжелеет, словно несет он на плечах тяжелый пуд.
И бездумно Коля вышел на главную аллею, но, и шагу не сделав, хотел было повернуть в сторону: навстречу ему шел Алексей Алексеевич. Коля схватился застегиваться, а пришитая не на месте пуговица только отдула полу, и бросил он пуговицу, все равно, да и поздно: Алексей Алексеевич столкнулся с ним нос к носу.
Молча взглянули друг на друга, не поздоровались, молча пошли они рядом.
– Что случилось? – испугался Коля: у Алексея Алексеевича руки болтались, как плети.
Но ответа не было.
И так шли они молча по главной аллее, не глядели друг на друга и не расходились, словно кто-то третий шел с ними, сковывал своими руками их руки.
– Сергей-брат зарезался, – проговорил вдруг Алексей Алексеевич и улыбнулся, – в отхожем месте перочинным ножичком.
– А где Саша? – оступился Коля, холодные, как ледяшки, все слова застряли.
– Крови так пустяки, на ладошке унесешь… – Алексей Алексеевич согнул руку совочком, и понес ее перед собой, не разжимая пальцев.
И опять шли они молча, шли неровно, то торопясь, то замедляя.
Нарастающая вода разливалась половодьем, – подплывала Синичка к Огорелышевскому пруду.
Мелькнул красный флигель, красный забор, вот и ворота.
«Ворота отворены!» – кошкой царапнуло в сердце, и Коля пустился бежать, словно отворенные ворота дали знак его сердцу. И добежал он до ворот и по сырому двору, по перекрестным следам от колес бросился на черный ход.
На кухонном столе горой подымались подушки и одеяло Саши.
– Известное дело, из тюрьмы в Петербург перевезут в Петропавловку… – сказал городовой Максимчук и виновато обернулся к Коле.
– Братца вашего, Сашу, так ей-Богу, один грех на Пасху…
– Ваша милость, никто другой! – ворчала Арина Семеновна-Эрих, поводя носом, – всех вас повесить мало.
– Я тебе говорю, ты подушку сейчас же отправь, я тебе говорю, Максимчук! – голос Пети каплей долбил, уши у него горели.
Розик, заглядывая в глаза, стоял на задних лапках – служил, Розик служил, и глаза его плакали, словно просили, как о крохотном каком-то завалящем кусочке сахара, ну хоть о капле милосердия.
Прасковья сидела на Степанидиной кровати: обезножела от горя:
– Митя, Митенька, – повторяла Прасковья, – погубил ты свою голову, Светло-Христово Воскресение!
– Прометей утонул! – сказал Женя: над бровью у него дергалось.
– А Филиппка сызнова по статье законов! Филиппок-то говорит мне: мамынька… – и вдруг, засучив рукава, закричала богобоязненная Степанида, и темный платок спустился с ее головы, – шпульники вы, проклятые, доберутся до вас, окаянных, доберутся до вас, извергов, просить будете, нет, не будет пощады, шилом брюхо проколют, выворотят! – и зарыдала на голос.
– Сашу в тюрьму увезли, и не обедал, увезли в карете, – сказал Женя: над бровью у него дергалось.
– Перочинным ножичком… крови так пустяки, на ладошке унесешь! – услышал Коля голос Алексея Алексеевича и бросился из дому.
Коля бросился из дому за ворота, на улицу, словно кто-то гнал его бежать без оглядки, куда глаза глядят.
Он чувствовал, как ноги несут его, он слышал, как никогда еще так ясно не слышал каждый звук, кажется, ни одного звука не проронил он.
Свистки на железной дороге и звон часов, и дребезжание пролеток, и гул отдаленных колоколов, все навязчиво лезло, будто пряча что-то, будто скрывая от него самое главное.
На запотевших окнах Сухоплатовского освещенного дома, под чуть слышную музыку, прыгали тени.
«Танцуют, – подумал Коля, – они не знают! Кто же знает! Кто видит?»
Кровь вскипала у него на сердце, каждая кровинка, испаряясь, ложилась иглой на сердце, каждая кровинка колола сердце – черное, посиневшее от боли сердце, и тоска, как кровь из смертельной раны, хлынула на него.
Коля добежал до монастырской горы и, цапаясь и падая, вскарабкался на монастырскую гору, пошел к ограде к башенке, к каменной лягушке.
Меркло зеленоватое затихшее небо. Зеленый месяц тихо взбирался на ограду вверх к колокольне. А внизу гудела, плескалась поднявшаяся Синичка, гудела, ворчала, выводила одно и то же свое речное, полноводное.
Каменная лягушка шевелила безобразными перепончатыми лапами. Вздувалось ее белое каменное брюхо.
Сгорбившись, прошел Алексей Алексеевич с согнутою совочком рукой, весь зеленый, улыбался.
Вдруг со страшной высоты, словно грохнулись на Колю все колокола – ударили часы, и каждый, выбиваемый час бил его, и он повалился на землю, обнял лягушку и ударился головой о холодный камень, и белые колкие искры, взорвав тьму, разлились в глазах.
С неизъяснимой радостью Коля бился лбом о камень, бился крепко и больно.
Казалось ему, прощается он со светом, безрадостным, надругавшимся над ним, ранившим его детское сердце, прощается со светом, безрадостным, искровянившим его тело, исполосовавшим всю его душу, прощается с теми, кого так крепко любил и кого не любил вовсе, и просит простить за все слезы, за всю муку ради его мук…
Каменная лягушка шевелила безобразными перепончатыми лапами, вздувалось ее белое каменное тело, а с красной, ржавой коростою покрытой, пасти слетала шелуха, и выступало измученное лицо человека.
И плакало сердце, тихо, как плачут одинокие, у которых отнимают последнюю надежду, как плачут оклеветанные, у которых нет защиты, как плачут бессильные перед судьбою, которыми крутит и вертит судьба, не слышит их жалоб и слышать не хочет, как плачет нежное сердце в мире грубом огрубелых сердец.
Коля медленно поднялся с земли.
Река не бурлила, трава не росла и часы не ходили, только встревоженные стрижи чуть зазвенели, перенося молитвы, да красный благословляющий огонек теплился в окне башенки у старца, а над башенкой стоял зеленый месяц.
Коля отступил на шаг, и вдруг блеснувшая мысль перехватила дыхание, – он быстро нагнулся, пошарил по земле, нащупал голыш, зажал его в кулак и, отступив еще на шаг, прицелился, развернулся и бацнул камнем в красный благословляющий огонек.
Свистнул камень, звякнул в окошке, – огонек метнулся, затрепетал и канул, красный огонек погас.
Коля постоял минуту, посмотрел на темное окошко, и, не оглядываясь, твердо пошел от ограды начинать свою новую жизнь.
А там на огорелышевском дворе в белом Огорелышевском доме уже решена была судьба его. Последнее терпение лопнуло у Арсения: что ему еще делать, как поступить, да так, видно, и поступить – завтра же выгнать Финогеновых из их красного флигеля, чтобы и духа их не было на дворе, пускай как знают, так и живут. И уж отдано было приказание завтра же очистить красный флигель.
А там Синичка, сливаясь с Огорелышевским прудом, подплывала к красному флигелю и гремела полноводная, выводила одно и то же свое речное, полноводное, покрывала оттаявшую землю, такую непонятную, с ее неразгаданной непостижимой жизнью.
А там, на ржавом гвозде затопленного огорелышевского забора, отделявшего Синичку от пруда, что-то серело в зеленоватой лунной ночи – один из бесов, бесенок с ликом неподкупной и негодующей человеческой честности и справедливости, по-кошачьи длинно вытянув вверх ногу, горько и криво смеялся закрытыми губами.
Он-то знал, и на какую новую жизнь вышел Коля и зачем Арсений велел выгнать Финогеновых, выгнать, как в погоду собаку на улицу, и зачем все горе человеческое, от которого камень-кремень трескается, зачем злая судьбина, беда, не-доля, и зачем одни обречены ей, а другие свободны? Да знал ли он? И кто он – демон, один ли из бесов или просто бесенок? И демон, и бес, и бесенок, он знал и горько и криво смеялся с сжатыми губами.








