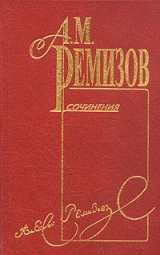
Текст книги "Том 1. Пруд"
Автор книги: Алексей Ремизов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 41 страниц)
Монах
С обеда Финогеновы легли отдыхать, только Коля все не ложился, все копался: то его развлекал Сёмин теленок, и он не выходил из сарая, то прибирал свой столик с зверками и зверушками. И уж солнце, насмотревшись на пруд, на молодую травку, закатилось, и тучи, плывшие над домом, повернули куда-то за Чугунный завод, и сумерки тихо завесили окна, только тогда угомонился Коля и, не раздеваясь, прикурнул на кровати.
И показалось Коле, вошел будто в детскую нищий старик, весь такой сгорбленный, измоделый, на покойника ночного сторожа Аверьяныча похож, штаны серые, мышиные, и стал нищий перед кроватью.
– Чего тебе нужно? – будто спрашивает Коля у нищего.
А нищий смотрит на него и молчит, и как-то неспроста молчит.
– Кто ты? – спрашивает Коля.
А нищий все молчит, смотрит, так смотрит, словно сделать над Колей что-то собирается и такое страшное и непоправимое, и не уйти уж никуда ему от нищего.
Тут у Коли захолонуло на сердце, руки одервенели, и мысли помутнелись. И уж виделось ему другое, шел он будто по деревне – по рассказам Степанидиной Авдотьи он узнал, их деревня, Папоротня: белая церковка и две покатые стены почернелых изб. Мужики и бабы, толкаясь, обгоняли его. Было тихо. Необыкновенно красное солнце медленно заходило за колокольню, и ярко-зеленые тучи крылатыми чудовищами мчались по небу. И вот какая-то краснощекая баба в красном платке выскочила из ворот и, расталкивая мужиков, оступаясь и прихрамывая, побежала вдоль улицы, а над ее головой горел острый кухонный нож. И все, словно обезумев, бросились за ней. Коля шарахнулся в сторону да к избе, стукнулся в избу, отворил дверь и, очутившись в избе, будто очнулся.
«Завтра Пасха, – метались его всполошившиеся мысли, – Пасха пришла, а я здесь один в черной избе!»
И вдруг задрожал весь: в избу вошел к нему нищий – старик, весь такой сгорбленный, измоделый, на покойника ночного сторожа Аверьяныча похож, штаны серые мышиные. Но не Аверьяныч, совсем это был не Аверьяныч, на волосатом пальце его играл драгоценный перстень, как у отца, и что-то было в нем такое страшное и непоправимое, и неизбежное.
Коля вскочил к окну, хотел выскочить, но в эту минуту острый кухонный нож вспыхнул над ним, захолодело сердце, и он открыл глаза.
В Боголюбском монастыре звонили к Деяниям.
Этот звон погребальный, пел звон свою страшную песню над всем домом, над Пасхой и над Христом. И было так горько, словно уходил кто-то, дорогой бесконечно.
– Коля, вставай! – Саша подошел к Колиной кровати, – к тебе, Коля, зайчик пришел тот самый: зайчик ест капусту, в капусте музыка!
Коля не обрадовался игрушке-зайчику, которого так хотел он, не подошел к своему столику, сам он себе казался в эти минуты таким хрупким, словно все тело его просетилось, и слышал он и чувствовал и самый малый шорох, и вот он переломится или растает в воздухе, и тоска заливала все его сердце. Коля заторопился переодеться: все уже на ногах были – и Петя, и Женя, и Прометей в своей коричневой визитке и в штиблетах без стуку.
Финогеновы собрались спозаранку.
Забрали они куличи, пасхи, и свечу, которую никакой ветер не загасит и никакой дождь не зальет, и пошли в церковь. А ночь была беззвездная, пасхальная, и пруд казался черным, и темен был двор, только в кабинете Арсения мигал его будничный зеленый огонек.
И красный Финогеновский флигель опустел.
Недомогавшая Прасковья осталась дом караулить.
Прасковья прошла в залу, зажгла лампадку перед Спасителем с золотым красным голубком на сиянии, постояла перед образом, вспомнила покойницу бабушку Анну Ивановну, и приказчика Михаила Ивановича, и батюшку старичка Покровского, и Матвея Григорьева, и сторожа Аверьяныча, и Машу горничную, – где-то она теперь треплется, как нитка? – и Филиппка Степаниднинова-острожника, кормит, сердечный, вшей! – и о. Гавриила Лаврского, помолилась за Митрия раба и за сестру Арину и, крестя окна, пошла по зале. Заглянула Прасковья в зеленую банку к голодному аксолоту, поправила пальму у рояля и, не топая, по ковру прошла в гостиную и там провела рукой по дивану и, подняв оборку, пошарила под диваном и, отвертываясь от зеркала, послушала под дверью к Вареньке – нет, у Вареньки тихо было и только нагоревший фитиль лампадки перед киотом потрескивал. Перекрестила Прасковья дверь к Вареньке и назад из гостиной, и в зале еще раз помолилась, и через прихожую вышла в столовую. И в столовой, крестя двери и окна и углы холодные, окрестила она и льва, и бенедектинца-монаха, и священное коронование, и через кухню на цыпочках прошла в гардеробную и опять послушала у дверей Вареньки – нет, у Вареньки тихо было, и только нагоревший фитиль лампадки перед киотом потрескивал. Измаялась вся, присела старуха на кованый устюжский сундук, – неспокойно ей было, ей все чудилось: ходит кто-то, не то по чердаку, не то в черных сенях, лезет кто-то по террасе, что ли, и ногой топает, – встала она с сундука, и крестя двери и углы холодные, побрела по лестнице наверх в детскую и там прилегла до звона на кровать своего Мити – Прометея. Но не успела она глаз завести, как попала в свою страшную комнату, и они – черненькие в курточках – прокрались в ее страшную комнату.
А там у Вареньки было тихо, и только нагоревший фитиль лампадки перед киотом потрескивал.
Монах с красивым лицом и рассеченной бровью, из которой тихо, капля за каплей, сочилась густая темная кровь, монах в ярко-зеленой шуршащей, шелковой рясе, держал перед ней деревянный темный крест, обшитый неровной зазубренной жестью.
Как сквозь аксолотово зеленое стекло, видела Варенька этого странного монаха и не двигалась с места, она закрывала глаза, стараясь отогнать видение, и долго сидела с закрытыми глазами.
Монах с красивым лицом и рассеченной бровью, из которой тихо, капля за каплей, сочилась густая темная кровь, монах в ярко-зеленой шуршащей шелковой рясе держал перед ней деревянный темный крест, обшитый неровной зазубренной жестью, и вдруг изогнулся весь и бросился на Вареньку.
И они бегали по комнате, и монах пропадал и появлялся, и настигал, и хватал ее. И глядели на них в тишине присмиревшие стены, и высокий темный киот со всеми ликами, и гневными, и скорбящими. Обессиленная, измученная, перепуганная насмерть, бросилась Варенька в гардероб и забилась в платья. Но уж поздно, нет ей защиты: крепкая, костлявая рука монаха нащупала ее, схватила ее там, вцепилась и, вытащив вон, кинула ничком на кровать.
И тогда хрустнула спина ее под навалившейся тяжестью черного креста.
Монах не уходил, монах, шурша своей ярко-зеленой шелковой рясой, расхаживал у шифоньерки, напевая старческим голосом барыню:
Ты, барыня-барыня,
Сударыня-барыня…
Не шелохнувшись, в смертельном ужасе лежала Варенька, не шелохнувшись, вниз головою лежала она и много больше ее роста во всю кровать деревянный темный крест, обшитый неровной зазубренной жестью, наседая, приплюскивал ее тело, и острый гвоздь креста царапал ей темя.
Ты, барыня-барыня,
Сударыня-барыня…
И в знакомом напеве слышались ей другие страшно знакомые, страшно близкие, такие близкие, такие верные, такие родные напевы. Надо что-то вспомнить ей, надо что-то сделать ей, непременно сделать, и уйдет монах, унесет свой крест. Ах да, в ту звездную зимнюю ночь, когда она бродила по сугробам вокруг пруда, заглядывала в черную дымящуюся прорубь, зачем она тогда домой вернулась, зачем она покорилась? И там тогда, в чужом диком доме за Большой рекой, зачем она, покорная, прожила свои пять лет и детей рожала, нежеланных проклятых детей? Нет, ей надо все поправить, сейчас же, сию минуту, и уйдет монах, унесет свои крест.
Ты, барыня-барыня,
Сударыня-барыня…
Гвоздь креста, царапая ей темя, скрипнув, резанул что-то мягкое и живое, гвоздь пробил ей кости и пошел вглубь по мягкому и живому, и защемило все сердце, искры прыснули из глаз.
Варенька стиснулась в комок, уперлась локтями и выскользнула из-под креста, выскользнула да к киоту.
Но уж поздно, нет ей защиты.
Монах с красивым лицом и рассеченной бровью, из которой тихо, капля за каплей, сочилась густая темная кровь, монах в ярко-зеленой шуршащей шелковой рясе стоял перед ней. Монах стоял перед ней, как распятый, крестом руки раскинув, и руки его – перекладины креста такие длинные, во всю комнату.
Нагоревший фитиль лампадки – красный камень, потрескивая, вздыхал.
Варенька выдернула шпильку, стряхнула нагар. Куда ей деваться? Где найти ей защиту? Нет ей защиты. По углам копошилось, липло, шуршало, всю ей душу тянуло, всю ей душу тащило с корнем, тащило с кровью, с мясом, с мозгом. Всю, всю ее щипало, и не осталось ни одного живого места.
И вдруг угарная волна хлестнула ее по глазам и закружила.
Минуту стояла Варенька в этой угарной волне – в уме смешалась: монах все стоял перед ней, как распятый, и тихо, капля за каплей, сочилась густая темная кровь из его рассеченной брови. Она схватила какую-то тряпку, панталоны, мигом, как кошка, вскарабкалась на гардероб, нащупала крюк.
«Здесь, здесь… так! – спешила она, привязывала к крюку тряпку, – уйдет монах, унесет свой крест! – спешила она, страшно спешила, завязывала петлю, – я уйду!» – и бросилась вниз с гардероба и в петле повисла.
– А! а! ах!.. Душат! – заорала не своим голосом Прасковья: доняли ее черти, и опять, но слабее, и опять, еще тише, и совсем затихла.
И вдруг словно оборвалось что-то, глухо раскатилось и ударилось прямо в стены, в красный финогеновский флигель, и, вздрогнув, задребезжали окна, – все сорок сороков звонили в пасхальный колокол пасхальный воскресный звон.
Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех
Живот даровав.
Коля с большою белой с густой позолотой свечою шел в крестном ходу перед батюшкой, облаченным в золотую кованую ризу, и сияло лицо его – вся тоска миновала, светилось лицо и сливалось сердце с сердцем пасхальных напевов, всколыхнувшись темную темь церкви.
И там посреди нищих, покаранных царей, стоял Он, Царь над царями в своих светлых одеждах и возлагал на понурые головы руки свои:
– Мир вам!
Глава шестнадцатаяБунт
В дом к Огорелышевым Финогеновы не зашли: будет, и завтра успеется!
Уж заря заиграла, и сад и пруд затучнелись голубым дыханием, будто захотелось и еще им понежиться в теплом сне, не знать пробуждения.
Распевая по двору, шумно подошли Финогеновы к своему дому, но едва достучались Прасковью: Прасковью всю ночь душили черти, подняться ей не стало мочи.
Всем собором с Прометеем подступили Финогеновы к двери спальни христосоваться с Варенькой. Туркнулись они в спальню – заперто, постучали погромче – ни звука, еще и еще раз – тоже. И стали они стучать кулаками и долго стучали.
Было тихо за дверью.
И они закричали в один голос, закричали не своими голосами, чтобы Варенька непременно отперла им двери.
– Отоприте, отоприте нам! – кричали они, надсаживаясь, и колотили и руками и ногами в дверь спальни.
Было тихо за дверью.
И они уж не знали, что еще делать, чтобы откликнулась Варенька, подала им голос, и, упираясь друг в дружку, сжались, стиснулись, надавили на дверь, и под напором хряснула дверь спальни, петли со звоном упали, и отворилась дверь в спальню.
Варенька – в одной сорочке на крюку, Варенька – побагровевшая с длинным красным языком из черного запекшегося рта, огромные белки в упор, скрюченные пальцы, синие ногти, – Варенька висела на крюку мертвая.
Первые проснувшиеся лучи лезли в окно спальни, ползли по комнате, алым красили белую сорочку и больно горели на пустой четверти, валявшейся на коврике у кровати.
Как под обухом, стояли Финогеновы, пригнув шеи, не переступали порога.
И вдруг задрожав всем телом до последних дрожей, ткнулся Женя и в припадке закусил курточку Коле, Коля вскрикнул и бросился к Вареньке, а за ним Саша и Петя.
Они набросились на Вареньку – спасти ее хотели! – они схватились за ее ноги, – спасти ее хотели! – они повисли на ногах, – спасти ее хотели! – и, повисая, откачнулись, как на гигантских качелях, и полетели.
И вышибло крюк, грохнулась Варенька на пол. А они – на нее, мертвую: они сделать что-то хотели, поправить что-то хотели, пробудить ее хотели, и толкали, царапали ее, с запыхавшимся сапом, – они спасти ее хотели!
Крошилась над ними штукатурка, падала с потолка. Прибежавшая на суматоху Степанида и приползшая нянька кричали озверелыми голосами:
– Караул! караул! батюшки, помогите! – кричали озверевшими голосами Прасковья и Степанида.
– Караул! караул! батюшки, помогите! – кричало далеко за прудом эхо.
Сёмин теленок мычал в сарае.
На крик повскакали фабричные, и комната битком набилась суетящимся людом и тупым криком. Одни выволокли Вареньку во двор и с гиканьем принялись качать ее – подкидывать, будто утопленницу. Другие дом шарили, рыскали по чердаку, засматривали под террасу – искали вора: ночной сторож Иван Данилов, ночью обходя дом, видел, как словно бы отскочил кто-то от Варенькиных окон.
На огороде с отдавленными хвостами выли финогеновские собаки – Розик и Мальчик.
И долго еще, до позднего утра шла суетня в доме, но поправить ничего не поправили и спасти не могли.
– По грехам нашим! – сердцем плакала Прасковья.
И начался Светлый день. Было душно по-летнему. Какой-то весь желтый и неулыбчивый, будто стиснув зубы, шел Светлый день. На колокольнях колокола бестолково звонили.
Подпил огорелышевский двор, загулял для праздника. После обеда фабричные спать не легли, а гурьбой пошли шататься по двору. Шатались, шатались, – пристанища нет нигде. Задевали друг друга, раз сто подрались.
Слесарь Павел Пашков, отец Машки, за которой Финогеновы когда-то жестоко гонялись, играя в избиение младенцев, растерзанный, с слипшимися волосами, злой и пьяный, с ножом бегал, стращал зарезать Финогеновых.
Подтрунивали фабричные над слесарем, дразнили: то за дрова ему покажут, будто там схоронились Финогеновы, – и он бежит туда, сломя голову, то в Колобовский сад, – и он лезет в сад. Нагоготались над слесарем, надоел он всем, в орлянку затеяли. Заиграли в орлянку, разгорячились, за сердце схватило и стенка на стенку пошла.
И загалдел огорелышевский двор, хоть караул кричи.
Арсений и без того злой, поминутно отрываемый от дела к праздничным посетителям, взбешенный, выбежал во двор и зашмыгал – полетел по двору прямо на стенку унимать драку.
И не крякнув, осела перед ним буйная толпа. Да Павел Пашков, весь растерзанный, с ножом, словно из-под земли вырос.
– Стой! – завыл он волком: дождался, ну, теперь уж зарежет.
И лежать бы Арсению без своего дела, лежать бы ему навеки! И вдруг что-то хлюпнуло, и тяжело ткнулся Павел Пашков в вязкую землю, а из пробитого черепа хлынула липкая кровь. С огромным поленом Андрей – управляющий еле дух переводил: спас хозяина.
Уж шмыгал-летел Арсений к своему белому дому, и все лицо его словно болело от злобы. А Павел Пашков лежал на земле и не двигался, и кровь так и хлестала, брызгала, липкая.
И вот зловещим гулом загудела толпа, и пошли один за другим, по крови вкруг крови, как в омуте струи, один за другим, и мяли и давили друг друга.
– Бей! бей! бей! бей его!
Помутневшие глаза, усталые, наполнились жизнью, и мозолистые руки, копотью прокопченные руки, поднялись над головами.
– Бей Огорелышевых! бей отродье поганое! бей его! – как надругались бы они, как напотешились бы, дай только волю. И вот она воля! Они вытянут жилу за жилой, растащут по косточкам за каждую слезу, – так много слез в эти камни ушло, этим прудом выпито, этим дымом разъедено. За каждый свой день, за каждую ночь, за каждый час, за каждую минуту – так много по миру пошло и в больницах померло и доживает последние дни.
– Бей! бей! бей! бей! его!
– Тащи Игнатия!
– Лупи его, лупи змею!
– Антихриста!
Один за другим, по крови вкруг крови, как в омуте струи, один за другим шли фабричные, и гул толпы переливался в рев.
И вдруг фабричный свисток, как полоумный, на крик засвистел и с двух концов затопали кони. И зачернелся желтый день хлесткой нагайкой, хлесткая, согнула она и эти поднятые руки, и эти жилистые кулаки и словно метлой вымела взбунтовавшийся огорелышевский двор. И только в корпусах долго еще бабы вопили да ребятишки плакали.
Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех
Живот даровав.
О. Глеб служил панихиду над Варенькой, такую непохожую, пасхальную. Но было тихо в доме, не по-пасхальному. Свечи горели душным огнем и дымились. И, алея, гасли вместе с вечером спущенные на окнах белые шторы.
– Вы, ты, ты! – взвизгнул Арсений, вбежавший в зал к Финогеновым, растрепанный, испачканный кровью и грязью, – вы, на моем дворе! специалисты! на дворе, из-за вас бунт, специалисты! мать из-за вас… мать довели! И я, да, довели мать!
– Да запретит тебе Господь! – сказал старец и вдруг выронил свечку и, простирая посиневшие руки, упал у гроба, а пальцы его мышами забегали, ловя что-то по полу.
Арсений хлопнул дверью и выбежал вон; все лицо его словно болело от злобы.
И когда послушник Пирский увел отдышавшегося о. Глеба назад в монастырь, в белую башенку, нагрянула к Финогеновым нежданная ночь.
Над Варенькой всю ночь читалась псалтирь, читал Саша своим затихшим, в душу проникающим голосом, Петя, Женя и Коля, точно схваченные тугим обручем, стояли, не шелохнувшись и не оглядываясь: по стене сновали тени – это ли желания несказанные или жизнь не изжитая? – и кто-то, казалось, тихонько сзади подкрадывался и стоял за спиной близко. Свечи мелькали, и вата, закрывавшая лицо Вареньке, чуть подымалась, и давила сердце тоска смертельная.
Нет, не приходил Он, светлый и радостный, не говорил скорбящему миру: Мир вам!
Глава семнадцатаяНа цветы
Унесли к Покрову желтый гроб, навсегда унесли Вареньку из красного финогеновского флигеля. Забили гроб черными гвоздями, и опустили Вареньку в вымерзший огорелышевский склеп к матери к Ефросиний преподобной и к самому Николаю Огорелышеву. Больше уж не вернуться ей на огорелышевский двор.
В кухне справляли Финогеновы поминки, Сёминого теленка зарезали – пригодился. Степанида и Прасковья распоряжались, помогала Арина Семеновна-Эрих: и кутья была, и блины пеклись. Попозже зашла помянуть Душка-Анисья с племянником, с Егором-Смехотой, да Кузьма-дворник. Вспомнили тут и мертвую грамоту, кому тогда под Покров Сёма-юродивый смерть пророчествовал, и уразумели, зачем Сёма в Великую Субботу пол мыл.
Прометей напился до своей гармоньи, но поиграть ему Прасковья не дала, спрятала гармонью, и он ушел по обыкновению куда-то домой. Петя, только один плакавший на похоронах, в лежку лежал, а Коля без умолку смеялся и все в окно хотел выброситься, не почему-либо, а так, просто так выброситься. Саша один ничего не пил, Саша никогда не пил, и все Колю уговаривал лечь и успокоиться. Женя после блинов заснул.
Наутро вызвали Финогеновых к Огорелышевым. Вниз в контору вышел к ним Игнатий. Глядя куда-то в сторону, словно после воскресной проверки финогеновских подделанных балльников, Игнатий объявил им свое огорелышевское решение об их участи: все остается по-старому, Финогеновы будут жить в своем красном флигеле, пока не устроятся, но если поведение их вызовет нарекание, придется принять строгие меры – удалить их.
С тем и ушли Финогеновы начинать новую жизнь без Вареньки. И сорок дней еще было как-то не по себе им, помнилась пасхальная ночь, и словно где-то близко от дома все еще ходила Варенька, но с сорокоуста улеглось, и все в колею вошло. И пошла жизнь своим чередом от дня до ночи и от ночи до дня, под надзором огорелышевского управляющего: Андрей-Воробей приходил к Финогеновым каждое утро и отдавал приказания.
Никаких ночных стояний, никаких акафистов больше не служилось наверху в детской. К удовольствию Алексея Алексеевича все само собою кончилось.
Должно быть, смерть Вареньки и все последние события так резко изменили Сашу: куда-то исчезла вся его кротость, и в голосе не слышалось ни боли, ни задушевности, и к Коле он переменился, не было уж прежней нежности.
Кончил Саша гимназию и ни в какую пустынь не удалился, а поступил в университет. Сашин подрясник-халат Прометей, донашивал, триоди назад пошли к Покрову священнику Сергею Семеновичу. На лето Саша достал себе уроков и дома редко бывал: днем на уроках, вечерами у Алексея Алексеевича. За какой-нибудь месяц Саша очень близко сошелся с братом Алексея Алексеевича, Сергеем. О Сергее Молчанове Финогеновы и раньше слышали, как о человеке необыкновенном, который и в тюрьме сидел и знает куда больше самого Алексея Алексеевича, и которого Арсений называл по-своему насмешливо специалистом, что означало революционер.
В душе Коли тоже будто передвинулось что-то. Заметил Коля, что игрушечные звери и зверушки уж не владеют им, как раньше, и он не трясется над ними и во всякую минуту готов расстаться даже с пасхальным зайцем, даже с медведюшкой. Да так оно и вышло, – роздал Коля фабричным ребятишкам все свои игрушки, и столик его опустел. А как-то после последнего экзамена, прибираясь, начал Коля уничтожать ненужные тетрадки и так увлекся, уничтожил свое тайное тайн – свои дневник, посвященный Верочке, и в столике пусто стало. И если бы случился теперь пожар, Коле незачем уж было бы в огонь бросаться, – ему нечего было спасать.
Мало, кажется, изменился Петя и Женя. Петя по-прежнему был мечтательный и влюбленный, Женя по-прежнему смотрел букой.
Летом Пете исполнилось семнадцать лет, а в гимназии оставалось ему еще два года – с грехом пополам перевели его в седьмой класс, Женя и Коля будущей весной должны были кончить училище.
Без Саши, все больше и больше отходившего от братьев, Петя, Женя и Коля теснее зажили и теперь на них на: троих перешла кличка огорелышевцев за их финогновское оглашенство и олаборничество.
Как когда-то на могилу к дедушке – к самому Николаю Огорелышеву, изредка заходили Финогеновы на могилу к Вареньке и, по привычке, подымались в башенку к о. Глебу. Боголюбов монастырь больше не занимал их.
В кухне Финогеновых со смерти Вареньки постоянно толклись гости: гостила Степанидина дочь Авдотья-Свистуха, сестра Прасковьи Арина Семеновна-Эрих только что на дежурство уходила в свою богадельню, и часто ночевала кормилица Жени порченая Катерина-Околелая лошадка.
Наслышавшись от Катерины о хождениях ее на богомолье по всяким дальним монастырям, Финогеновы тоже задумали идти на богомолье и куда подальше. Сначала ходили они в Лавру к о. Гавриилу, а потом и за Лавру, в старинный заброшенный Спасо-Караулов монастырь.
Заберут Финогеновы Прометея, мешок сухарей, бутылку водки и уходят из дому на свое богомолье, как пчелы на цветы.
Ясно глядело на них открытое небо, слышно лес шелестел листвою, и царапал их ветками, и трудил ноги корнями, а поле колыхалось перед ними – свои цветы колыхало и травы, веяло широким полевым своим веяньем, будто смеялось, будто и плакало, да так смеялось, да так плакало, лег бы на землю, обнял бы землю и никогда и никуда не ушел бы. Лесные овраги ночлег им готовили. Проливной дождь спины им сек, солнце палило кожу, – загорелые лица их. А кругом круг непроторный, незатоптанный, даль широкая, да такая широкая, и хотел бы обнять, и ни глазом, ни ухом не обнимешь.
Все было внове для Финогеновых – и поле, и лес, и так много неба.
В Спасо-Карауловом монастыре останавливались Финогеновы у о. Никиты.
О. Никита-Глист, бывший Боголюбовский иеромонах, тощ и костляв, трясущаяся седенькая бороденка, вытаращенные мутные глазки, и голый без всякой пушинки череп с синей жилой поперек лба. А известен был о. Никита своей чудодейственной неколебимостью: после гаврииловской перцовки, как с ног уж валиться, выпьет, бывало, еще и в свежие силы придет.
– Келья о. Никиты крохотная, вся в перегородочках. Над трапезным его столом лубочная картинка: краснощекая румяная баба в кокошнике и кумачном сарафане, и все чересчур уж дородно, и только вместо ног – чешуйчатые желтые гусиные лапы. Подпись: Блудодеяние.
И это любимое Блудодеяние всегда являлось поджигающей искоркой для келейных воспоминании и рассказов вообще.
Поглаживая одной рукой бороденку и размахивая другой, увлеченный собственными рассказами, о. Никита при ходил в неописуемый раж и всякий раз непременно ронял на пол рюмку.
– Монах – дурак! Монах – дурак! – бессмысленно высвистывал Никитин скворец, выпрыгивая на шум из-за перегородки.
И все покрывалось хохотом, далеко разлетавшимся за ограду.
В Спасо-Карауловском монастыре вся братия принимала Финогеновых приветливо: в развлечение им были Финогеновы. Кругом монастыря глушь, о жилье и помину нет. Устав – скитский: женщины в монастырь доступа не имели, и было всего два-три праздника в году, когда разрешалось женщинам входить в ограду. Подростков братия особенно любила. И в монастыре много было мальчиков монашков, составлявших удивительно стройный хор. В шутку старшие звали этих мальчишек именами женскими, и не на шутку бывала в монастыре перепалка из-за мальчишек.
– Есть у нас Сарра, – как-то ухмыляясь, подмигивал о. Никита на Блудодеяние и крякал, – Сарра, бестия, голос херувиму подобен, а лик блудницы… Иеронимка с Нафанаилком блудники, из-за мальчишки намедни поцапались, а он себе знает, бестия… Сарра!
В Спасо-Карауловском монастыре Финогеновы заживались по неделям. От постной пищи начинало сосать под ложечкой, тянуло в город, и они возвращались домой.
Возвращаясь домой, дома под дверью, настигни ночь, и всякий раз долго приходилось Финогеновым стучаться.
Прасковья высовывала голову в форточку и спросонья никого не узнавала.
– Кто вас разберет, девушка? – говорила в форточку Прасковья, ровно плакала, – может, вы и воры аль разбойники!
– Маменька, отопри Христа ради, голубушка, жрать больно хочется! – жалобно, егозя просил Прометей.
– Мало ли что! – уж сурово отвечала Прасковья, родного сына не узнавая, – и кто о такую пору шатается? Слава Богу, дом – не постоялый двор! – голова ее скрывалась и после томительного ожидания появлялась в форточке одна рука, – прими, девушка, копеечку, Христа ради, и иди подобру-поздорову.
И снова подымался стук, и на упорный стук снова отзывалась в форточку Прасковья и по-прежнему безнадежно.
И только когда подходил Прометей к самому ее носу и вертел лицом и ощеривался, Прасковья вдруг узнавала своего Митю-Митрия раба и спешила отпереть дверь.
– Идите, девушки! все ли подобру-поздорову? Бог милости прислал, Прасковья, – отвечали Финогеновы, уж отчаявшись в дом попасть.
На следующий день после богомолья, проспавшись, Коля брался за свои книги, а Петя и Женя садились играть в карты, и весь день играли в любимую свою игру – в короли. С ними играл Прометей, Эрих и Прасковья и очень редко Степанида, считавшая карты – грехом смертным.
За картами шла плутня и редко обходилось без ссоры.
– Институтка, – подтрунивал Прометей над теткою своей Эрихом, – подвали, брат, туза!
– Сам ты шестерка, отшельник! – шипела в ответ Арина Семеновна, часто сидевшая в солдатах и платившая дань принцу – Прометею.
Эрих проклятый, институтка! – не унимался Прометей, и кончалось тем, что Арина Семеновна, готовая выбросить его вон за шиворот, бросала карты.
Арина Семеновна, безропотно принявшая финогеновское крещение Эрихом, обижалась на Институтку. Институткою же звали ее и за ужимкость ее и за то, что до богадельни долго служила она в институте уборной горничной.
Последним чином – отходником почти всегда выходила Прасковья и платила дань Пете или Жене – королю, и за это много над ней потешались.
Покорно вздыхая, надевала Прасковья свои огромные медные очки и усаживалась за штопанье, а штопанья с каждой стиркой прибавлялось: белье у Финогеновых все было или такая рвань, совестно при других раздеться, или в заплатах.
Вечерами Финогеновы отправлялись или на бульвары – на музыку, или ко всенощной – к храмовому празднику. Церквей в городе было столько, сколько гордовских будок, если не больше, и уж редкий день где-нибудь да не праздновали храм.
В церковь к празднику и на бульвары уходили Финогеновы уже не как пчелы на цветы, а как шмели какие-то.
За всенощной время проходило весело: с большим трудом протолкавшись к амвону, повертывали Финогеновы обратно к паперти, а дойдя до самых дверей паперти, толклись опять к амвону, и при этом действовали вовсю – и давили на ноги и локтями работали.
– Бешеные! – огрызались на них молящиеся, – бешеные огорелышевцы!
А это подбавляло Финогеновым еще большей прыти, огрызались и переругивались, и незаметно, будто только по неосторожности – за давкою, пускали в ход кулаки.
Весело бывало за всенощной у праздника, а на бульварах на музыке еще веселее.
Как когда-то к Покрову к службе, забирались Финогеновы на бульвары спозаранку. На бульваре еще, кроме детей, играющих на песке, нянек да одиноких прохожих, никого не было, и Финогеновы слонялись по аллеям. Но скрывалось за дома солнце, запирались магазины, натягивал капельмейстер белые перчатки, помахивал палочкой, и за палочкой играла музыка, приманивала гуляющих, и аллеи затоплялись шляпами и шляпками. И ночь зажигала по небесным полям свои светляки-звезды, а по уличным мостовым фонари и, все перемешивая, залегала над городом, отравленная дымом и непокойная. И все перемешивалось, растягивался бульвар в шумяще-крикливое, расползающееся чудовище. Цветы, мыло, пот, духи, незалеченная болезнь пропитывали бульвар своей горькой отравою.
Финогеновы, не отходившие от эстрады, словно привороженные палочкой капельмейстера, с тьмою выбирались на главную аллею. Короткие и изодранные их шинели бархатила сгущающаяся тьма – баловница из баловниц и потворница из потворниц. На главной аллее, шныряя не хуже мальчишек-бутоньерок, они не пропускали ни одной женщины: они стаей ходили по пятам и приставали.
Сколько всяких знакомств завязывалось у Финогеновых за вечер! Как им было приятно заговаривать, брать под руку и совсем просто и легко, без особых стеснений, таких нарядных и, должно быть, среди бела дня таких недоступных!
Железная дорога – попурри из русских и цыганских песен, и капельмейстер под треск и хлопанье, и гик, и свист мальчишек, унизывающих выступы эстрады, прятал свою палочку, и бульвар редел.
Озираясь, не попасться бы из учителей какому, после музыки направлялись Финогеновы тут же в бульварную пивную. Голодные, не спеша, чтобы побольше съесть сухариков, воблы и всякой даровой дряни, пили они жиденькое дешевое пиво. Но до капельки выпивался весь стакан, запирали пивную, и Финогеновы опять на улице.
Куда идти? Домой? А домой им так не хочется.
И медленно через все бульвары плелись они домой на Камушек и дорогой подымали содом: и пели и опять приставали к прохожим женщинам, то с легким разговором, то прося книжку показать желтый билет.








