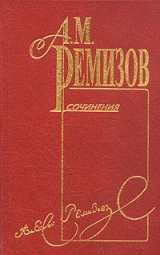
Текст книги "Том 1. Пруд"
Автор книги: Алексей Ремизов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 41 страниц)
Котик беленький – хвостик серенький
Назначенная в Николин день отправка этапа была отменена. Петр, Евгений и Алексей Алексеевич даром проторчали на вокзале и ничего не дождались, и пожар пропустили, так и не видели пожара.
На следующий день они снова дежурили на вокзале и поздно вечером видели в толпе арестантов Николая, но подойти к нему их не допустили, и они стояли и только смотрели. И тронулся поезд, потух, скрылся из глаз зеленый огонек вагона и замер стук колес, и опустел людный неприветливый вокзал, а они все стояли.
Только когда сторожа принялись подметать платформу, медленно подкатил товарный поезд, они вышли на путь и пошли домой по шпалам.
Шли они угрюмо и молча, было у каждого на душе столько сказать! Как вдруг дорог им стал Николай, как необходим, как близко его почувствовал каждый. Николай был для них чем-то светлым в их сумерках, каким-то вдохновением среди буден, заваливающих своими отупляющими мелочами, Николай был для них той радостью, какая живет у взрослых к подрастающему ребенку, надеждой на какой-то новый, лучший мир, который придет с ним, который он даст им.
Так они в эти минуты чувствовали, таким представлялся для них Николай. И, вспоминая дни, прожитые вместе и те отдельные минуты, которые глубокой бороздой полегли в душе, каждый чувствовал на них его прикосновения.
– Почему судьба у нас отрывает самое дорогое? – заговорил Алексей Алексеевич.
Бешено во весь дух с оглушительным звоном промчался мимо весь трепещущий поезд, земля колебалась.
Молча шли они по шпалам.
Уж забелел Боголюбов монастырь, кончался мост. Надо было спуститься с крутого откоса и подняться на монастырскую гору. И они, как когда-то в дни о. Гавриила, выстроились в ряд и разом наперегонки пустились вниз и, не передыхая, вбежали на гору,
Шли по знакомой белой стене. Около каменной лягушки остановились. Казалось, огромные заплеванные лягушачьи бельма, освещенные тихим красным лучом белой башенки, плакали.
– Не зайти ли к старцу? – предложил Евгений, – давно мы не были у старца.
Но час был поздний, привратник Сосок не пропустит, и они решили в другой раз и непременно: о Николае сказать надо старцу, старец так любил Николая.
Пошли ходчее, от дома им недалеко было: жили они вместе, но уж не в Бакаловом доме, а в переулке в доме Соколова.
В позапрошлом году, когда еще Николай был на воле, Евгений женился, родился у него сын, а жена после родов померла. Смерть жены словно прихлопнула его, оробел он, затих как-то, и без того тихий. С утра до позднего вечера просиживал он в Огорелышевском банке, гнулся за работой с постоянной палкой за спиной – постоянными помыканиями и придирками.
Квартиру нанимал Евгений. У Евгения жили Петр и Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич целый день на уроках корпел. Петр, зиму прослуживший в театре, теперь ходил без места и до осени ничего не предвиделось.
– Ну, проводили отшельника? – встретила, поводя табачным носом, Арина Семеновна-Эрих, навещавшая Евгения за его Костей присмотреть.
– Проводили! – махнул рукой Петр, – проводили, Эрих!
Евгений лег спать. Петр и Алексей Алексеевич долго не расходились.
Алексей Алексеевич присаживался несколько раз к пьянино, говорил, будто голос все слышит, и такой, до костей мороз пробирает от звуков, что повивают, растят и снуют этот голос.
Все, и эти книги, бережно расставленные по полкам, книги, которые так любил Николай и которые так дорого доставались ему, и этот старенький столик, перевезенный сверху из красного флигеля и затем из бакаловского дома в дом Соколова, все напоминало о Николае. И когда, наконец, погасили лампу, сон не приходил, не могли заснуть: было одиноко и жутко сиротливо.
Ворочался Петр, думал о той полосе, по которой идти рука показала, о своем актерстве и театре. И то, что тревожило его, всплывало теперь, будто шальная искра воспламенила круг его мыслей. Непонятным казалось ему, для чего и для кого был театр, и зачем он играл?
Мелькнул битком набитый зрительный зал, скучающие лица, лица, потерявшие всякий образ и подобие Божие, а там на верхах в черноте рой пчелиный. Хлопки, вызовы. И вот ликование всякой бездарности, увенчанной венцом легкого сочувствия, бесшабашного браво и таким еще невинным, горячим восторгом непорочных верящих глаз, для которых все искрится, ибо сами – одна искра. Мгновенный успех, мгновенное царство, дешевое царство.
Тут, пошлейшая душа ведет свою роль. А для этого и сочиняется театр – публичный театр увеселений и ходульного нравоучения. И нет нигде такой страшной давки, такого беззастенчивого оголения, как среди своих актеров. И эта косность, избитые приемы, затверженные шаблоны, штампы…
И представилось Петру то, о чем мечталось в жгучие минуты одиночества: исполнит театр свое назначение, дойдет до своей белой вершины, станет великим действием. Театр – обедня, где и актер и зритель сольются в великом акте божественного таинства…
– Господи, сделай так, чтобы я верил, сделай так, Господи, – просил Петр, не веря, что придет что-то лучшее на смену мерзости и запустению, и вдруг ослабел, стал жалким, изолгавшимся, завистливым, как те… его товарищи, и открылась пустота, одни и те же дни, бессмысленные, ненужные…
Вспомнилось Петру, как осенью на репетиции он подвыпил и с расшату попал в купель с водой, которую держали на случай пожара, а на последнем спектакле перед самым выходом задержался в буфете и набросившемуся антрепренеру кукишем наковырял нос…
Петр сдернул одеяло, приподнялся на кровати. В окно заглядывал голубой ранний рассвет.
Проснувшийся Костя хныкал. Арина Семеновна-Эрих укачивала Костю, напевала старческим усталым полуголосом колыбельную:
Котик серенький,
Хвостик беленький…
Напевала старуха долго все одно и то же. И заснул Костя. Взошло солнце. И ударили в Боголюбовом монастыре в постный колокол. И звонили в Боголюбовом долго все одно и то же, словно Эрих пела:
Глава одиннадцатая
Котик серенький,
Хвостик беленький…
Эпитафия
Путаная и темная история разыгралась в Боголюбовом монастыре на первые дни Петровок: Боголюбовскому старцу о. Глебу запретили исповедовать.
Пошли по городу суды да ряды.
Верные люди клялись-божились, будто сам Боголюбовский преосвященный о. Евтихий-Каиафа в этом деле кругом беспричинен, а причинное место в синодском указе. Указ вышел по доносу. В доносе говорилось, будто о. Глеб, «главный еретик, богоборец и ругатель, богоборно и злочестиво дерзнул глумиться и кощунствовать над Богом в Троице славимым, поверг Его обвинению и осуждению, а Иисуса Христа уподобил отменнику самодержавной царской власти». Донос исходил от соборного протоиерея о. Семизорова, знаменитого проповедника, миссионера и большого искусника по части прививки оспы: учительствуя в образцовой школе при епархиальном училище, протоиерей прививал оспу так ревностно, что какая-то епархиалка не то родила, не то повесилась. И об этом, где надо было, знали, и все-таки Семизоровскому доносу поверили.
Правда это или нет, только в первую же пятницу духовником назначен был вместо о. Глеба Боголюбовский казначей о. Самсон-Пахмарный – гладкий, раскаряченный, с обваренным лицом иеромонах, давно зарившийся на эту весьма доходную халтуру.
О боголюбовской истории Петр и Евгений узнали от Арины Семеновны-Эриха: ходила старуха Костю причащать, все и вынюхала. И решили они возможно скорее, не откладывая в долгий ящик, проведать старца. А тут как раз письмо пришло и посылка от Николая, только что окончившего этап и водворившегося в Великом Веснебологе.
В воскресенье Петр и Евгений отправились в Боголюбов к обедне. В собор они не зашли, а прямо в башенку к старцу.
У старца сидел в гостях о. Гавриил и рассказывал что-то о политике, патриотическое. Старец с какой-то бессильной грустью улыбался из своего глубокого кресла, и как обрадовался, когда услышал знакомые голоса, так давно не слышные в его тесной сводчатой келье.
А о. Гавриил, Бог весть когда видевший Финогеновых, но знавший все злоключения их, по сану своему сделал вид, что не узнает старину и стал говорить в нос.
Старец велел послушнику подогреть самовар. И за самоваром пошли расспросы и воспоминания.
Забылся о. Гавриил, забыл свою важность и, напав на свой старый любимый разговор, брал то у Петра, то у Евгения руку, жал суставы и, угадывая по твердости кожи таинственное что-то, блуд какой-то, прикусывал себе губу…
– Похудал, похудал, душечка, – покачивал о. Гавриил своей курчавой головою, – иссосут они, Петечка, тысячи, как пчелы самые голодные.
И вся келья хохотала до упаду.
– Стой, о. Гавриил, стой! – спохватился Петр, – эк ведь, право, главное-то и забыл! – он достал из-под шляпы сверток и стал бережно развертывать.
Скоро в руках его очутилась продолговатая серая коробка из-под конфет, перевязанная крест-накрест тоненьким красным шнурком, концы которого сливались в красной бумажной печати, от печати по крышке к краям разбегались бисерные буковки – почерк Николая.
– Эпитафия! – провозгласил Петр, держа перед собой конфетную коробку, как держал когда-то за амвоном тяжелый Апостол.
Притаились. О. Глеб тихо улыбался. Петр продолжал:
– «Мир тебе, неустрашимая коробка с красной печатью! До последнего дня этапа ты сохранила гордость и неприступность и победно окончила долгий и трудный путь. Что за вкусные сласти несла ты! – „Коробка с печатью“! – гордо говорил я, когда меня потрошили, и мои, переполненные папиросами и карандашами, карманы пустели. Ни один тюремный палец-щелчок не дотронулся до тебя, и с благоговением опускались пред твоей красной печатью начальственные головы. Одних ты испугала, и они притихли, других заставила отдернуть руки прочь, меня же ты обрадовала, и когда щелкнул замок моей камеры, и мы очутились с тобою глаз на глаз, ты распечаталась, и я закурил. Чуть стуча, кто-то ходил в коридоре. Дремал вечно-сонный волчок. Папироса за папиросой – дым на всю тюрьму! А помнишь, с меня стащили брюки, чулки… но к тебе… Довольно было одного моего напоминания: „Коробка с печатью!“ – и тебя бережно поставили на зеленое сукно. А меня оставили босым на каменном полу. В камеру тебя, такую маленькую, обеими руками понес сам старший… „Их нет!“ – шепнул я, когда мы остались одни, и тотчас ты развернулась и положила мне на стол бумагу и карандаш. Но потом, на свободе, ты тряслась всеми своими нитями и бумагой от хохота над миром, над тем миром, где красная печать ценится выше человека. И горько мне стало за душу человеческую».
О. Гавриил долго, сначала с благоговением, потом кряхтя и сопя, рассматривал коробку, дул на печать и протирал ее пальцем и, окончательно опешенный, прервал наступившее молчание:
– Батюшка, о. Глеб, как же это так, ведь печать-то Ильи Ивановича… их фирмы… их кондитерская…
– Кондитерская! – поднялся общий неумолкаемый хохот.
И долго бы еще кусал себе губы и охал о. Гавриил под заражающий хохот, если бы не старцев послушник: послушник принес тройную трапезу.
И принялись всем собором подкармливать о. Гавриила.
Появившаяся водка быстро иссякла.
– Душечка, душечка, – уж лепетал о. Гавриил, – Илья Иванович достиг, можно сказать… пост… главнокомандующий, у! как пчелы, шмели самые этакие… иссосут!
– Жри, Гавриила, жри!
– Мартын-Задека… Женечка, иссосут, а ты, Петечка, станешь беспокойство испытать, пучок преломи… преломи пучок…
– А ты сам преломил? – поддразнил Евгений.
– Я… я… – разжевывал о. Гавриил, – преломил, душечка, Мартын-Задека, Женечка, а намедни, душечка, из трапезной выхожу, а кормилица ко мне… Дуняшка с предложением. Матушка, говорю ей, не могу я… не вытерпишь: семь вершков.
– Жри, Гаврила, жри!
– Семь вершков, – разжевывал о. Гавриил, – я… я… семь вершков.
О. Глеб, минуту назад такой веселый, сидел среди дыму, духоты и непристойностей, такой утомленный и одинокий.
– И стало мне горько за душу человеческую… – явственно прозвучал вдруг его кроткий, глубокий голос.
И вмиг рассеялся шум, только серый день глядел в окошко, да, наклонившись всем туловищем к тарелкам, сладко посапывал о. Гавриил.
– И разве знает человек, – продолжал старец, – за что человека гонит, но гонит… до самой смерти, и душа его каменеет, и нет тепла в ней, нет света, задыхается, чует свою гибель, и гонит… А по-другому ему не дано жить.
– О. Глеб, – прервал Петр, – ну какая это жизнь… родишься на свет, с пеленок словно ошпарят глаза тебе, а потом идешь без дороги под пинками… и куда идти!..
Старец ласково взял Петра за руку и снова стал таким безмятежным, как ребенок. Старец рассказал о боголюбовской истории, о той беде, которая стряслась над ним. Старец видел в беде своей перст Божий, избрание: приходит беда не карой, а испытанием, и только она раскрывает человеку затемненные глаза, погруженные в мимолетное и близкое, а со скорбью крылья растут и подымают на выси, откуда невидное видишь и то видишь, что подлинно мечет и гнет человека, – не кулак брата твоего, не меч ближнего твоего, а долю, тайной нареченную.
– Прими ее кротко, всем сердцем, всю до конца, благослови ее и увидишь путь!
Проснувшийся о. Гавриил бессмысленно уставился в окрошку и, растягивая слова, укорял кого-то:
– Семь вершков… семь вершков! – и, укоряя, твердил, покачивая кудрявой головой, – преломи, преломи!
Так много припомнилось и так много забылось.
Уж кончилась вечерня, уж привратник о. Алфей-Сосок, гремя ключами, прошел к воротам, а келья отверженного старца не унималась. И часы били, – гости не замечали боя, и заходило солнце, – гости не видели заката.
Глава двенадцатаяМара
В Великом Веснебологе, где волей-неволей, а пришлось Николаю начинать новую жизнь, в древнем суровом городе преполовилось лето. Пустяки, всего месяц прошел веснебологской жизни, а было так, будто каждый новый день вколачивал гвоздь в дверь его дома, заколачивал, ровнял ее со стеной, и чем больше гвоздей уходило, тем жарче раз горалось желание уйти из дому, а как уйти?
Древний белый собор, опоясанный белой зубчатой стеной в темных прогалинах каменных мешков, с колокольней, увенчанной тусклым, мягко-играющим золотом, гремящей в праздники своим красным звоном, такой одинокий и в своем одиночестве гордый и несравненный, стоял, как стоял еще при Грозном, поверх скученных низких домиков и всякого громоздкого черного жилья, и виден был со всех концов, покуда глаз хватал. И из окна мезонина с пустынной окраины, где поселился Николай, и оттуда был виден древний собор.
А старые березы с ветвями-крыльями, поникшими в густую старую крапиву, огненно-малиновые собаки репейника, вздрагивающая холодная река, все жалось, ползло, подплывало к крепкой стене, выдержавшей стойко бунтарское время – мятежный год.
Николай попал в среду таких же силой оторванных, прошедших через тюрьму, ссыльных и невольно должен был соединять жизнь свою с их жизнью.
Ссыльные приняли его сердечно и участливо, такой встречи он и не думал найти, даже неловко было. Он ничего не сделал и ничем не заслужил их участие. И это подняло ему дух.
«Нет, – думал он, – есть еще Бог, жив Бог в сердце человеческом, и человек не потерян».
Подлинно, что-то новое начиналось в душе его, и вся огорелышевщина шелухой отпадала. Но пришел завтрашний день, будни – беспощадные будни, сдувающие лепестки с нежного цвета и разрушающие самое милое лицо. Из-за сердечности и участия глянуло вдруг иссушенное лицо сурового устава: оно не грело, а приневоливало, не радовало, а сковывало сердце.
Чем больше знакомился Николай с своими товарищами, тем яснее видел, что люди эти, издерганные и загнанные, устали друг от друга, окружили себя сектантской стеной нетерпимости и взаимного подозрения, и, как все, полны человеческих слабостей, лишь скрытых подчас теми высокими и самоотверженными готовностями, о которых мечтаешь в свои жгучие благородные минуты, но, главное, все очень уж скучные в обиходе житейском, не у дел, без дела. Конечно, были и исключения, но общее впечатление от товарищей осталось у Николая прежде всего как от чего-то очень скучного.
И пошли будни, медленно, изо дня в день без всякой перемены, мучительные в своем однообразии, – попонное терпение.
Против бойниц древнего собора, построенных еще Грозным, стоял покосившийся простой деревянный домик, и в этом домике – колонии ссыльных вершились всякие судьбы.
Ссыльных в Великом Веснебологе было человек до пятидесяти. Больше держать в городе запрещалось, и вновь приезжающим указаны были уезды, глухие и замкнутые.
Пятьдесят человек без того дела, которым жили на воле, без дела и без средств к жизни. Какая-нибудь грошовая работа и тупая, отупляющая скука или ожидание работы и гнетущая праздность и озлобление. И одни и те же люди – товарищи по беде, неизменно одни и те же лица, как навязчивые призраки, и по улицам и в домах.
Так как каждый цеплялся за свою петлю – за убеждение свое и разжигал его воспоминанием и засвечал ему царский самодержавный венец, то, сходясь друг с другом, ссыльные начинали всегда один и тот же разговор, а с разговором выходили одни и те же споры. Каждый слушал только себя, и, подхватив какое-нибудь слово своего противника, выворачивал, мял это слово, приплетал к нему целую историю и уж в таком виде бросал назад, до личных оскорблений.
Из пятидесяти выдвигались вожаки: вожаки притягивали к себе более податливых и слабых и те поддакивали им, гикали сплоченной слепой оравой.
Каждое собрание ссыльных казалось собранием злейших врагов. И в конце всяких споров редко не возводили друг против друга самые тяжкие обвинения и прибегали к самым последним издевательствам. Со скуки и на стену полезешь!
Немалый раздор кипел около ссыльной кассы.
Надо было устав положить, а как его положить, чтобы все довольны остались и все было бы по справедливости? Собирались, толковали-перетолковывали, а в заключение торжествовали самые полицейские меры: всякие налоги и надзор.
И опять подымалась ссора и озлобление. Нередко прибегали к товарищескому суду. Судили за все, за что только ни вздумается, за всякие пустяки, но первым обвинением всегда являлось подозрение в предательстве.
Предпринимались расследования, возникали комиссии. Одна комиссия сменялась другою. Велся самый настоящий судебный процесс.
Скрытая надоедливость друг другом и тягота близости, в которую насильно втиснуты были несколько жизней, точили скуку. И с каким нетерпением ждали часа, когда снимут, наконец, запрет, и дорога ляжет скатертью.
И каким дорогим и соблазнительным казался вокзал, а те, кого принимал он на свои рельсы, какими счастливыми! И все бы забыл, только бы вон, вон из этой взаимной травли, скуки и ненужных веснебологских дней – полонного терпения.
Николай давал себе зарок жить отдельно, не встреваться ни в какие истории, и не мог выдержать. Нет-нет да и ввернется. Да и трудно было, как-то само собой думалось об общих интересах и о тех событиях, которые произошли с кем-то из товарищей, и, не желая вовсе, становился он то на одну, то на другую сторону. Втюрился, наконец, в какую-то историю сплетническую и нехорошую, и уже всякий зарок пропал.
Оставаясь один, Николай прислушивался к самому себе, ждал нового голоса, который должен был вырасти в этом изводящем подневолье и путанице, и ничего не слышал, – было печально на душе и затаенно. И угнетало предчувствие новых бед и горьких падений.
В покосившемся домике – колонии ссыльных сквозь задернутые белые занавески помигивал зеленый бледный огонек. В домике спорили и решали. В домике в вечерние часы находилось и свое дело и свой путь, своя жизнь и своя смерть.
И приходила не темная, беспокойная, белая – медная северная ночь.
Упоенное зорями небо, казалось, подымало из речной глуби белые ограды, ставило их круг земли Веснебологской. Белый без света выходил месяц, тянулся, как калека, к крохотной одинокой звездочке.
И зоркие птицы, как черные молнии, молча летели еще дальше на север.
И из дневного гомона, дневной суеты, дневного преступления, расстилавшихся над городом, вставала Мара бессмертная, бездольная, проклятая от рождения: корчились все ее члены, перевитые, будто шелковинками, красными нитями незаживающих ран, а заплаканный рот судорожно кривился, и вылетали мучительные вопли из сдав ленного горла.
Выкрикивала Мара безответные обиды, и по миру пущенные слезы, и слезы, тайком пролитые, и слезы, проглоченные под улыбкою, бесприютная, бездольная, отчаявшаяся от рождения.
И казалось, растворялись резные ворота белого Веснебологского собора, выходили в чешуйчатых кольчугах воины, белоснежная рында, парчовое боярство, монахи-опричники и красный палач, а над лесом мечей и топоров сиял драгоценный царский крест Грозного.
В ужасе кривился заплаканный рот бесприютной Мары, рвался из горла убитый хрип. Проклинала Мара грозного царя, проклинала его слуг-чернецов, проклинала красного палача, и мать свою, что зачала и вскормила ее на муку и поругание.
Захлопывались бесшумно резные ворота, подымалось шествие вверх по глубокой реке. Багровел ночной медный свет, заливался небосклон алою кровью.
И подымалось огромное нестерпимо-яркое солнце, неустанное полунощное над спящей землей.
Николай долго не мог привыкнуть к белым северным ночам, не спал целые ночи.
И жгучие желания подымались в его бессонном сердце.








