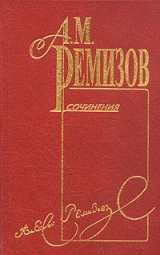
Текст книги "Том 1. Пруд"
Автор книги: Алексей Ремизов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 41 страниц)
Мать сыра-земля
Когда задули свет, и все повалились, и сон плотно сомкнул отяжелевшие пьяные веки, представилось Николаю, будто снова играет кто-то на пьянино.
И среди звуков, в музыке стала Она перед ним, пела Она свою песню, песню песней.
«Земля обетованная! Крылья мои белые, тяжелые вы в слипшихся комках кровавой грязи! Земля обетованная!»
И поднялась буря голосов, слетелись вихри звуков, зажурчали шепоты, покатились волны слов, встали валы грозных проклятий, выбил фонтан криков, попадали капли упреков, загудели, завыли водопады победоносных гимнов, забарабанили боевые кличи, и схватилось причитанье-ропот с разгульной песней, и потонул в плаче бессильный скрежет. Там загорались голоса, как праздник, – кричали камни. Там голос, как сухой ковыль, шумел простором. Беззвучный плач на заре певучей! Воспоминание в разгаре желанного беспамятства! Глухой укор в миг наслаждения! Там темный голос, совсем чужой, выл, как царь-колокол. Был голос-мать, и голос-брат, и голос-друг и голос-враг, и голос-недруг и голос-раб… Падали звезды.
И вдруг трепет взвившихся крыльев, разорванное небо, ужас метнувшихся звезд…
А из разбитого отчаявшегося сердца крестный вопль:
«Мать-сыра земля, я – сын твой, за что ты покинула меня!»
И видел Ее в грязи, бесприютную, заплеванную. Видел Ее, отдавалась Она на глазах толпы. Видел Ее пьяную и убогую. Раздутая, стоя, плыла Она по пруду. Посиневшая, с высунутым языком, висела Она на крюку. И визжала. Она, покрытая язвами, кричала Она ошпаренная. И плакала опозоренная. Глаза Ее, стон Ее о милости…
У нашего кабака
Была яма глубока…
И задрал чей-то визгливый, резкий, как красный кумач, бабий голос кабацкую песню.
И схватились, слипаясь членами, уроды, чудовища люди и звери, звери и люди, и понеслись в ужасном хороводе. И поднялась свалка между людьми и зверями. Месились тела, как тесто, хлюпало мясо, – они крутились, они выворачивались, они ползали, они заползали друг в друга, они разрывали, они истязали друг друга и визжали, и выли.
А из разбитого отчаявшегося сердца крестный вопль:
«Мать-сыра земля, я – сын твой, за что ты покинула меня!»
А над воем, над воплем Ее песня, пела Она свою песню, песню песней.
«Земля обетованная! Крылья мои белые, тяжелые вы в слипшихся комках кровавой грязи! Земля обетованная!»
«Ой, Господи, – будто шепчет Евгений, – дёрнемте, ребята, по последней!»
Николай просыпается, сердце холодеет. В комнате тихо, все спят, из детской Арина Семеновна-Эрих похрапывает. И опять Николай засыпает, но убитым беспамятным сном.
А на воле весенняя ночь черными теплыми тучами кутала землю, таял снег.
Огорелышевские плотники разобрали верх красного Финогеновского флигеля и одна труба, облупленная, с высовывающимися закопченными кирпичами и какая-то длинная, торчала, как виселица-крест. А кругом у террасы и далеко по саду валялись отодранные с искривленными гвоздями доски и щепки, трухлявые столбы и стропила. И лежал мертвым лебедем белый пруд.
Засвистел на дворе фабричный свисток, долгий, словно со сна встрепенувшийся.
И вздохнула матово-зеленая лампа в белом доме Огорелышевых у Арсения.
Вздрагивая, встал из-за стола Арсений, пошел в спальню, весь сгорбленный, и вдруг схватившись от подкатившего удушья за стул, злой на боль, на утомление, на краткость часов, пережидая боль, с горечью думает о ненужности дел.
В щелястых бараках, несладко потягиваясь и озлобленно раздирая рты судорожной зевотой, молчком и ругаясь> подымаются фабричные. Осоловелые недоспавшие фабричные дети тычутся по углам, и от подзатыльников и щипков хнычут. Распластавшиеся по нарам и койкам, женщины и девушки с полуразинутыми ртами борются с одолевающим искушением ночи и с замеревшим сердцем опускают горячие ноги на холодный, липкий, захарканный пол, наскоро запахивая, и стягивая взбунтовавшуюся грудь.
Сменяется ночной сторож Иван Данилов и, обессиленный бессонной ночью, сквернословя и непотребствуя, как Аверьяныч, валится в угол сторожки, а на его место становится дворник Егор-Смехота.
И гудит Боголюбовский колокол к заутрене.
Тянутся к монастырю вереницы порченых, расслабленных, помутившихся в уме и бесноватых с мертвенно-изможденными лицами, измученные и голодные, у одних закушенные языки, – у других губы растрескавшиеся, синие, без кровинки, с застывшею странной улыбкой, и воют и беснуются без своего старца.
И блекнет красный огонек в окне белой башенки у запрещенного старца над каменной лягушкой.
Два худосочных шпиона, переодетые рабочими, кисло озираясь, толкутся у красных Огорелышевских ворот, поджидая работы. Какой-то деревенский парень, повязанный красным шерстяным шарфом, переминаясь, свертывает цигарку, тоже наниматься пришел.
А по дорожке, на той стороне Огорелышевского сада, ходил кто-то в драповом пальто, насмешливо улыбаясь тонкими птичьими губами, такой спокойный и равнодушный и ничему не удивляющийся.
Кто он – демон, один ли из бесов или просто бесенок, само Горе-Злосчастие или Плямка? И демон, и бес, и беседок, Плямка, он ходил по дорожке, словно поджидал кого-то на свидание.
Глава двадцать втораяГолыш-камень
Когда Арина Семеновна-Эрих разбудила Петра и Николая, Евгений ушел на службу. Собираться им было недолго: Николай выпил горячего чаю, Петр пива, и готово.
В Боголюбовом монастыре перезванивали к средней обедне.
Шли они по нелюдным улицам с низкими, придавленными домами, захватывали огороды и пустыри, сворачивали на бульвары по кривым переулкам.
Дворники подскребали тротуары.
Какие-то оборванные гимназисты окружили лоток с гречниками и, целясь широким коротким ножом, азартно рассекали румяные толкачики-гречники.
Где-то за вокзалом гудела роща весенним гудом.
– Дом ломают? – спросил Николай.
– Да уж, верно, сломали, – Петр задыхался.
Проехал водовоз на колесах.
– Водовоз всегда первый на колесах. Бывало, как ждешь водовоза!
Прогнали в участок партию беспаспортных из ночлежного дома. Сбоку шагал городовой с книгой под мышкой.
– На таких книгах и переплет паскудный: зеленые жиденькие разводы.
– А тебе что ж, сафьяновый надо?
Что в голову приходило, то и говорилось: о самом главном Николай все не решался спросить.
Черномазый мальчишка пронес огромный золотой калач – вывеску.
Какая-то женщина в одном платье, едва держась на ногах, семенила по тротуару с угрожающим в пространство кулаком.
У разносчика рассыпалось мыло: ярко-желтые, как жир вареной осетрины, куски-кубики завалили весь тупик измазанную стену.
– Я, Петр, словно в первый раз на мир гляжу, все для меня ярко и ново, все вижу. Это оттого, что я взаперти просидел столько!
Поравнялись проститутки: шли они на освидетельствование, шли своей отчаянной походкой, заразу несли, выгибали стан.
– Посмотри, как они ходят, – Петр дернул Николая за руку, – один приятель рассказывал, будто всякий раз мурашки у него по спине бегают, когда их видит…
Вдруг Николай остановился: то, что скрытно горело в нем, выбилось острым языком:
– Где Таня? – спросил он шепотом. А Петр словно и не слышит.
– Где Таня, ты помнишь Таню? – повторил Николай.
– Таня отравилась… Говорят, какой-то подлец… По городу много слухов. Называли и Александра… – Петр говорил как о чем-то очень известном.
– Что ты, что ты? – Николай схватился за Петра.
– Называли Александра, будто Александр…
– Неправда! неправда! – Николай задохнулся.
Толковали о свадьбе, Александр и мне говорил, что женится. Осенью… в октябре назначена была свадьба и вдруг… отравилась.
Николай чувствовал, как холодеет сердце: так перед смертью холодеет сердце.
В это время поравнялся Сёма-юродивый, и, потряхивая головой своей барабаном с бубенцами, пристально заглянул в глаза и Николаю и Петру поочередно и, отшатнувшись, плюнул прямо в лицо Николаю, плюнул и с гоготом, с площадною руганью, проклятиями бросился в сторону.
Петр бросился за Сёмой.
– Оставь! оставь его! – закричал Николай, но Петр не унимался.
С перекрестка, ускоряя шаг, подходил городовой, держа наготове свисток.
Окна усеялись любопытными.
Няньки остановили колясочки. Высыпали из ворот дворники и кухарки.
– Го, го, го… – звенел безумный хохот Сёмы под звон бубенцов.
– Сёма прав, не надо! – уговаривал Николай Петра.
– Прав?! – передразнил Петр и долго не мог успокоиться.
Шли они молча, шли скорым шагом, словно торопились не опоздать.
У Александра такая улыбка огорелышевская, совсем Огорелышев. Арсений стар уж, путает и хорохорится. Александр правая рука, Александр все…
– Я пойду к Александру, – твердо сказал Николай.
– Забыл он, как все мы вместе жили. Вон Евгений, Петр тряхнул трехрублевкой, – последнее отдал, а Александру… Александру некогда. После пожара закаменел весь. Ходит слух, что все это его рук дело, будто он и пожар устроил. От него всего можно ждать. В один прекрасный день Арсения астма задушит…
– Кто задушит? – переспросил Николай.
– Астма… Болен старик, задыхается. Ну и скажут на астму и дело с концом. Может, из-за него и Таня отравилась.
– Я пойду к Александру, – твердо сказал Николай.
Петр ничего не ответил, глядел куда-то поверх крыш в черную даль, словно дни считал, когда придет положенный ему срок…
– Только вот весна придет, уйду я из этого проклятого города!
Молча входили в монастырские ворота.
– Реставрация, – Петр скривил рот, указывая на стену.
И в самом деле, не было зеленого черта с хохочущими глазками, не было грешников, тешащих черта, какие-то зеленые жиденькие разводы, как на переплете полицейской книги, заслоняли лик Князя мира сего.
Подымаясь по лестнице в белую башенку старца, Николай вдруг почувствовал жуть, как тогда в первый раз.
У самой двери незнакомый монах загородил дорогу.
– Не принимают, – дерзко сказал монах.
– Не принимают! – Петр грубо толкнул монаха. И они вошли в келью.
Старец хотел приподняться, поздороваться, сказать что-то, и только крупные слезы покатились из его багровых ям по впалым щекам.
– Не принимают! – ворчал Петр, все еще не приходя в себя.
– Колюшка! – сказал, наконец, старец, – вот и опять вижу тебя! – и шептал что-то, звал кого-то, должно быть, послушника, звал какого-то о. Мефодия, хотел, должно быть, гостей угостить, но никто не пришел, никто ему не отзывался.
В келье было тихо, только каждую секунду пели часы на колокольне.
– Пришел я к вам, о. Глеб, – начал Николай и остановился, холод до самых костей охватывал его, – прежде ничего подобного я не чувствовал, прежде все легко шло, легко сносилось, легко принималось.
Старец задумался. Скорбью дышало лицо его, и вдруг улыбнулся.
– А помнишь, Коля, как ты в табак бабушке одеколону подливал? Перец-то ей за духи сходил. Помнишь, ты мне рассказывал?
– Чудо с табаком! – попробовал было и Николай улыбнуться, но вместо улыбки судорога скривила губы: нет, он не верит ни в какое чудо, да и чудо уж никакое не поможет – из гробов покойники не встают, Таня больше не встанет.
– Придет весна, упадут на могилах кресты, – снова заговорил старец, – кресты уж падают, птицы летят, несут цветы и песни, все обновляется, все восстает из гробов, выходит на свет.
Сидел Петр как смерть бледный, красные пятна вспыхивали на щеках: никуда он не уйдет из этого города: дни его сочтены, с весною кончится ему срок.
А старец говорил о вере, по которой чудо совершается и творятся дела, о крови, через которую перейти суждено, о заповеди своей: вольно и кротко все принять, всю судьбу – всякую не-долю и благословить ее всю до конца.
– Горе, горе тому, кто, перейдя через кровь, не благословит судьбу свою, ибо много званых, мало избранных!
Николай незаметно для себя поднялся, походил по келье и, стоя у окна, заглянул вниз: между рам синело разбитое стекло и блестел острый голыш.
И стала перед ним та ночь, когда Александра в тюрьму увезли, вспомнилась ночь со всеми проклятиями, какими проклинал он тогда мир, себя, всех людей, со всем отчаянием, повернувшим руку бросить камень в красный огонек лампадки, потушить огонек.
«Пропал, – ясно подумал Николай, – все пропало!» – и потянуло его пробить раму, да вниз головой под обрыв на каменную лягушку.
Старец вдруг поднялся и, простирая к Николаю руки, задрожал весь, готовый упасть на землю.
– Простите меня, – простонал старец и больше не сказал ни слова.
Видно было, что глубокое забытье нашло на него, сидел он неподвижно и дышал ровно.
Несколько раз заглядывавший в дверь монах, приставленный надзирать за старцем, вошел в келью и бесцеремонно уселся к столу.
Петр и Николай, не прощаясь, потихоньку вышли. Вышел за ними и монах.
И когда замер последний отстук последних шагов, и каменная лестница помертвела, старец очнулся, прополз к окну, растворил окно и, нащупав голыш, вынул камень, и, перебирая губами, горящими от слез, прижимал этот камень к своему сердцу, камень отчаяния, камень горя, камень перемучившегося, исстрадавшегося человеческого сердца.
Крупные слезы катились из его багровых, рыдающих ям, перегоравших в ясные, лучистые видящие глаза, и душа его, избранная из душ человеческих, расставаясь с своим истерзанным телом, тихо отходила от земли.
Да будет воля Твоя!
Глава двадцать третьяДом ломают
На колокольне часы пробили полдень, когда Петр и Николай выходили из монастырских ворот.
Казалось, из проглянувшего солнца высекал бой свои теплые звуки. Так все горело на талом снеге.
Петру надо было на репетицию, и он повернул в сторону к театру.
И когда Николай остался один, охватило его беспокойство, тьма голосов наперебой заговорили в душе.
Почему он на могилу к Вареньке не зашел? Зачем Петр оставил его одного. Почему он старцу всего не сказал, а ведь только одному старцу он и мог бы все сказать? Почему у старца прощенья не попросил? Почему старец у них прощенье просил? Почему Александра подозревают в том, в чем Александр совсем не виновен, в том, что сделал он, Николай? Таня отравилась! Таня отравилась? Где она? где Таня? Почему на него так смотрят? Зачем он еще ходит по земле? И куда он идет? Где Таня? Где Александр?
«Дом ломают!» – вспомнил вдруг Николай и повернул в сторону, по направлению к дому Огорелышевых.
Был яркий весенний день, – согреваясь, земля будто выперлась от тепла своего, от радости, что вот снова с весною открыта жизнь: иди, куда хочешь, бери, чего хочешь.
Обогнал Николай солдат с музыкой: звуки меди подымали его над землей, вливались в него, сделали его самого звучащей медью. И звеня, он побежал по улице и летел, будто на крыльях. И грохнулся бы о тумбу, если бы не чья-то рука, крепко впившаяся ему в грудь.
Какой-то господин в драповом пальто, насмешливо улыбаясь тонкими птичьими губами, пристально глядел Николаю в глаза.
Николай рванулся, высвободился и, боясь оглянуться, пошел шагом.
Шел Николай так долго, кружил, не замечая улиц, пока не поравнялся с знакомым Бакаловским домом, с черной доской на воротах, сплошь измелованной фамилиями жильцов. Вошел во двор.
На дворе на солнышке сидели в кружок ребятишки – девочки в кумачных платочках. Взлохмаченный, без картуза, спившийся старик регент, размахивая руками, управлял хором.
Как у наших у ворот
Стоит девок хоровод…
– пели девочки тоненькими и какими-то обласканными голосами.
Вдруг регент остановил хор, напыжил седые усы и, скорчившись в три погибели, как бы изображая страшного сыщика, зашипел перегорелой октавой:
– Откуда ни возьмись ноздря… – и, выпрямившись, хватая Николая за грудь, закричал прямо ему в лицо: – Ты ж убил человека!!
Николай остолбенел.
– Тебе Таньку? – зашептал регент, насмешливо улыбаясь, – нет твоей Таньки, Танька тю-тю!
Заглянувший в калитку Бакаловский дворник Степан, вызывавший когда-то Машку, сделал скребком какой-то ружейный прием, будто отдавал Николаю честь.
Как у наших у ворот
Стоит девок хоровод…
– снова запели девочки тоненькими и какими-то обласканными голосами.
Боясь оглянуться, Николай вышел из Бакаловских ворот и пошел, ускоря шаг.
Мелькнул красный огорелышевский забор, густо утыканный изогнутыми, ржавыми костылями, мелькнули красные скрипучие ворота. Ровно сквозь сон, слышал Николай, как отдирали доски с красного флигеля, как визжали непокорные гвозди, и что-то трещало и ломалось.
Да это в сердце у него ломали!
Вдруг из переулка камнем пересек ему дорогу весь запыхавшийся золоторотец.
Прижимая руку к груди, метался золоторотец, как ошпаренная крыса. С обезображенного лица его рвались глаза.
Видел Николай, как выворачивались глаза от ужаса и перекипали в каком-то черном огне неминуемой беды, рвались от беды.
Озверелая толпа гналась за вором:
– Держи его! держи его! держи!
К конце прицепили лошадей. Мальчики-форейторы, подпрыгивая, махая длинными рукавами, будто обрубками крыльев, свистели, а лошади из сил выбивались, не могли тронуться.
Толпа запрудила все проходы. Надорванно заливался колокольчик конки. Кондуктор, морща желтое лицо и наседая грудью, вертел тормоз, сам заливался мелким гаденьким смехом.
Небо ярко-синее над пестрой толпой куталось в блестящую сеть весеннего солнца и, казалось, спускалось все ниже, совсем над улицей.
– Держи его! держи его! держи! – гикала озверелая толпа.
Николай бросился через проходной двор: едва дух переводил, словно не золоторотца, а его ловили. Подкашивались ноги, сох рот.
«Дом Братьев Огорелышевых», – метко стрельнуло прямо ему в глаза, и он, не раздумывая, повернул в калитку, спустился к белому Огорелышевскому дому и прямо к парадному ходу. Рванул за бронзовую пасть-колокольчик, и слышал, как прокричал звонок за дубовой крепкой дверью.
Кузьма – белый дворник открыл ему дверь.
– Не принимают! – нагло сказал Кузьма, не хуже монаха у старца, но, оглянув Николая, вдруг просиял весь,
– Николай Елисеевич, неужто это вы? К дяденьке навестить?
– Дома, не уехал еще?
– Дома-с, дома-с, пожалуйте… А у нас, Николай Елисеевич, Трифон помер! Песню-то еще играть заставляли «Сто усов, – сто носов…» А дяденька хворые стали, бывал очи летают…
Кузьма пошел доложить. Николай ходил по коридору. Приторно пахло цветами.
В конторе скрипело перо, и на разные лады выщелкивали счеты припев непристойной песни:
Сто усов —
Сто носов…
На матовом стекле двери конторы по-прежнему стояла черная лепная надпись: чортора вместо конторы, давнишняя финогеновская проделка.
Заглянул Николай в библиотеку. Завешанные зелеными шторами, стояли по-прежнему полки и шкапы, битком набитые книгами. Отдернул было занавеску, хотел посмотреть книги и отскочил.
– Держи, держи! – послышалось ему в хрипе старых часов.
– Пожалуйте, – Кузьма осклаблялся, – сердитые они, ужасть!
Медленно поднимался Николай по знакомой лестнице, так медленно, словно кто-то тянул его за ноги со ступенек вниз к двери. Задевал прутья ковра, цеплялся за перила.
«Цепочки-то на лампах вовсе не золотые, – подумал он, – а медные, и цена им грош!»
Сто усов —
Сто носов…
– выщелкивали ему вдогонку из конторы счеты припев непристойной песни.
Приторно пахло цветами. Весь зал был в живых цветах, словно был в доме покойник. Запах мутил.
На площадке лестницы забилось сердце: зачем он попал к Огорелышевым, и на что ему видеть Арсения?
«Дом ломают!» – вспомнил вдруг Николай и ему стало ясно, зачем ему понадобился Арсений: сейчас он объяснится с Арсением, ведь это же невозможно, чтобы их дом сломали!
А почему невозможно? Но это уж как-то само собой решилось, и Николай крепко дернул за ручку двери к Арсению в кабинет и вдруг приподнялся на цыпочки, оробел, как в детстве.
– Можно? – упавшим хриплым голосом спросил Николай.
Но ответа не было.
– Можно? – спросил Николай, зуб на зуб не попадал у него.
Но ответа опять не было.
– Можно? – спросил Николай в третий раз и, не дожидаясь ответа, грубо толкнул дверь.
Арсений сидел у своего письменного стола, высоко по-американски задрав на стол ноги, нетерпеливо покосился из-под пенсне на гостя, и на желтой его морщинистой шее задергался мускул.
– Тебе чего? – взвизгнул Арсений, как ощетинившаяся кошка.
Отвратительный кошачий визг – огорелышевский звенящий, уничтожающий звук на минуту остановил Николая.
И они напряженно смотрели друг на друга. Вдруг Арсений забеспокоился, рука его, как мышь, проворно скользнула к звонку.
– Вот эта самая фотография! – Николай вынул из кармана фотографию Огорелышевского пруда, ту самую, которую захватил с собой из Веснеболога: пруд в зимний инеевый полдень, – и загородил звонок. А в окно, прямо перед Николаем, тянулся двор, и поверх нагих деревьев торчала облупленная черная труба флигеля.
И защемило у него на сердце, будто все эти черные кирпичи рухнули ему на сердце.
Старик нетерпеливо вертел перед собой фотографию: пенсне то и дело спадало.
И защемило у Николая на сердце от острейшей скорби: все нити сердца расщепились и заострились, и стало сердце кровавым ежом. Дрожь ударила его с головы до ног, он повернулся, хотел вырвать у Арсения фотографию, протянул руки, и руки его сами собой опустились на плечи Арсения, проворно обвились вокруг шеи и, крепко сомкнувшись, стали душить, и крепкие, мяли какое-то мясо, ломали какой-то упорный металлический стержень, какой-то костлявый хрящ…
В этом стержне, в этом хряще, – надо сломать его! – вся боль хоронилась и скорбь – надо сломать его! – деревья больше не покроются листьями, белый пруд никогда не оттает, седой теплый дым не поднимется из черной трубы – надо сломать его! – Таня не вернется, Таня никогда уж не вернется… беспросветно!
– Беспросветно!
Николай навалился всей грудью на старика и душил его уж задохнувшегося.
Старик, изогнув длинную морщинистую шею, глядел, как тогда Розик глядел с перебитой лапкой, словно спрашивал: «ну в чем же я-то виновен?» – и сладкая толстая слюня с кровью ползла из его разинутого прокопченного табаком рта.
Кто-то, не спеша, прошел мимо двери, шаги прошмыгали спокойно.
Николай высвободил руки. Не оглядываясь, вышел он из комнаты, притворил за собой дверь и к лестнице.
Приторно пахло цветами.
«Кровью!» – подумал Николай и невольно посмотрел себе на руки: руки его были чистые, без пятнышка, только жилы напружились.
На лестнице он никого не встретил, и в прихожей ни души не было – Кузьма лампы чистил и, должно быть, наверх пошел за лампами, и в конторе было тихо, счеты не щелкали.
Так незаметно Николай вышел на волю, не таясь, обогнул белый Огорелышевский дом, стал подыматься к белым воротам.
Какой-то господин в драповом пальто с белым свертком в руках мешкал у калитки, словно поджидал Николая.
«В конфетной коробке огорелышевскую душу несет!» – мелькнуло у Николая, он прибавил шагу и, столкнувшись с незнакомцем, узнал в нем того самого господина, которого уж раз встретил на улице.
Незнакомец вежливо приподнял шляпу, птичьи тонкие губы его насмешливо улыбались.
В другое бы время Николай просто бросился на него или толкнул бы его, но теперь ему было как-то все равно, какая-то непреоборимая лень опускала ему руки.
И он шел так, ослабевая, с остановившимся взглядом куда-то за дома, за фабрики, словно искал, где бы можно было лечь и заснуть крепко-крепко. Слышал он сзади себя шаги и знал, что тот господин в драповом пальто идет за ним, не упускает из глаз, следит за ним, но обернуться охоты не было, было все равно.
– Господин Финогенов! – покликал таинственный провожатый: тенористо-прожиженныи голос его крючком зацепил Николая.
Николай приостановился.
– Прошу извинить, мы с вами немного знакомы, соседи, – господин в драповом пальто изысканно приподнял шляпу, – Плямка, моя фамилия Плямка, у Бакалова на пятом этаже комнату снимал, номер сто двадцать первый, а вы, господин Финогенов, в сто двадцатом, конечно!
И Плямка пошел с Николаем плечо в плечо.
– Что вам от меня надо? – спросил Николай, не вытерпев: как ни все равно ему было, а назойливость начинала и его выводить из терпения.
– Вы, конечно, из газет знаете, нашего князя убили?
– Удушили?
– Нет-с, что вы. Такую птицу голыми руками взять невозможно, это не старик, которого комар затопчет. Я вот всю ночь поджидал вас, кое-что передать имею… Вы, кажется, знавали Катинова? – Плямка прищурился.
– Катинова? Как же!
– Катинов и убил.
– Катинов?
– Вчера утром на площади. Конечно, зря убил. Катинова повесят! – Плямка тянул Николая по каким-то незнакомым улицам чрез проходные дворы, – сначала выбор у них пал на вашего дядюшку, Арсения Николаевича Огорелышева, – рассказывал Плямка, – потом решили оставить его в покое: не стоит марать рук. Раньше это имело бы смысл, но теперь… ваш братец Александр Елисеевич и тот поважнее. Впрочем, и князя зря и совсем даже зря на тот свет отправили. Если что и делал князь, так все под дудочку того же Арсения Николаевича. Лично я ценю только крупное, а пустяки эти – ерунда. В древности пророки огонь низводили с неба, ну нас на это не хватит, мы измельчали, огня нам не свести… не только там на кого-нибудь, а так, ну хоть на папироску. Для таких вещей, кроме великой веры, надобно и еще кое-что, а у нас ни веры, ни твердости, ничего, так, червячки… воробьев пугать!
– Какие червячки?
– Да обыкновенные, крохотные, навозные черви… так и кишат… беспросветно…
– Беспросветно! – повторил Николай, – беспросветно! – и услышал, как ударили в Боголюбовом монастыре в большой колокол, помолчали и опять ударили, помолчали и опять ударили. Так звонят в церквах, когда помрет священник.
– Старец помер! – сказал Плямка: птичьи тонкие губы его улыбались.
И словно мгла рассеялась перед Николаем. Кругом на улице на крик кричали, неугомонно шумели, немилосердно стучали, и каждый звук был отдельным, каждый звук выходил, как в рупор, с того света. И хотелось бежать, вернуться, поправить, спасти. А куда бежать? Куда вернуться? Что поправить? Кого спасти?
Николай рванулся от Плямки и побежал куда глаза глядят.
Мимо мчался легковой извозчик, Николай бросился за извозчиком, летел сломя голову. Уж схватился он за спинку санок, занес было ногу… но извозчик с остервенением хлестнул лошадь и пропал из глаз.
И снова ударили в Боголюбовом монастыре. Пел колокол о великой скорби и словно рвался похоронный звон от давивших слез, колокола перезванивали.
«Боже мой! Боже мой, почто Ты меня оставил!»








