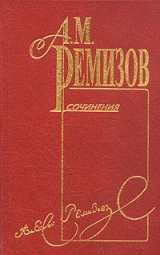
Текст книги "Том 1. Пруд"
Автор книги: Алексей Ремизов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 41 страниц)
Не тут-то было.
Словно что прорвало, или нашел такой несуразный стих на Николая, только оставил он окно своего мезонина, и с утра до позднего вечера опять стал шляться по городу.
Заходил то к одному, то к другому. Ходил на рефераты, на собрания, участвовал в прогулках за город, – всюду и везде совал нос.
Опять знакомился, опять слушал, опять присматривался.
Заметил он в своих товарищах еще одну черту, которая дала на минуту отдохнуть сердцу: были они глубоко бескорыстны, и не кричало в них торгашество, которое опутывало город сверху донизу.
Но проклятое сектанство – партийность – глушило это хорошее, стирало различие этих непокорных.
И заметил еще одно: были среди них прямо избранные, верные, готовые на смерть… но порой духом убогие…
Вступал в разговоры, сочинял небылицы и вымыслы, – мистифицировал… От тесноты дух задыхался, серединность самодовольства, как гарь, ела глаза.
И потешался, в смех изливал свою душу, которая другого Ждала и о другом мечтала, из смеха создавал свой мир.
Вспомнилась как-то Палагея Семеновна, вспомнилось то время, когда Огорелышевский устав камнем лежал…
Тут тоже свой монастырь, свой двор, свой устав, суровый до беспощадности.
Схватился Николай за некрологи. Кому-кому только не писал сгоряча.
Ударил некролог по больному месту.
И поднялась целая буря.
Собирались и толковали, толковали и обсуждали, пока не пришли, наконец, к решению…
* * *
В субботу вечером назначен был суд над Николаем. Всю неделю ждал он его с каким-то сладострастием, приговор заранее мог предугадать.
И вот пришел этот день.
Просторная комната колонии, где обычно жили сообща несколько душ и где находили приют все вновь приезжающие, бы битком набита. Сидели вокруг стола, на кроватях. Поднявшийся шум едва улегся.
.
Николай медленно вышел.
Что-то липким ртом припадало к сердцу и кусало сердце
Если ж погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых,
Дело всегда отзовется
На поколеньях живых
донеслась песня расходившейся колонии.
– А ты умереть можешь? – спросил себя вдруг. Подумал. – А они умрут… И Катинов умрет и Розиков и Хоботов. Опять подумал… – Розиков и Хоботов, может, и не умрут, а вот Катинов… Но ты-то можешь? Ну! и вообще-то, на что ты годен?..
Над головой и кругом шумно отцветала прощально-ясная, яркая ночь…
– Прими меня, ночь!
И будто в ответ шуршала листва в опустелых садах, падали звезды, кружась и летая, как листья.
И он – лист бездомный и оторванный. Оглянулся.
В деревянном домике колонки сквозь задернутые белые шторы мелькал зеленый огонек. Помелькал огонек и пропал.
Ускорил шаги.
Смело, друзья, не теряйте
Бодрость в неравном бою,
Родину-мать вы спасайте,
Честь и свободу свою.
И, перебивая такт песни, кто-то гулко стучал по мостовой, торопился.
Казалось, вот настигнет, схватит за плечи…
И заколотилось сердце:
Умереть!
Не мог уж ровно идти, бежать стал – далеко дом – на краю света…
Наконец, добежал, вбежал на лестницу, захлопнул дверь, защелкнул задвижкой.
Звездный свет играл на стеклах, и свет какого-то светила за звездами вплывал в окно.
Николай задернул занавеску.
Затаился.
Одинокая свечка насмешливо глядела.
И шумы каких-то тайных лепетов сжимали сердце.
Сердце ныло.
От окна нежданно тень упала.
– Кто ты?
Одинокая свечка насмешливо глядела.
Он бросился, хотел задуть этот медный ненавистный, этот сверлящий взгляд… убить тень…
– Не надо мне правды! не надо!
Глаза упали на стол.
На столе лежало письмо.
Знакомый почерк…
Отшатнулся…Вздрогнул всем, телом резко… смертельно улыбнулся… бледный…. белый…
– Завтра – завтра!
XVIТаня приехала!
А он и не чаял, не думал… думал… навсегда уж прошло, все кануло.
Не надо приходить, не надо будить!
А вот пришла… Обрадовался?
Не радуйся, не радуйся!
Не твоя она. – Чья же? – Его. – На брата руку подымаешь? – Нет.
Нет.
Таня приехала. Приехала сказать правду. Она не любит тебя. Не хочет лгать. Любила тогда…
– Любила? – спросил Николай тихо.
Таня молчала. Она сидела перед ним, такая же гордая, такая же… сулящая бесконечную жизнь.
– Но моего брата…?
– Не знаю.
Вдруг она встала, точь-в-точь как на портрете у Александра.
– Ну что же я могу сделать с собой, если теперь я только верю вам, верю, как первому, близкому, и душу мою выкладываю.
– Стало быть, так. – Николай приподнялся.
– А вы мне не говорили всей правды. Почему вы мне тогда не сказали?.. Как-то вечером зашла она ко мне, забитая такая, помочь просила… Ребенок, говорит, был, да помер. А сама вся трясется, еле на ногах стоит, пьяная… Почему вы тогда не сказали мне?
– Не мог.
– А когда вы уехали, и все это я узнала и еще узнала… Убила бы тогда, так ненавидела… Не себя, не себя, а вас…
Николай попятился.
– Что же…
– А знаете, если бы я вас любила теперь, думаете, я могла бы забыть? Никогда не забыла бы. Всю жизнь отравило бы… Я всегда видела бы вас рядом с этими… – Таня стиснула кулаки.
Не говорили.
А потом опять. Так целый день.
Ему вдруг показалось, что она его любит… Нет, нет, если бы любила, не рвалась бы так домой, а то завтра уедет непременно, сказала твердо, уедет непременно и, как ни просил, уперлась на своем. Да и жить тут неудобно. Комнату внизу едва уступила хозяйка, а у него тут негде, ему некуда уйти на ночь. А одну оставить нехорошо. Да и это все не то. А главное в том, что теперь, после всех рассказов Николая о себе, ей становится ясно, что он не такой, как показался ей в первый раз. Вот Катинов, наверное, интересный, верный…
– Знаете, Катинов на вашего брата Александра похож.
– Да у них даже и манеры одни и те же…
– А он сильнее нас.
– Может быть…
Разговор замялся. В комнате было душно. Хотелось на волю. На дворе дождик шел.
Вечером долго не расходились, опять перебирали все прошлое. Незаметно вырастало доверие, и лампа доверчиво светила… Таня сидела с ним рядом на диване, и они болтали.
Теперь она ему все сказала. Он ее друг. Он приедет к ним. Ему рады будут. Прошлое все забылось, и отец на него не сердится. Она начнет новую жизнь. Ей легко. – А то все что-то мучило.
И она пошла к себе вниз.
Николай слышал, как закрылась за ней дверь, как опустились гардины, как потух свет…
* * *
Убаюкай меня, ночь, – колыбель моя!
Ветер осенний шумит, скрипит. Неслышно могилы вскрывает в сердце.
Мучает…
Укрой меня от мглы и дождя, ночь – мать моя.
Руки дрожат… Вот упаду…
.
Николай вскочил с широко раскрытыми глазами, насторожился.
Откуда-то из низу, из-за стены тянулся больной бред, и светляками мигало тревожное дыхание в безмолвии.
Вот и опять.
Да, это она…
Ее голос, ее стон, ее дыхание.
Прислушивался…
Повторялось чужое имя, повторялось без конца, наполняя собой все кругом, всю его душу, бледную и жаждущую, одинокую, а он твердо и хорошо знал рвущимся, разодранным сердцем, что тянется весь, готов что-то сделать… должен сделать…
Почему должен? – спохватился.
Вот, кажется, подходит она, садится рядом с ним, берет его за руку. И чувствует он ее теплую грудь и сердце слышит…
Нет, нет, она никогда не придет.
Обезумел.
Долго искал спичек, чиркал, спички ломались, и, когда, наконец, вспыхнул голубоватый огонек, увидел Николай свои пальцы бледные и заостренные, как зубья, и представилось лицо в спутанных, извивающихся змейками волосах и повисшие усы и красные, провалившиеся от мук и бессонниц глаза… свое лицо… глаза…
Закурил.
Стал перебирать повторенное тысячу раз и днем и ночью… все дни и все ночи.
Приехала сказать… проститься…
– Ну, пусть бы вечно оставалось так, – замолил безнадежный голос, – не знал бы ничего, и ждал… Ну, пусть бы где-нибудь…
Поздно, уж поздно!
«Барыня-то у вас какая красавушка!» – Аграфена, хозяйка, перемывает посуду и вдруг – тррах! – стакан об пол.
А потом подмигивания: знаем, знаем!
И ничего-то вы не знаете… знаем, знаем!
Все тело отяжелело. Затих.
Видел ее такой, как смотрела на него в первый раз.
И дикой птицей вонзила она голодный клюв в его пробужденное сердце.
Она подходит к нему… всматривается своими темными глазами – хищные зверки в засаде… – протягивает руку…
И чувствует он эту горячую ладонь, а губы ее прильнули к его губам…
Тогда в первый день.
Зачем она пряталась, словно выжидала, и бросилась и…
Дни без времени с жаждой любви… опьянение жаждой.
Лица сближались и отдалялись, а кто-то говорил: да – нет, да – нет…
И он ждал и просил.
Первый поцелуй, вырванный и затягивающий, поцелуй бездонный, а за ним кипящая пасть, а из нее жало…
«А я думал, вы – честный человек!» – прозвучал вдруг голос отца, и старик-отец мучительно глядел в глаза этого… в его глаза…
Качался он где-то в воздухе и среди пустынного затишья шипели темные иссохшие лица, шипели, как маятники: знаем – знаем…
Задохнулся.
А время подкатывало жизнь к чему-то, от чего и уйти не уйдешь.
Вновь вползающий бред проник в сердце и точил его.
И была тупая, тяжелая боль. Она стягивала лоб железным обручем, а сверху надавливала мозг нестерпимой тяжестью.
С ревом кровь хлестала по жилам и секла каждый нерв и кутала плечи в горящую ткань.
Нервно зажег свечку.
И тотчас шум сдавленных голосов наполнил комнату, будто свет свечи крикнуть хотел, а кто-то зажал горло, остановил крик.
На дворе дождик шел.
* * *
Со свечкой в руке на цыпочках Николай спустился вниз к Тане.
Тихонько раздвинул портьеры.
Ударился коленкой о стул, замер от боли.
Смятая белая кофточка с длинными, черными шнурами глаза ела, впивалась, тянула.
Прикоснулся к кофточке, как к живому телу.
Заледеневшее сердце обдало вдруг красным лучом белую кровать, и луч, как игла, впился ей в сердце.
Все тело девушки, вздрогнув, подобралось, обороняясь.
Он повторял что-то, какие-то слова, просил о чем-то… и силился что-то вспомнить, что-то разглядеть, что-то уловить…
И увидел глаза ее ужаснувшиеся… долго-долго они ждали… не губить просили…
Туманился его голос, задыхался.
И вдруг тихий стон оглушил его: два взъерошенных зверька выскочили из ее больших глаз.
Но уж взор его гнался за дразнящими тенями на ее груди… Уж коснулся…
Николай чувствовал, как что-то крепко-стальное и горячее сдавливало его тело, слышал, как опрокинулось что-то, переломилось, как что-то жалобно хрустнуло… и хруст пронзил его мозг и пробрался глубже, разорвал мякоть и зазвенел мертвым звоном в пустых костях…
Потом рев взбешенного зверя, жалоба обиженного ребенка, вопль исступленной матери, дрожь охрипшей боли… и даль бездонно-черная в спешащих огоньках, снопах и нежно стелящаяся тишина и баю-бай укачивающей песни… песня…
Колебались портьеры, а сзади стоял кто-то и двигал ими взад и вперед, взад и вперед.
А с белой кровати, с этого опрокинутого тела… глаза.
Остановились глаза; они сливались с далью, с скользящей полосой нестрашной, как ласкающее сиянье минувшей грозы, и две слезинки дрожали у полураскрытых губ, да разметавшиеся волосы женщины перьями сухо чернели.
Свечка, вбирая кровь и тая алой кровью, плыла…
И стали все предметы подходить и заходить, сплываться и сжиматься… вот умывальник вошел в кровать и расползлись по полу ножки стула… и вдруг стянулись в адский круг и закружились кругом, и круг запрыгал кругом, кругом.
Сквозь какую-то туманную и душную даль закричали бешеные голоса и, огненным ножом пырнув во мрак, поползли… и Николаю представилось, будто ползет он за ними по нестерпимо зеленой луговине, по грудам живых тел… в кромешную тьму… в отчаяние…
Темный обморочный сон сковал Николая.
Ему казалось, вбежал он в огромный дом.
Нет конца комнатам.
Какие-то оборванные люди уселись на сундуках, как погорельцы на спасенном добре.
А в широкое окно смотрит золотой глаз.
Но они не видят его, посиневшими руками впились в сундуки.
И тупой страх тянет веки к земле.
И нет конца комнатам.
Вдруг погас свет.
Николай забился в тесную каморку.
Тихо отворилась дверь.
С тяжелыми котомками какие-то странники в запыленных армяках и в грязных онучах, седые.
Смотрят, и уйти от них некуда…
А за окном шум водопада и ветреный шорох летающих осенних листьев.
Стены сжимаются, потолок все ниже…
Да он у себя наверху, вон и зеркало…
– Колюшка-то помер! – явственно донесся знакомый голос с лестницы.
– А ведь это голос бабушки… – подумал Николай.
От ужаса зажмурился.
И представилось, идет он по черной степи. Изредка худые, изогнутые деревца, свернувшиеся листочки на изъеденных плесенью ветках…
И небо такое черное.
А идти трудно, но он идет, потому что должен выкопать яму – для себя яму.
– Вот тут! – говорит кто-то на ухо.
И, обливаясь потом, принялся копать.
И странно, все изменилось.
Он – среди весенней черной степи. Вокруг одно сине-белое небо. Христос воскрес!
И чувствует Николай, как легкие крылья поднимают его и несут по теплой волне все выше над землей и степью.
И так легко, вечерним замиранием переливает сердце…
Что ж нам делать,
Как нам быть,
Как латинский порешить
– обрезал несуразный голос.
Прометей поет.
Худой, зеленый весь, оскалил зубы, головой мотает.
А кругом все свечи горят, плащаница стоит, и пусто, ни души нет.
Вдруг Прометей выпрямился, обвел безумными глазами вокруг церкви, присел на корточки…
У Николая потемнело в глазах.
Прометей извивался, скакал, сигал, срывал бахрому, разрывал бархат, сцарапывал изображение, сшибал подсвечники.
Летели свечи, загорались иконы, трещал иконостас.
Вой, визг, взрыв зачинающего пожара, и среди стихийного гвалта стихийный шепот:
– Я люблю тебя!
И поднялась душная, грозная ночь.
Только они одни, Николай и Таня, одни в детской.
Уверенно теплится лампадка, жарко пылает крещенская свечка.
Жмутся друг к другу – хоронятся от этой вздрагивающей синей беды, что проползает над кровлей, вот низвергнется и похоронит весь дом.
Жмутся друг к другу – хорошо им, не страшно.
Вдруг будто раскололся дом пополам, заскакали окна, вытянулись лица… и на пороге седая нянька с прыгающим беззубым ртом:
– Маму убило!
И кричал нечеловеческий голос, белей молний, беспощадней всех громов:
– Я люблю тебя!
Бросился вон.
Но крик гнался, превратился крик в шепот, сверлил сердце, путал цепями ноги, толкал в спину, пока не повалил на землю.
– Сорок девять! сорок девять! – подхватил хор глухих сиплых голосов.
Николай поднял голову:
– Эге! да они все тут!
Будто стоит он на откосе железнодорожного полотна.
А там, внизу, какие-то люди семенят на одном месте и, держась за руки, притоптывают что-то красное, вязкое, хлюпающее, какое-то мясо.
Моросит мелкий осенний дождь.
Вдруг в глазах потемнело, весь изогнулся.
Кто-то сзади ловко петлю накинул и тянет…
А с откоса лезут и лезут, руками машут…
Чья-то рука ведет Николая в высокую башню, белую, без единого окошка.
Переступают порог башни.
Тяжелые засовы упали.
Знал, что приговор уж подписан, и с часу на час смерть наступит.
Николай лежал на нарах в грязной камере, видел кроваво-теплый свет, сочащийся сквозь мутное решетчатое окно, и ждал…
С визгом дверь растворилась.
Два человека в черных плащах и черных полумасках, с тонкими, золотыми шпагами на бедрах, вошли в камеру и, молча взяв его под руки, вывели из тюрьмы.
Долго они шли по незнакомым узким улицам, завертывали в переулки, упирались в тупики, снова возвращались, пока не выбрались на людную широкую площадь.
Толпа запрудила все проходы; лезли, давили друг друга.
Истерически надорванным хохотом заливался колокольчик остановившейся конки, и кондуктор, морща желтое лицо и наседая на тормоз, заливался мелким гаденьким смехом.
А небо ярко-синее над пестрой толпой куталось в блестящую сетку знойного солнца и не летело, а спускалось ниже, все ниже.
Он мог уж достать его, когда стал на высокий помост и глянул поверх кишевшей толпы, но палач ударил кулаком по шее, и голова упала на грудь, и замер взгляд, упираясь в страшную, больную точку…
У столба на краю помоста, ударяя себя по бедрам и прихлопывая в ладоши, плясала растерзанная, с оборванной петлей на шее полунагая женщина, а измученное лицо от слез надрывалось, словно все муки вонзились в него, и от боли глаза на лоб выскакивали, и вваливались, как у похолодевшего трупа.
Плясала женщина, ногами притопывала… плясала женщина… мать плясала…
Завертелся Николай на месте, хотел броситься, но в тот же миг будто острый кусок льда со свистом лизнул его шею, и черно-красный большой свет густыми брызгами взметнулся пред глазами, и щемящая сухая боль и что-то до приторности сладкое загрызло где-то в глубине рта, но страшные клещи сдавили череп и поволокли куда-то по вязким неостывшим трупам, по гвоздям через огонь в лед – кромешную тьму… в отчаяние.
Выгоревшая свечка вздыхала голубым тяжелым вздохом.
И в смрадном свете, закусив конец половика, лежал Николай у сбитой кровати, у неподвижного тела Тани, а по стене, как разбитые мельничные крылья, шарахаясь, ходили наливающиеся тени от торчащих затекших ног.
И караулила ночь закрытое окно… поруганное сердце… обманутое…
Запретила она, темная, всем беззвездным шорохам и одиноким стукам врываться и гулять по дому… по дому отчаяния и исступленной жажды.
Погас свет.
И время стало.
XVIIПадали листья последние, красные… Красные зори сгорали. Кутая ватой измученный берег, угрюмый туман восходил над бурлящей рекою.
Пароходы ревели.
Прощальные звуки резали льдистые вздохи.
А кромешное небо ветрено-шумно за хлопьями хлопья бросало на сжатую землю.
Под крышами вьюга металась, – ковала синюю стужу.
И в дыме по звездам луна костяная ходила и улыбалась замогильно-скорбной улыбкой.
Злые туманы…
Листья сорвали, песни задули…
По временам казалось Николаю, он с ума сходит.
Был он весь одной тончайшей струной, и становилась эта струна с часу на час тоньше, и от малейшего прикосновения стонала… Стонала и болела.
Был он весь одним бесконечно живым нервом, и не было пушинки, которая, касаясь, не жгла бы душу, а эти руки… эти руки закручивали узлом обнаженное сплюснутое сердце…
Обычно, как только смеркалось, выходил он на улицу и, пробираясь среди старых домов, шел на безлюдье, в поле.
Если случалось, встречал кого, опускал глаза и сжимался, будто жестокий удар готовился на его голову.
Такими страшными казались люди.
Кое-где фонари зажигали.
Молча, как раздавленная собака, Николай глядел в их седое хилое пламя.
И они говорили:
– Ты помнишь?..
И в ответ гудело сердце, как гудел ветер.
А там, в белом поле, среди пушистых раскинутых снегов во мраке и зелени, темной ночью, лунной. ночью он со стиснутыми зубами и сжатым сердцем не покорно молился, а требовал, настаивал, чтобы оно совершилось.
И казалось, оно совершалось.
Он видел ее, была она такой… неподдельной… лицо, тело, все… являлось ярко, резко и жило живее, будто под вызывающим, долгим поцелуем.
Да, да, да…
Он бежал по людным бульварам, и она бежала, он свертывал в аллеи, и она мелькала по дорожкам, садился, и она сидела на скамейках против, она заглядывала в глаза, он шел, – провожала…
Падал, задыхался от скрытых рыданий – колкие слезы глаза слепили, будто слезы и соль.
И что-то темное охватывало с головы до пят: он вбегал в дом к себе, запирал дверь, задергивал занавески, и сидел, отдыхая во тьме, без огня.
Свету боялся.
Впрочем, тогда боялся всего.
И среди давящей тишины забывался, и в забытьи снились кошмарные сны.
То казалось, будто кто-то на цыпочках входит в комнату, раздевает его донага, уносит одежду и снова входит и медленно, не спеша, принимается за старое: выносит одну вещь за другой. А вещей целая уйма.
А он будто лежит на полу, видит все, и холодно ему, а подняться не может.
Потому подняться не может, что вещей еще так много, а известно, когда тот снесет все, только тогда…
Целая вечность!
И так до рассвета.
Или так: приотворится дверь, и в каком-то странном стрекочущем свете выглянет с лестницы старая-престарая старуха.
Синие ее губы вздрагивают, слезятся гноящиеся глаза, и трясущаяся рука, привычно корчась, тянется за милостыней.
А он упивается злейшей горечью: видит, как эта загнанная бесприютная нищенка опускает пустую руку… Видит, и ничего дать не хочет, не шелохнется.
Нищенка протягивает руку…
И так до рассвета.
И наступал белый день, мучил несносными тягучими часами и в потугах превращался в страшную ночь.
Ночь. Не было на свете ни лица, ни такого предмета, на чем бы глаза успокоить.
Даже дети, эти единственно милые и чистые незабудки… Детские личики казались в зверских стальных намордниках.
И скалили из-за решетки свои молочные острые зубки.
* * *
За городом по большой дороге, прикрытая частым леском, раскинулась целая усадьба, посреди которой возвышалось огромное странное здание – сумасшедший дом.
Окна с толстой железной решеткой, окна, унизанные истощенно-ободранными полускелетами, полутелами, и там – понурые лица бритых голов, и сдавленный животный смех, и дьявольская улыбка, обвивающаяся змеей вокруг смертельно белых губ, и остановившийся долгий, изнуряющий взор, и такая открытость, такая беззаботная уверенность, как у ребят малых.
А там, за живой шторой, сладострастный сап и грязь, и распутство, и уличная брань, и тихая молитва, стон горький.
Железная угрюмая дверь и выползающий на волю запах подгнивающего, запертого жилья.
Вялый, увязающий в нерасходящейся мгле, измученный желтоватый свет, и пробитые ступени каменных лестниц, и та чернота коридора, непроглядная, где в пытке задыхающихся желании, замирающих воплей давят, лезут, мнут друг друга слипающиеся тела с этим единым глазом, с этим ртом…
И оргия безумных бредов – остановившийся проклятый смерч.
И страшная, жуткая темь углов, куда уходят и где таятся такие слова сердца, такие думы, загадки и разгадки – сама судьба и жизнь, и смерть…
Звал этот желтый дом, приглашал под свою беспредельную кровлю, мигал своим безумным, бредовым глазом.
Гнал этот желтый дом, стращал своими палатами, где творится что-то странное, отпугивал странностью, тайной, ведь человеку хочется такого, чтобы не бояться, не тревожиться, – покою…








