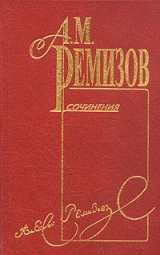
Текст книги "Том 1. Пруд"
Автор книги: Алексей Ремизов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 41 страниц)
Было уж к ночи, когда Александр вернулся к себе.
Ходил по высоким, роскошным комнатам.
Не было ни бешенства, ни улыбки, ни этого проклятого камня; лицо стало каким-то прежним, немного лукавым и милым, и острота глаз притупилась, и были глаза грустные, такие грустные.
Та мысль, которая взорвалась в душе, теперь улеглась; надолго ли? – сам себе не мог сказать. Только не думал уж о доме, о паскудном старике, о той тревоге, которая не давала покою и гнула, и гнала, и одарила этой властью, и открыла вперед дорогу, и конца которой не было.
Он видел брата Николая, о котором, кажется, всю-то жизнь думал, а не знал об этом, видел сходные с собой черты и слышал его голос измученной кротости, которая глядит в душу, заставляет вспомнить позабытое или создать небывалое, как музыка.
Видел и тех, других – Петра и Евгения, таких несчастных, изуродованных и голодных.
И на минуту все лицо исказилось, и горькое чувство захватило сердце, но вдруг кровавый крик затопил всю душу, лицо окаменело.
Не укорял себя, не стыдил, нет, он твердо знал, для чего так жил и чего хотел; и выбора не могло быть.
– Довольно уж, довольно…
И вспомнил все обиды и оскорбления, накопившиеся за все годы, вспомнил все унижения.
Вдруг вздрогнул…
Попятился и застыл, как в страшном испуге.
С портрета глядела девушка.
Она стояла во весь рост с опущенными и крепко сложенными руками, а венец развевающихся русых волос едва наклоненной головы полураскрывал лицо, и улыбались губы, страдая, губя и целуя, и звали-обещали притуманенные темные глаза, пели песню.
Песнь песней:
– Приди ко мне!
Кто-то стучал в дверь.
Очнулся.
Это Прасковья, нянька, простоволосая.
– Батюшка, Александр Елисеевич, а Колюшке чулочки-то и забыли, – шамкала тупо-горько сжатыми губами, – Митя-то мой тоже опять закрутил.
– Кланяться тебе велел, – почти закричал Александр, – Прасковье, говорит, кланяйся, слышишь!
Кто ж его знает, девушка, напущено, видно. Ну, спите, батюшка, Христос с вами.
И опять встало прежнее, но еще резче закричал тот голос, опять она… она плыла перед ним и, притупив глаза, манила вослед за собой и сгибала его, трясла этим движением своего тела…
Он тянулся за ней, он вдыхал ее… этот полевой цветок.
– Таня… Таня… Таня…
Он вдыхал ее… этот полевой цветок, и чувствовал всеми чувствами – запах раскрывал свое первородное, что приковывает к себе, как что-то дорогое бесконечно, забытое и вновь восставшее.
И с болью рвалось желание, хотелось нестерпимо, ужасно, тотчас же взять ее…
Ночь волнистою темною душною грудью мира коснулась. Лики земные дыханием тусклым покрыла. Здания спящие, башни зорко томящихся тюрем, дворцов и скитов безгрезною, бледною тишью завеяла.
Не услышат, не пронзятся стуком сердца моего. Оно рвется, оно стонет. Не услышат…
В оковах забот люди застыли, в снах задыхаясь болезней, нужды.
И ржавое звяканье тесных молитв завистливо, скорбно ползет дымом ненастным по крышам.
А судьба могилы уж роет, и люльки готовит, и золото сыплет, и золото грабит.
Не услышат, не пронзятся стуком сердца моего.
Оно рвется, оно стонет.
Не услышат…
Полночь прошла.
Изнемогая в предутреннем свете, время устало несется.
Мне же, Незримому, здесь в этот час жутко и холодно.
Жутко и холодно.
Отчего ж не могу я молиться Родному и Равному, но из царства иного?
Проклятие – царство мое, царство мое – одиноко.
Люди и дети и звери мимо проходят, мимо проходят скорчась, со страхом.
Я кинулся в волны речные.
Ты мне ответишь?
Ты не забыла?
Ты сохранила образ мой странный и зов, в поцелуе?
Ты сохранила.
И ушла с плачем глухим в смелом сердце своем.
Так в страсти, любви к страсти, любви прикасаясь, – Я отравляю.
Даже и тут одинок.
Слышу тоску и измену и холод в долгих и редких лобзаниях.
А сердце мое разрывалось.
Алые ризы утренних зорь загорелись.
В пурпурных гребнях дымятся черные волны.
Устами прильнули вы, люди, к пескам пустынь повседневных.
Ищете звонких ключей в камне истлевшем.
В мечты облекаетесь мутные.
У меня есть песни!
Слышите пение – кипение слезное?..
Вы затаились, молчите в заботах.
Алые ризы утренних зорь кровью оделись.
Проклятие – царство мое, царство мое – одиноко.
Словно золото облачных перьев крепкою бранью заставило путь между мною и вами.
Так вечно, во веки, всю жизнь…
А кто-то живет, мечтая и тут и на небе.
Так вечно, во веки, всю жизнь, вечно желать безответным желаньем, скорбь глодать и томиться.
Власть и тоска.
Беспросветная.
Темная.
И одинокая.
IXШла третья неделя, а этап все задерживался.
Казалось, прятался тот день, когда войдет «старший» и объявит, и все подымутся, загудят, споря и собирая рухлядь со всевозможными тайниками для табаку и «струменту».
Назначенный, наконец, на Николу к вечеру, когда уж все было готово, этап был отменен по случаю праздника до следующего дня.
Шла третья неделя, как неожиданно для себя Николай очутился в «общей» и еще слабый, не оправившийся от болезни, жил, озираясь, со слипающимися глазами, словно все время засыпал, а кто-то непрерывно будил, или сам поминутно просыпался от чего-то непременно нужного, что прикасалось и напоминало о себе.
Карманы в первую же ночь были вырезаны, а вскоре как-то среди дня, когда от страшного утомления и напряженного бодрствования, не помня себя, повалился на нары, и сон легко и приятно потянул его в какую-то пропасть, бездонную и темную, часть штиблет была срезана.
Шум, драки, ругань – постоянные, назойливые, скрутили все мысли, и они забились куда-то, а там, где жили и ходили, зияла пустота ровная, страшная и тихая…
Только что «сошлась поверка», и надзиратели обходили окна, постукивая молотками о решетки и рамы.
Принесли огромную парашку и заперли камеру.
Полагалось спать, но камера все еще шумела и галдела о разного рода притеснениях, бане и шпионстве.
Не раз у решетчатой двери появлялась черная фигура надзирателя.
– Копытчики, черти, ложись спать! чего разорались? – покрикивал его суровый, раздраженный голос.
И кое-где забирались под нары, стелились…
Так понемногу и неугомонные успокоились и, теснясь друг к другу и зевая, дремали.
Стало тише, только там и сям все еще вырывался скрипучий смех и сиплый визжащий оклик; «Лизавета» – подросток-арестант – шнырял по нарам, и мелькало лицо его, избалованное, мягкое, с оттопыренной нижней губой и желтизной вокруг рта…
И становилось душно, душны были мысли, бродившие под низким черепом гниющей и мутной камеры.
Ночь чистая, весенняя засматривала в окна тысячезвездным ликом своим, такая вольная и такая широкая.
Николай лежал с открытыми глазами.
Так сбит был за весь этот день свидания с Александром, столько нежданного он принес ему.
Припоминал Александра, припоминал свой разговор с ним, видел лицо брата и слышал глухой, опавший голос внезапно раскрытого сердца, и как вдруг брат потемнел весь, когда он о Тане спродил…
И вновь припоминал весь разговор свой и мучился, потому что должен был сказать что-то, а не сказал, и мучился, потому что поддающийся ответ какой-то только дразнил и разжигал, распалял душу.
Лежал Николай бок об бок с своим неизменным ночным соседом – «Тараканьим Пастухом», который по целым дням молчаливо выслеживал тюремных насекомых и давил их, размазывая по полу и нарам; на прогулке, сгорбившись, ходил он одиноко, избегая «публику-людей» – прочих арестантов, и только когда мелькал женский платок или высовывалась в ворота юбка, он выпрямлялся, ощеривался и долго, порывисто крутил носом. Николай прижимался к этому безответному бродяге, впивался в него глазами, будто ждал решения.
И тот никак не мог устроиться, ерзал, чесался; песочное лицо его с буграми и впадинами от какой-то болезни, в бесцветных редких волосах, напоминавшее спину небрежно выщипанной вареной курицы, мутилось и ощеривалось. Вся его история давно была известна: когда-то певчий у «Василия Стаканыча», потом переплетчик, потом завсегдатай «холодной», стал он, наконец, «подзорным», захирел и теперь снова шел…
– В такую ночь сердце живет, – вдруг проговорил «Тараканий Пастух» хрипло, почти шепотом, – в такую вот ночь…
Он привстал и задумался. Николай отодвинулся.
– Такие ночи были светлые, теплые, а я голодный, – продолжал сосед, – как собака какая, бродил по лесу. Все нутро-то иссосало у меня, поди, дня три и во рту ничего не было. Оглядывался да осматривался, не пройдет ли, мол, кто, а тут лист ли хрустнет, птица ль вспорхнет – так и насторожишься весь, подкатит к сердцу, жрать больно хочется. Думаешь, вот тебе тут и подвернется кто, а никого нет. Помирать собирался…
Так вот ходил-ходил, а лес кончился, уж заросль пошла… Только глядь это, крыша блеснула. Обрадовался я, – бежать. Оглядел дом. Вижу, свету нет. Спят, думаю. Я – к окну, дернул, – поддалось. Полез, да прямо в кухню. Стал шарить, шарю, а вареным-то этим, кислотой, так в нос и пышет, сам едва стою, мутит. Целую миску щей вытащил, и принялся уписывать. Насытился. Ну, думаю, возьму из вещей чего, да и уйду. Вижу, дверь в комнаты ведет. Отворил, пробираюсь, иду, сам не дыхаю, тишком, кабы чего не сшибить. Вдруг вижу, в углу на койке женщина лежит, спит. Я к ней. Распласталась вся, белая, рубашка-то с плеч съехала… Постоял-постоял… Крови-то у меня как загудут, от духу-то от одного этого дрожь всего засыпала, – нагнулся. Вот бы, думаю, этакую… царевну, да как чмок… Вскочила.
«Петр! ты? – говорит, – пришел, не забыл, а как я, говорит, как встосковалась по тебе!»
Смотрит она на меня своими светлыми, светлыми глазами, а потом обняла меня, стиснула всего, целует. Креплюсь я, кабы не сказать чего.
«Чего ты, – говорит, – молчишь все, – ни словечка не вымолвишь?»
«Не время», – отвечаю ей, и голоса уж своего не признаю… забрало больно.
Дца… ну… вот, возились, возились…
Домой думаю, застигнет еще кто.
«Куда, – говорит, – ты, Петя, или уж разлюбил меня, все-то ведь я отдала тебе… не совладала с собой».
Так вцепилась, так вцепилась, не оторвешь. Выскользнул я, да в окно. Да только это ноги спустил, вижу человек… так прямо и прет на меня. Я было в сторону, а он за мной. Нагнал. Остановились мы. Стоим. Смотрим друг на друга. Глядел-глядел он на меня, страшный, будто мертвец какой.
«Распутница, – говорит, – распутница!» – и пошел.
Пошел, не оглянулся. Гляжу ему вослед: все идет, и дом прошел. Окно-то открытым осталось, блестит. А она стоит в одной рубашке, глаза вытаращила, смотрит…
Так это он сказал тогда про нее: распутница…
«Пастух» скорчился весь, и голова и грудь его пригнулись к животу, а кашель глухой и тяжелый колотился и рвался и резал мягкое что-то и нежное больно…
Менялось дежурство: тяжело стуча, прошли шаги нетвердые и сонные, и другие шаги со скрипом, перебивая их, приближались.
Вся камера спала, кто-то бормотал и скрипел зубами.
«Тараканий Пастух» лежал навзничь и, ослабевший, беспомощно дышал.
Где-то далеко щелкали колотушки, а ночь по-прежнему заглядывала в окна, ночь чистая, весенняя, и такая вольная, такая вольная, такая широкая…
Не двигался Николай, не раскрывал глаз, боялся большего, боялся знать, боялся думать…
Холодный пот покрывал лицо.
Приютившийся на кончике нар и перебесившийся весенним бешенством, вдруг поднялся тюремный Бес и, скрутившись в дугу, пополз, вереща, вдоль распластанных тел по грудям, по ногам, и стал Бес мешать, сливать, – душить…
XПрошел и обед и кипяток, а распоряжений никаких не было.
Со злости дрались и грызлись: у подследственного татарчонка оборвали ухо, старику кипятком ноги ошпарили, и, Бог знает до чего бы еще дошло…
И когда уж смерклось, вошел старший и объявил, и тех, кому идти следовало, перевели в другую камеру и заперли.
Одетые в дорогу, сидели арестанты на нарах и ждали. Соскучившиеся и измученные лица их сливались с серой одеждой.
Над дверью казенно лампочка брюзжала.
Говорили о порционных и дорожных, жаловались, на все жаловались, как больные.
Потом молчали, искали, чего бы сказать, на дверь косились, оправлялись.
Скоро придет надзиратель, отопрет, поведут в контору, а там на вокзал…
Вдруг встрепенулись: в коридоре загремели ключами.
Надзиратель широко раскрыл дверь.
Конфузливо запахивая халат, вошел незнакомый высокий, худой арестант из «секретной» и, рассеянно, будто никого не замечая, сразу сел.
Большие глаза его, казалось, когда-то провалились, потом внезапно выскочили, измученные, перепуганные.
Приступили с расспросами.
– Ты далеко?:– кто-то спросил его.
– В Устьсысольск, – ответил он не то робко, не то нехотя.
– За что попал?
Но арестант молчал.
И только спустя некоторое время, глядя куда-то за стену и читая что-то, начал.
Все присмирели.
– История… рассказывать долго… – заговорил арестант, служил я конторщиком в Пензе и уволился. Поступил в Туле на завод рабочим, запьянствовал. Правда, пил сильно, да, летом ушел в деревню. Нашла там тоска на меня: хожу по полю и все думаю. Раз так горько стало, лег я на траву… и вдруг вижу, черт стоит по правую руку и Ангел Хранитель по левую. Прочитал молитву, – черт скрылся, да… и опять. Встал я, молитвы читаю, а он за мной, ни на шаг не отпускает. Дома рассказал о черте.
«Иди, – говорят, – к священнику».
Пошел я наутро. Священник спал. Я ждать-пождать.
«Не дождешься ты его», – говорит работник.
И пошел я на кладбище, лег в холодке на могилку… и пошли мысли у меня: как на свете жить, и зачем жить? Думал я, думал и забылся. Просыпаюсь, – легко мне, будто что слетело с меня. Осмотрелся: ни пиджака, ни шапки нету. Ну, думаю, пропал теперь: документы и все украли. А кругом ни души, тишина, солнце высоко поднялось. Постоял я, посмотрел так и пошел, и сам не знаю куда. И тоска взяла меня, такая тоска. Вдруг черт… я идет за мной, так и идет. Куда я – туда он. По дороге канава…
«Раздевайся, – говорит, – ложись!»
Послушался я, снял с себя все, хочу лечь, только вижу на дне гроб, а в гробу скелет. Я и говорю:
«Милый ты человек, может, богат ты был, а теперь ничего не можешь»…
А черт говорит:
«Эй, – это твой скелет: ты из мертвых воскрес!»
И я увидел, раскрылось небо, ад представился. На самом верху Бог Саваоф, а с другой стороны стена высокая-превысокая…
«Там праведники, а ты тут будешь, мучиться будешь!» – услышал голос. Тут упал я на колени, смотрю на небо, смотрю на небо, и так хорошо мне, да…
Не знаю, как очутился я в каморке без окон темной, тесной, нежилой, видно. В щели засматривают мои товарищи, засматривают и смеются… И все – черти. Прочитаю молитву – прогонятся, а потом опять выглядывают. Как закричу на них – явился Ангел, заплакал, взял меня за руку, и повел…
Иду я по лесу, думаю: и зачем это я к немцам нанялся по лесу голым ходить за сто рублей? Возьму расчет… голым ходить, да…
А уж немцы идут, кричат по-своему… И все – черти.
«Не хочу служить вам! – кричу на них, – отдайте мне семьдесят девять рублей, а остальные на братию жертвую. И где это видно, чтобы по лесу голым ходить за сто рублей?»
А они ругать меня принялись, издеваться надо мной… И вижу вдруг, смотрит солнце на меня, смотрит и ласково так манит к себе.
«Солнышко, – взмолился я, – куда идти мне?» – уж так досадно мне было на этих немцев.
«Туда вон!» – говорит оно и показывает будто дорогу.
Бросил я немцев, иду, а солнышко говорит, говорит, и так хорошо, так хорошо мне…
«Чего безобразишь, а? – закричали надо мной, – не видишь, что ли, девки тут?»
Очнулся: поле, сенокос, полно людей, а я совсем голый.
«Отдайте мне мои деньги!» – закричал им.
А они как бросятся на меня, лупили, лупили, к уряднику поволокли, и там всю шкуру спустили. Потом в острог посадили за бесписьменность. Нашла тоска на меня, такая тоска… черти явились, всю камору заняли. И куда ни глянешь, везде они, черти, да… черти.
Остановился.
Губы странно, страдая, улыбались. Глаза выскочили: не отрываясь, глядели они на что-то смертельно страшное.
Между рамами от нестерпимой боли завизжал ветер.
Хлопнула форточка.
Сидели все молча, и каждый думал о чем-то неясно-тоскливом, о какой-то ошибке непоправимой, о жизни ушедшей.
Сидели все молча, и они посреди них, темные, вертелись, сердце травили, сердце щипали, и рвалось это сердце наперекор куда-то, наперекор…
– Собирайся! – ключи зазвенели.
И тотчас гурьбой, подталкивая друг друга и оступаясь, повалили через коридор в контору.
Пришел старший, принес какую-то темную ржавую связку не то ключей, не то замков, бросил ее на стол, и под тихий ее стон и дрожанье прошла перекличка.
Когда же окончилась перекличка, и каждый держал по ломтю черного хлеба, вошли конвойные, нехотя взяли первую попавшуюся руку и руку соседа и сомкнули замки… нацепили «баранки»… И большой и малый стали близнецами, и малый лез и корчился до большого.
Так уж видно судьба!
– С Богом!
Их было немного, и попарно прикованные друг к другу, они шли и пылили затекшими ногами.
Шли-плелись, беспокойно вертя рукой невольной, и от на-сильной близости что-то оттягивающей тяжестью нависало на плечи и гнуло спину.
Сияла теплая майская ночь.
Теплые темные тучи расходились, и звездное золото, открываясь, разливалось по густо-синему шелку, и они жадно вбирали дыхание какой-то страшной свободы, распахнувшейся далеко вокруг до самых последних краев, где с тучами поля сходились, где кресты колоколен уходили под звезды.
Но грязные и закорузло-потные, они и тут не переставали жить нарным тяжелым воздухом – ибо всякому терпению положена своя мера.
Конвойные – забитые солдатики, худые и тонкоголосые, окружали беззащитную голь, но их обнаженные шашки не сверкали, а были ненужными и даже, казалось, тупыми и картонными.
До вокзала дороги два-три часа оставалось.
То тут, то там вспыхивало тонкое змеиное пламя, и малиной входила махорка в ночь.
Стало теплее и уютнее: что-то домашнее оседало на душу и тихо ласкало.
Будто уж и на волю выпустили!
– Это так не полагается! – сказал было конвойный, сказал и забыл.
Их было немного, и, попарно прикованные друг к другу, они шли и чувствовали куртку соседа и там, за этим сухим волосатым сукном, изможденное тело и ребра, но каждый чувствовал также, что вот сзади идет Аришка и идет Васька, нескованные и особенные.
Аришка то и дело забегает наперед, семеня около каждой пары.
Она заглядывает в глаза… и зубы ее широкие и белые поддразнивают, а глаза светлые, детские и жалеют, и смеются, и просят, и тоскуют. И вся она живет перед ними какая-то горячая и желанная. У всех-то допытывается: куда ты и за что, куда и за что? – И все охотно по нескольку раз повторяют одно и то же, и не замечают этого. А Ариша толкует, что идет она по «аферистическому делу», идет только в роты, потому что малолетняя, а купца Сальникова, у которого в любовницах жила, в Сибирь сослали… вместе деньги подделывали, вместе и старуху покончили злющую.
Вся фигурка ее, чистенькая и опрятная, кажется маленькой, болтливой птичкой, перелетающей в этой грезящей ночи, и жизнь ее – мгновенье…
Васька, напуганный и шершавый мальчонка, напротив того, как поставили, так и идет молча, задумчиво. Изорванные рыжие сапожонки шмыгают, а ученическая курточка с бляхой на ремне висит, будто приставленная, и поддергивается.
Николай, скованный с «Чертом», глазеющим куда-то за звезды и жутко вздрагивающим, вдруг вспомнил Алексея Алексеевича, вспомнил театр, «Тучки небесные», но надорванные мысли спутались и разошлись; и осталась одна эта ночь, теплая, майская.
Так прошли они за город с полем и огородами, и едва уж мигал вдогонку тюремный фонарь, ненавистный и злой, как цепной пес.
Сразу открылся шум, и конвойные подтянулись, хотя публики еще не было.
А идти стало тяжеле: камни задевали и резали ноги, на перепревших пальцах зажглись ссадины, и обувь давила и теснила.
Феня-Феня-Феня-я
Феня – ягода моя!
– раздирая гармонику и приплясывая, шла навстречу пьяная пара.
Женщина высоко обняла его за шею и, наваливаясь всем телом, жмурилась и причитала, а он без картуза, красный с ели лающимися волосами на лбу, здоровый..
И с сохой и с бороной,
И с кобылой вороной!
– долетел последний, почему-то грустный голос замирающей гармоньки.
И это счастье, брызнувшее в лицо пойманным бродягам, взорвало глухое неясное желание и заострило, распалило несчастье это.
Угрюмо молчали.
Поравнялись с «домами».
В окнах было уж слишком много света, и заливалась, пилила скрипка.
Незанятые женщины толпой сбегали с лестниц и что-то кричали и махали руками.
Яркий цветной фонарь освещал их, и обнаженные их груди росли, колыхались и были везде и всем, были нарядом и лицом, и глазами, и голосом.
Пахнуло чем-то парным, гнойным и раздражающим до боли… и они, такие красивые и богатые, казались родными и самыми близкими.
– Сволочи! – пронесся вдогонку отчаянно хохочущий голос, – сволочи!
Прокатился экипаж – один, другой. Извозчики трусили. Прохожие по-разному проходили мимо – грустя, чуть подвигаясь, и убито, и махая руками, надорванно раскачиваясь, и бешено, но каждый шаг их с твоим сливался и, пропадая, отрывал кусок за куском от твоего сердца.
Они жили на воле.
С шипом, дразня мелькнул голубенький огонек битком набитого трамвая.
Фонари зажигали.
Из лавки выскочил мальчишка, сунул конвойному связку черствых баранок и шмыгнул обратно.
В окне бородатый старик осенил себя большим крестом и строго пожевал губами.
Старушонка-нищенка трясущейся рукой положила копейку, перекрестилась и горько заковыляла: сыночка вспомнила.
Улица, вырастая в волю, в жизнь, какою и они когда-то жить хотели, какою будто изо дня в день жили, тянула и рвала душу:
– Не все ли равно? – Да, не все ли равно! – будто шептал кто с этих снующих мостовых, и кричал из каждого камня высоких, согретых огнями зданий и звал и мучил скованную руку.
И воля и нищета вставали распутным кошмаром, сновали разгульные дни, что сплющивали человека в лепешку, тащили в прорубь, гнули в петлю.
Николай вздрогнул.
Из-за домов, где должен был выступить красный флигель, высовывалось теперь черное что-то.
Прощался он с домом:
– Никогда я не увижу тебя!
Прощался он с прудом:
– Никогда я не увижу тебя! Я жил с вами, я любил вас…
Вошли в вокзал, белый, холодный, и суетный. Новенькие блестящие паровозы, огромные закопченные трубы.
Отделенные конвоем от публики, они расселись на самом краю платформы.
Аришка грызет сахар, и рожица ее осклабляется.
И отрезанные, другие, чужие тем, расхаживающим где-то тут, рядом, они, как свободные, как в своих углах, благодушно распивали стакан за стаканом.
– Васька, а Васька, как же это тебя угораздило? – лукаво подмигивая, обращается к мальчонке весь заостренный и насторожившийся беглый с «Сакалина».
– В Америку! – робко отвечает Васька.
Все они хорошо знают, как и что, рассказывал он про эту Америку тысячу раз, но все же прислушиваются, и непонятным остается, как он, этот Васька, идет с ними, живет с ними, ест с ними.
– Ах, ты, постреленок, в Америку! Ишь куда хватил шельмец!
– До Ельца добежал, – начинает Васька, – а там поймали и говорят: ты кто такой? а я говорю: из приюта, а они говорят: как попал? А я говорю: в Америку. Потом…
Тут Васька отломил кусок булки и, напихав полон рот, продолжает:
– Потом, в остроге, я говорю надзирателю: есть, дяденька, хочется, а он, подождешь, говорит, а скандальники увидели, булку дали, чаем напоили, один, лысый, говорит: хочешь, я тебе яйцо испеку… Я еще булку возьму! – и снова тянется маленькая, грязная ручонка, и Васька сопит и уписывает.
– Да как же ты убёг-то?
– В Америку?
– И не забижал никто?
– Нет! – протягивает Васька и задумывается.
– В Америку, говорит начальник, в Америку бежишь, сукин сын… Я еще булку возьму!
И смуглое личико Васьки сияло теплющимся светом, и истерзанное перепуганное его сердечко качалось и трепетало в надорванной грудке.
– Второй месяц иду…
Николай прислушивался к этому мечтающему маленькому голосу и невольно искал глазами в толпе любопытных…
Вдруг выпрямился, рванул «чертову» руку, наклонился.
Да, он не ошибся: за стеной конвоя и жандармов стояли Петр, Евгений и Алексей Алексеевич.
Хотел Николай прорвать эту цепь, вырваться из этих сжимающих рук, сделал шаг, другой…
Вдруг с резким свистом и шумом, шипя и киша бездной горячих, стальных лап, подлетел поезд и заколебался, перегибая длинный, пышный хвост.
И сразу что-то отсеклось, и крик смешался с равнодушием, и жгучая тоска приползла и лизнула сердце пламенным жалом, и что-то тянущееся, глухое и безысходное заглянуло прямо в глаза своим красным беспощадным глазом.
– По местам! – закричал конвойный.
А он засохшим от боли сердцем прощался с домом, прощался с прудом.








