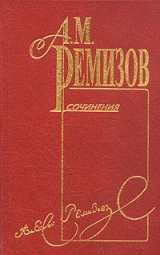
Текст книги "Том 1. Пруд"
Автор книги: Алексей Ремизов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 41 страниц)
Оглашенные
День на день не приходится, час на час не похож. Не всякий вечер лежать Коле под диваном, смотреть в пустую, папироской прожженную звездочку на оборке, да прислушиваться. Палагея Семеновна не бабушка – не Анна Ивановна, – бывает, что и по неделям не слышно ее колокольчика у Финогеновых в гостиной, бывают и другие вечера – будни.
Долгий вечер, каких много. Чуть внятны напевы ворчливого ветра. Ветер ворчит и в трубе, и на чердаке.
Саша и Петя учат уроки, поскрипывает перо, не хуже ветра бормочут, уроков много.
Женя и Коля с бабушкой в потемках. Лампадка теплится перед Трифоном Мучеником. Бабушка расстелилась на полу. С бабушкой, Женей и Колей лежит окотившаяся Маруська и шесть котяток, и тут же шелудивый кот Наумка, – Колин любимец.
– Бабушка, завтра первый декабрь! – вспоминает Коля, – завтра Наумка именинник!
Бабушка гладит по брюшку Маруську, творит молитву.
– Что ты, нагрешник! – спохватывается старуха, разве тварь именинница? Тварь – пар. А его, паскудника, надо палитанью вымазать: истаскался весь, шатавшись.
Женя дремлет: утомила его гимназия. Котятки перебирают лапками, сосут Маруську, – ужинают. Наумка пригрелся, разнежился, сладко-зевнул и запел.
И начинает бабушка сказку.
– Жил-был в тридевятом царстве, в подсолнушном государстве…
– Про Ивана-царевича?
– Про него самого, душа моя, про царевича и серого волка.
Слушает Коля сказку, видится ему серый волк, так ясно видит он волчью, шершавую мордочку. Вот входит волк к Ивану-царевичу, весь его хвост в жемчугах, улыбается волк, а язык-то красный и острый страшно, и глаза горят. «Ну, говорит, спас я тебя, выручил, живи и царствуй, а наград твоих не нужно мне, пойду я в дремучий лес». «Спасибо, отвечает Иван-царевич, спасибо тебе, серый волк, вовек не забуду: не случись тебя, лежать бы мне на сырой земле».
«Буду большим, – мечтает Коля, – богатырем сделаюсь, буду как серый волк!»
И кончилась сказка: бабушка тоже была на пиру у Ивана-царевича – мед там вкусный-превкусный, соты-меды, только ей в рот не попало. Бабушка поднялась, зажгла свечку, а за бабушкой Женя и Коля, а за Колей Наумка.
Входят в комнату Саша и Петя. Уроков они не выучили, но тетрадки и книги побросали в лысые ранцы, будто все готово и в исправности.
На столе перед зеркалом появляется старое Евангелие в черном кожаном переплете с оборванными застежками.
– О страстях Господних! – объявляет бабушка и начинает нараспев истово любимое свое евангелие о страстях: – «И взяв с Собою Петра и обоих сыновей Заведеевых, начал скорбеть и тосковать»…
Слушает Коля евангелие, видится ему Христос: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты». А ученики спят. А ведь Он просил их бодрствовать с ним, но они заснули. И опять молится и опять находит учеников спящими. И час приблизился, вот входит Иуда и множество народа с ним. Если бы захотел Христос, ангелы спасли бы его, но так надлежало быть. Видит Коля, как ведут Христа, и двор видит, где Петр остался, и слышит, как клянется Петр и божится, что не знает Христа, и поет петух.
«И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И вышед вон, плакал горько!» – бабушка молитвенно замолкает.
Присоседившиеся к бабушке дети замерли. Лишь слышно баюканье ветра, и не потухает горькое слово: «И вышед вон, плакал горько».
«Будь я Петром, – мечтает Коля, – я никогда бы не отрекся! А что если опять придет Христос? Поскорее бы Пасха, а там и на лето распустят. Господи, я никогда бы Тебя не предал и не отрекся!»
Саша и Петя тоже мечтают, тоже загадываются, только по-своему.
Женя прижался к бабушке, тычется головой к коленям, и над ним шевелятся концы коричневого горошком платка.
Мороз ли на пруду ударил, ветер ли полосой прошел от Боголюбова, кто-то постучал в окно.
– Ангел! – встала бабушка.
И все дети встали и запели Богородицу. И пропели Богородицу, и долго не трогались с места, словно боялись спугнуть ангела: ангел тут близко летал около дома, около пруда, ангел постучал им в окно, – не постучит ли еще?
– А отчего звезды падают? – спрашивает Коля.
– Ангелы незримые, ангелы падшие! – строго отвечает бабушка и вдруг оживляется: – Саня, душа моя, принеси и почитай моего любимого Пушкина. Что-нибудь чудесное…
Евангелие складывается, тушится свечка, зажигается лампа.
Саша приносит изодранную Капитанскую дочку, откашливается и начинает бойко любимую повесть.
Под конец повести, на том месте, где Гринев прощается: «Прощайте, Марья Ивановна! – Прощайте, Петр Андреевич!» – бабушка с Петей тихонько плачут.
Да и как им не плакать!
В субботу за всенощной Петя подбросил Варечке записку с своим собственным стихотворением:
Ваши очи страстны,
А коса – руно,
Разве вы не властны
Ялику сбить дно?
Вот какой акростих сочинил он для своей Варечки. А когда за обедней, проходя мимо нее с кружкой, он взглянул на нее, полный ожидания, она только повела своим носиком.
«В Сашу влюбилась, конечно, в Сашу! И письмо это Саша писал: „Милый Петя, я тебя очень люблю!“ Вот она какая! Нет, помереть бы, один конец!»
– Эх, душа моя, – вытирает бабушка табачным платком свои табачные слезы, – какая я была в молодости! Лицо у меня было лосное, польское, сам граф Паскевич Иван Федорович засматривался.
Растроганная воспоминаниями, рассказывает бабушка о крепостном времени – о своих прошлых годах, и незаметно переходит к богадельне, к табачной богаделенной жизни, к старухам, к старостихе Юдишне. И уж не граф Паскевич Иван Федорович, а старик Александр Петрович Отважный ходит-крутит вокруг бабушки, засматривается на ее позеленевшее, когда-то лосное польское лицо.
– Бабушка, а бабушка! – лукаво прерывает Коля бабушку.
– Что тебе, дружок?
– А все же мы тебя, бабушка, из членов Святейшего Синода вычеркнем!
– Вычеркнем, вычеркнем! – подхватывают хором за Колей и Саша, и Петя, и Женя.
– Не имеешь права, будет уж: времена не те! – седой бабушкин волос на бородавке трясется: в чем тут дело с Синодом, бабушка сообразить не может, только чувствует она насмешку какую-то и, пригорюнившись, замолкает.
– Ну, ладно, – сдается, наконец, Коля, – подождем… пока.
Ах, Коко, Коко, и всегда-то озорной ты был, задира сущая. Кормилицу тебе наняли, месяц не прожила, вытурили: с желтым билетом объявилась, гулящая. Поступила Евгения и жизни невзвидела. Бывало, ревмя ревет: как вцепишься, ни за какие блага оторвать невозможно, всю-то норовишь поискусать. А как стал ножками ходить, рано стал ты ножками ходить, годочку тебе не было, жили мы тогда на даче, на круг гулять ходили, и повадился ты на кругу целоваться. Как сейчас помню, Колюшка, впился ты губками в Валю, – девочка с тобой играла, Валя, насилу оттащили, а носик-то ей все-таки перекусил. Потом и себя изуродовал: Господь Бог покарал. Варим мы крыжовник с покойницей Настасьей, царство ей небесное, обходительная, чудесная была женщина, мамашу выходила, ну, и слышим крик. Побежали наверх, а ты, Колюшка, лежишь, закатился, синий весь, а кровь так и хлещет, тут же и печка игрушечная валяется. Залез ты на этот самый комод, сковырнулся и прямо на печку окаянную. С того самого времени ты и курносый, задира сущая.
Бабушка, а также нянька Прасковья любят вспоминать, как Колю покарал Бог, – сделал его курносым. Но Коля и сам без всяких рассказов и напоминаний помнит, как упал он с комода на игрушечную жестяную печку, только не помнит, зачем ему понадобилось на комод взбираться. И не тогда, как перекусил он, целуя, нос какой-то девочке Вале, а только с того дня, как переломил себе нос, начался его первый день, и словно впервые у него открылись глаза: он помнит и видит себя на полу, а вокруг кровь – во рту кровь, на губах кровь, все руки измазаны кровью, все платьице.
Бьет восемь.
Дети вскакивают от бабушки и под часы, и там, под часами, подпрыгивают, топочут, стучат, кричат – мышей топчут. Такой уж обычай у Финогеновых: когда бьет восемь – перед ужином топотать под часами.
– Ну, Коко, похвальный лист тебе, – нюхает бабушка, одобряет Колю, – другую неделю твои духи держатся, удружил: табак чудесный, мягкий.
Дети тянутся с щепотками к табакерке, нюхают, потом чихают и вниз из детской в столовую ужинать.
На лестнице сцепились. Коля дал тумака Пете, Петя оскользнулся, задел Женю, а Саша захотел пофорсить взять всех на левую и ударил Колю под душку, Коля задохнулся, укусил Сашу за палец.
С покрасневшими глазами, дуясь, толкутся дети в кухне.
– Оглашенные вы и лицемерные, – ворчит Прасковья, – не будет вам ужотко гостинцев. Только мамашино здоровье расстраиваете.
Степанида, иконописная кухарка, повязанная по-староверски, в темном платке изловила здоровенную рыжую крысу-матку.
Начинается крысиная расправа.
Мышеловку ставят на табуретку и потихоньку льют кипяток на крысу. Крыса визжит и мечется, а кипяток все льют и льют на нее. С хвоста у ошпаренной крысы слезает шкурка, и хвост становится розовым и нежным, хвост дрыгает. Дается отдых. Передохнула крыса, берут лучинки и тыкают крысу лучинками, то лучинками, то поганым ножом. Снова появляется кипяток, снова льют кипяток, норовя на глаза ей. Крыса судорожно умывается лапкой и кричит, кричит, как человек.
Шелудивый Наумка, курлыча, тут же трется с возбужденными, злыми глазами…
Покончив с крысой, дети переходят из кухни в столовую, но ужинают нехотя, едят – давятся. И, поужинав, наверх не идут, а лазают за занавеску на кровать Маши, рассматривают ярко-намалеванные лубочные картинки: Льва, Бенедиктинского монаха и Священное коронование, подделывают хвостики и рожки, и, только после долгих уговаривании и многих угроз Прасковьи, Степаниды, бабушки, отправляются спать.
Гурьбой подходят к гардеробной к Варенькиной комнате – к спальне прощаться. Стучат к Вареньке. И без толку.
Варенька часто запрется с вечера в своей комнате и не выходит, и, хоть дверь ломай, не откликнется.
– Тише, вы, – останавливает нянька, – мамаша заперлись: нездоровы… У, неугомонные! И когда-то Господь вас на ум-разум наставит!
Долго и шумно укладываются дети: ждут гостинцев. Гостинцы – лакомства: либо по кусочку яблока, либо по часточке апельсина или финик или чернослив полагается детям после ужина и дается в кроватях, чтобы скорее угомонились. Съедят эти гостинцы и затихнут.
Затихло в детской наверху, только Коля не спит. Коля долго не засыпает, все прислушивается.
Из кухни доносится чавканье: в кухне ужинают.
– Наездился он на мне – рассказывает Степанида о своем постылом, – рожать Филиппка время пришло, бросил постылый: со стерьвой-сукой своей связался.
А Юдишна говорит, – слышится голос бабушки, околдовали вы, говорит, Анна Ивановна, старичка отважного Александра Петровича: неспроста он хмелем около вас увивается. Как бы смотритель не заметил.
– И не шляйся ты, хухора, с журавлевским приказчиком, – поучает Степанида Машу, – не висни тут у Федора на шее: он тебя загадит всю, а опосля кинет. Куда брюхатой?
– Трудно, девушка, пока-то устроишься, дух вон и лапы кверху.
Маша хихикает.
Коля прислушивается. И, как под диваном, лежит он, не шелохнется, и, как под диваном, многое не разбирает, и о чем разговор идет, и на что все жалуются, и отчего Маша так смеется-хихикает? Ждет Коля, когда поужинают, ждет бабушку. Вызвался он бабушке постель постелить и постелил: под засаленный, просетившийся ватошный подстильник поленьев наклал и все это сделал чисто, совсем незаметно. Вот как-то она теперь на поленья уляжется, вот чего ждет Коля, и сна ему нет.
В кухне сначала перемывают посуду, потом гасят лампы и шлепают по лестнице – идет наверх бабушка, за бабушкой Прасковья.
Коля завернулся с головкой, только нос торчит.
Нянька тычется по углам, шарит:
– Куда это я, девушка, ватошную вещь задевала, не сыщешь.
Коля смеется, не открывая рта: знает он, где нянькина ватошная вещь – набрюшник, ну да пускай себе ищет!
– Колюшка молодец у меня, лучше всех детей: и постель мне, старухе, постелил и в табак духов налил.
– Мочи моей нету, девушка, измаялась я: день-то-деньской шатавшись, ноги отваливаются.
Почесываются, сначала легонько, потом со скребом.
– Господи, Владыко! – вздыхает бабушка.
– Митя-то сызнова, девушка, в золоторотцах. Из трактира погнали: запой, знать.
– Напущено! – бабушка всунула голову в ворот рубашки, засветила там огарок и ищется, не бабушка – Коза-Береза.
– Спрашивала я батюшку, отца-то Глеба, батюшка молитву дал запойную. Знать, Богу так угодно… Эх, девушка, по пятому годочку Митя в трактире-то: несмышленого, махонького определила. Думаешь, девушка, должность чистая, а вот поди ж ты, может, и напущено. Сердце материно изболелось, глядевши… Закопытили его сердешного!..
Тихо в комнате, только часы ходят, маятник качается. Почесались, поискались и за молитву: молится бабушка, молится Прасковья.
– Скорбящая Матерь Божия, помилуй!
– Троеручица, Владычица моя матушка, сохрани!
– Горы Афонские, согрешил вечеславный, во дни и в нощи!
– Богородица, присно Дева, радуйся!
– Окаянная, словом еже делом, помыслом нескверным
– И от блуда всякого сохрани и помилуй!
– Митрия, раба Твоего, помилуй и сестру Арину!
Коля слушает, как молятся, и вспоминается ему Митя, сын Прасковьи, длинный и серый весь, с крысьими хвостиками-усами, в коричневой визитке, и в штиблетах без стука.
– Но избави нас от лукавого! – оканчивает бабушка молитву, окрещивает воздух вокруг себя, еще раз крестится и опускается на пол, на постель свою, плюх прямо на поленья, – чтоб тебе! – вырывается ее сдавленно-негодующий вопль, – курносая пятка, курнофейка окаянная, уродина паршивая, скажу мамаше. На старости лет, Господи! За что это, Господи!
Шлепаются полена, раскидывает их бабушка по комнате, куда ни попало.
И, раздирая свой красненький ротик, пищит придавленный котенок.
– Оглашенные! – ворчит Прасковья, укладываясь без своей ватошной вещи.
Глава четвертаяДух вон, лапы кверху
Сонный свист и храп и бормотание наполнили комнату, заснула детская.
Не спится Коле, ёрзает он, разбегаются мысли.
Обидел Коля бабушку, ни за что обидел. Лежит она теперь с скорбно-сложенными лиловыми губами, снятся ей проклятые полена, падающие, прихлопывающие ее, как крышка гроба с черными гвоздями. И жалко ему бабушку, жалко ему Митю, – «Митю закопытили!» – вспоминаются ему нянькины слова, и няньку Прасковью жалко, ее самоё копытили век ее вечный, – «Пороли нас больно на конюшне, девушка, лупили за всякую малость»…
Мутно-кровавый глаз лампадки от Трифона Мученика хмуро защурился. Завыло в трубе. И с воем приползло в комнату тайное, что окутывало Финогеновский дом, а в взбудораженных мыслях у Коли замелькала тайная жизнь Вареньки, а в растравленной жалостью душе его поднялись отдельные жуткие дни и часы и минуты жуткой, тайной жизни матери.
«Барышня несчастная!» – вспомнилось Коле, так по двору называли фабричные Вареньку, и тут же вспомнилось, как сказал как-то дворник Кузьма: «За сороковкой барыне!», а Прасковья на него: – «Цыц ты, кудластый, чего галдишь, дети услышат, мало што!» – и еще вспомнились слова бабушки: «Пьяницы не гниют, только чернеют!» Да, чернеют, слесарь Самсон как почернел, Коля Самсона видел, и потому почернел Самсон, что пил много, и Варенька почернеет – «барышня несчастная!»
Варенька пьет, как пил слесарь Самсон, Коля об этом знает. И всякий раз, когда Варенька запирается в своей комнате, она пьет, Коля и об этом знает. Но почему Варенька пьет, и так мало ест, а только пьет водку, Коля может только гадать.
«От скуки, вот отчего, скучно ей, все книги читает и журналы: книги и журналы такие скучные! И почему вчера в театр не поехала? – спрашивает себя Коля, – разоделась в свое дорогое зеленое бархатное платье, напудрилась, брошку приколола золотую с бриллиантами, и осталась дома сидеть?»
Коля не знает, что ответить, ему всегда бывает досадно, когда Варенька почему-то остается дома сидеть, он любит, когда она разряженная перед отъездом прощается с ними – дает руку поцеловать и в лоб целует каждого. И вдруг вспоминаются ему слова Палагеи Семеновны, он их недавно под диваном слышал:
«Ты только подумай, Варенька, что про тебя скажут? Нельзя тебе ехать с 3., и так уж говорят о вас. Ведь я должна предупредить тебя: если хочешь сохранить свое доброе имя…»
Коля так ясно услышал голос Палагеи Семеновны, и представилось ему, будто лежит он в гостиной на полу под диваном, весь он скорчился, и неловко ему, и душит пыль, а голос Палагеи Семеновны острыми иголками колет его в грудь, и плачет Варенька, вся разряженная в своем дорогом зеленом бархатном платье, плачет так жалостно. Вот выскакивает он из-под дивана, бросается на Палагею Семеновну, цапается за платье, но Палагея Семеновна подымается на цыпочки, вырастает, уж в потолок головой упирается, скалит свои острые желтые зубы, а подбородок у ней трясется – перекатывается мягкий и жирный, как Индюшка. И хочется Коле орать во все горло, разбить новый стеклянный колпак, разодрать альбом с карточками, Ниву, сорвать скатерть, исковеркать стол, а к губам его пристает что-то липкое и соленое, как тогда, когда упал он с комода на железную печку и расшиб себе нос, и красные, густые, кровавые пятна выплывают из углов, плывут на него. Он свернулся в клубочек, кружится, мечется, как ошпаренная крыса в мышеловке. Хочет проскользнуть в спальню, а ноги не слушаются, ноги к земле прирастают..
– Няня! няня!!! – и сердце перестукивает, и губы вздрагивают, и голос надрывается.
Но в ответ ему только ветер воет. Что же, нянька не слышит? Спит Прасковья – закопытили ее, и бабушка спит – и ее закопытили. И словно вымер весь дом, ни души живой, ни слова в ответ, только ветер, ветер воет.
«Когда буду большим, – успокаиваясь, перестукивает сердце, – буду все делать, захочу – петь буду. Никола, угодник Божий! – молится Коля, – Ангел мой Божий! Завтра, завтра… серым волком буду…»
И ударили в Боголюбовом монастыре, зазвонили к заутрене, и от звона стекла вздрогнули, а часы, под которыми в восемь Финогеновы топчут мышей, с оттяжкой пропели свои три часа. И засвистел на дворе фабричный свисток, долгий, словно встрепенувшийся со сна.
И почему-то вспомнился Коле фабричный мальчишка Егорка, попавший в маховое колесо. Стал Егорка перед глазами и, подлетая и улетая куда-то за спицы, взвивался, мелькал на маховом колесе, и уж не Егорка, а кровавый кусок говядины, его синие сплющенные лепешечками пальцы хватались за воздух; синие, красные, черные, желтые, серые дранки отщеплялись от его тела, и только медный изогнутый крестик все трепыхался на проломленной нсполсованной груди.
– A! a! ax!!! Душат! – не своим голосом заорала Прасковья: видно, ей опять черти приснились.
«Ходят они по ночам за мной, – часто слышал Коля, как жаловалась нянька, – будто этак комната – спальня, а они черненькие, в курточках крадутся…»
Кто-то неслышно подошел к кровати, провел по одеялу руками.
Коля обомлел от страха.
Да это Женя. Это Женя во сне встал и бродит!
Женя постоял-постоял и пошел к своей кровати.
«Порченый! Женя – порченый! – мелькнуло у Коли, – порченая девочка в Боголюбовом подняла за обедней подол, да прямо в крест о. Глебу!..» – и начинает сам кощунствовать, и хотел бы остановиться, да не может, все новые кощунства осаждают его: он и сам плюет в крест и, Бог знает, что делает с крестом, как та порченая.
– Господи, Господи, – кается Коля, мечется на постели, шепчет, – прости меня: с Ваней Финиковым в алтаре подрался, я садился на престол, и на мехах, кадило раздувая, чертиков рисовал, Никола, угодник Божий, ангел мой Божий, прости меня!
А в ответ Коле как запищат котята, все семь котяток Маруськиных, да так неистово, бабушку с пола подняли.
– Окаянные! треклятые! – застонала бабушка, отдирая от себя вцепившихся и в волосы и в рубашку ошалевших котят, вся вытянулась, костлявая, взлохмаченная, седой, трясущийся хвостик на бородавке загнулся серпом, выпученные, зеленые глаза, не бабушка – злая Баба-Яга.
Коля зажмурился, не дыхнет, не пошевелится: дух вон и лапы кверху. Подушка – огонь горячая. И что-то будто темное огромное плывмя плывет на него, оно вот-вот раздавит, сплющит его маленькое тельце, и душа его вылетит, – конец его Коля скрестил кулачки:
– Ангел мой, Хранитель мой!
Но сон берет свое, тихий сон закрыл ему глаза и успокоил встревоженное сердце и унес испуг, оставив сладкий покой и тишину.
И все затихло, все заснуло наверху в детской.
Варенька задула свечку и, шатаясь, повалилась на кровать, так полураздетая, с какими-то подплясывающими назойливыми мыслями, будто заостренными зеленоватыми крестиками в глубине ее воспаленного мозга. Заломила она руки, разметалась. И ослабевшая свинцовая голова ее, и переизнывшее сердце погрузились в чадный сон неминуемых бед и дразнящего хмельного несбыточья: ей так много хочется, так много всяких желаний у ней, и все будто само приходит, приходит готовое исполниться, и сразу сжигается, не утоляя. Если бы ей совсем-совсем никогда и ничего не хотеть!
И в белом Огорелышевском доме пришел тихий час. Там в окне у Арсения вздохнула матово-зеленая лампа и померкла, и зазмеился желтый огонек свечи, поиграл и уполз. Вздрагивая и от утомления и от табаку, оторвавшись, наконец, от дел, которых всегда так много, а часы так кратки, прошел Арсений в спальню, где лежит болезненная жена, состарившаяся, выцветшая и совсем чужая. И ему вспоминается новенькая банковская машинистка в кудряшках, и он дрожит, нечаянно встретив себя в высоком, закачавшемся трюмо. И какая-то горечь пьет сердце. Знает он, что, не делая своих дел, он не может жить, и вся жизнь его в борьбе и победах – он всегда побеждает, но зачем ему эти победы и зачем дела? Для того, чтобы сделать все по-своему, разрушить и построить, расчистить место и построить, как хочется, создать свое по-своему, по-новому, по-другому. И дел так много, и часы так кратки, успеет ли он? И жизнь проходит, и как быстро проходит! А он ее еще уторапливает.
И на дворе начинается новая смена, после краткой ночи наступает рабочий день.
В заплесненно-гноящихся, спертых фабричных корпусах и в душных каморках, несладко потягиваясь и озлобленно раздирая рты судорожной зевотой, крестясь и ругаясь, подымаются фабричные. Осоловелые, недоспавшие фабричные дети тычутся по углам, и от подзатыльников и щипков хнычут.
Распластавшиеся по нарам и койкам, женщины и девушки с полуразинутыми слипающимися ртами борются с одолевающим искушением ночи и с замеревшим сердцем опускают горячие ноги на холодный, липкий, захарканный пол, наскоро запахивая и стягивая взбунтовавшуюся грудь.
Сменяется ночной сторож Аверьяныч и, обессиленный болями, с пеной на подгнивающих губах, сквернословя и непотребствуя, валится в угол сторожки, а на его место становится дворник Кузьма.
Тянутся в Боголюбов монастырь вереницы порченых, расслабленных, помутившихся в уме и бесноватых с мертвенно-изможденными лицами, измученные и голодные, у одних закушенные языки, у других губы растрескавшиеся, синие без кровинки, с застывшею странной улыбкой.
И о. Глеба, укрощающего бесов, ослепленного схимника, ведет под руку из белой башенки-кельи в церковь к бесноватым дылда-послушник, отплевывающийся от сивушной перегари полуночной попойки.
И в промозглом, заиндевевшем склепе Огорелышевых последний жадный червяк точит последнюю еще живую кость деда Огорелышевых, Николая.
А там, за вьюжным, а там за беззвездным небом, нехотя пробуждается зимнее серое утро и сдавленным, озябшим криком тупо кричит в Финогеновском петухе, очнувшемся на самой верхней жерди.
Кружится, крутится – падает снег, кружится, падает снег на замерзшую землю и хоронит ее такую непонятную, с ее неразгаданной непостижимой жизнью.
А там, на скользкой высокой горке, запорошенной пушистым снегом, там что-то огоньком мелькало – один из бесов, бесенок с ликом неподкупной и негодующей человеческой честности и справедливости, по-кошачьи длинно вытянув вверх ногу, горько и криво смеялся закрытыми губами.
Он-то знал, и зачем надо было самому деду Николаю на свет родиться, а от Николая Арсению и Вареньке, зачем Арсению свои дела делать, а Вареньке горькую пить, и зачем Коле под диваном сидеть и все замечать и ко всему прислушиваться, и про бабушку знал и про няньку и про Митю, зачем век их вечный копытят и будут копытить, он знал поименно всех порченых и бесноватых, дожидающихся схимника о. Глеба, и зачем одни, не доспав, должны вставать на фабричный свисток, а другие спят, и почему так складывается, одним одна жизнь, а другим другая, одним легкая и удачная, другим трудная и несчастная. Да знал ли он? И кто он – демон, один ли из бесов или просто бесенок? И демон, и бес, и бесенок, он знал и горько и криво смеялся с сжатыми губами.








