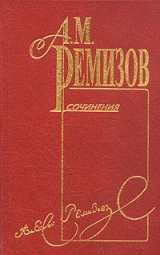
Текст книги "Том 1. Пруд"
Автор книги: Алексей Ремизов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 41 страниц)
Тяжелая, полная случайностей жизнь выпала на долю о. Глеба.
Когда умер его отец – разорившийся, когда-то богатый помещик и под старость смотритель Воронинской богадельни, остался он с матерью.
Комната в бесплатных квартирах при богадельне. Дни напролет согнувшаяся над столом мать. На столе вороха пряжи, неподрубленных платков.
И тут же гимназист с растаращенными руками, растягивающими пряжу. Ему пятнадцать лет.
Мать слабым, слезливым голосом вспоминает о прошлом, вспоминает о достатках, вспоминает о почете, – и все потопает в дрязгах нищенской, настоящей жизни.
Потом «уроки», унижения.
Нахлынуло, закипело: – Нельзя так жить, нельзя жить! – выбивало сердце рвущим стуком.
И свет, этот детский свет, медленно меркнул и гас.
После первого выпускного экзамена исключили.
Волчий билет не помещал для горшей, быть может, обиды, праздновать окончание.
Первая пьяная ночь. Наутро изгнание из бесплатных…
Помутневшие глаза, хворость и обида подтачивали и доконали мать.
Жизнь пошла тупо.
За стенок крики и кашли, кашли и стоны, стоны и слезы, слезы и ругань.
Будто шел все куда-то по тесному, промокшему банному коридору: редкие, выгорающие лампочки, спертый пар, поплескиванье глухо сбегающей воды с некрасивых, измученных, выцветших тел. А там…
Да есть ли она, есть ли дверь наружу?
Он был тем, кого одни любят, другие ненавидят. Равнодушия нет. Резкие переходы путают и мутят: не знал, как ступить. А там…
Да есть ли она, есть ли дверь наружу?
Как-то приехал родственник по делам отца.
Отыскали его, приютили. И открылся ему новый мир. Пришла любовь, повернул ветер на свадьбу, на счастье.
И все бы пошло по-хорошему, да случился грех.
Еще не старая мать, принявшая близко к сердцу судьбу своего погибающего родственника, так к нему привязалась – сказать себе не смела: подлинно ли тут одно сострадание.
И произошло то, что накануне новой жизни дочери мать готовилась стать от него матерью…
А у него – внешне веселые дни, дни надрывающихся секунд долгих, тянущихся червем.
Этот беззаботный хохот, словно вся жизнь – копейка, а может быть храм, этот призыв на какой-то безумный пир, этот намек на какие-то такие ласки, что ужас – мор, пожар, потоп, смерч разодрали бы на себе траур, раскололи бы царский литой венец и придушили бы гром, это живое и трепетное глубин жизни – первородное сердце – полосовалось мелкими искривленными ножичками.
И полыхавшая в нем любовь, и любовь тихих, уверенных вздохов отдающейся девушки, и любовь темных, глухих желаний последних дней матери.
Тайна бунтовалась, тайна не хотела больше жить взаперти, – легла она тяжелым камнем, зачернила черной каплей грозовых предвещаний глубь края неба, зарю счастья.
И снег, этот снег, вздыхал, угасая…
Позднею ночью он с отцом невесты возвратился домой.
В доме справлялся девичник.
И, ступив на порог, они в ужасе замерли.
В освещенном зале на столе лежало-копошилось отвратительно безглазое что-то, вязкое что-то, каша запекшейся крови, кусочки мяса.
И это мясо – тело такой красавицы, задыхавшейся от ожиданья невесты!
Одна из подруг открыла ей тайну ее матери, рассказала о женихе, о их связи. И она не вынесла, вышла на улицу, легла под поезд.
И рядом с дочерью мать умирала.
Стало ему жутко легко: казалось, железный багор, вонзившийся в шею, превратился в мягкую, горящую ленту, и лента опутала замерзшую грудь, и, страшно натянувшись, вдруг дернула и понеслась.
И он, каменея, куда-то несся, кружился.
С каждым кругом круг расширялся, и левое бежало к правому, и правое погружалось в левое, ни конца, ни начала.
Лазурно-небесные дали, тихо-текучие воды, благовонные воды покоя и мира.
Моя матерь, Владычица!
Ты одна во всем мире – песчинке, безумно летящей вкруг – солнца, в шаре гигантском, прорезанном темной непонятной тоскою, Ты одна – Тебе несу мое сердце, от муки затихшее, от жажды завядшее…
Много кануло дней и ночей холодных, беззвездных.
Много черных слов прошло сквозь мое сердце.
Каждое слово, вонзаясь, разрывало его теплое тело, каждое слово свивало паутинно-душные нити, тесно давившие нежную труда цветущих желании.
Все они шли, сеяли раны и боль, шли, разрушали преграды, отделявшие теми от светов, пеплом крыли память о дальнем, минувшем, когда ребенком. грезил о мирах золотых и о сказочном рае, грезил и ждал…
Вернуть, вернуть бы эти мгновенья, понестись бы на крыльях без тоски, без оглядки по полям, по лесам…
Сны подползали, приводили с собой мертвецов, приводили врагов, горевали, сулили: то окружат серой, безмолвной толпою, то чуть внятно бормочут.
Заняли двери: не уйти, не вернуться.
За обидой ложились обиды, нарастали, затопляли всю душу, – ни одно солнышко не взошло, не осияло.
А горечь перегорала, оседала на ранах, руки тянулись, руки искали…
О, отпусти Ты меня, отпусти на волю! – кричало сердце.
И люди мелькали, глухие, несчастные люди.
Слепые – не видят друг друга.
И тоска пеленала, пела мне темные песни.
Вернуть, вернуть бы эти мгновенья, понестись бы на крыльях, без тоски, без оглядки по полям, по лесам…
Матерь моя!
К Тебе – простертые руки…
Тебе – мое сердце.
Там, где зори жемчуг рос рассыпают и вкрапляют красные камни в лучи, там светится сердце.
Твое сердце.
Твое сердце – шепот лобзаний.
Подыми, подыми!
Сокрой покровом нетленным, белым, как снег родимой зи мы, утиши мои вопли рокотом ласковым взоров пречистых, об вей изболевшую, изглоданную мою душу.
Матерь моя.
* * *
На Покрова, в слякотно-слезящийся вечер, пришедшие на дикие крики увидели его бьющимся, извивающимся от саднящей, жгучей боли.
И на грязном, щебнистом дворе отравленный он бился в изодранном белье, бился, загрызая известку.
Отходили.
И смерть – желанная – принесла жизнь, а жизнь – испытание.
Он бросился, бросился с головой, чтобы не слышать неизмененный, все один и тот же голос, который ясно звучал, как только оставался сам с собой. А голос этот был страшным молчанием, которым плотно облеклась вся душа, дрожащая из пасти тяжких ран.
Надо было оставить себя, надо было уйти в другую жизнь, надо было отдать всего себя, отдать другому, для другого… надо было замереть на краю пропасти…
И пришли новые беды, не замедлили.
Несколько лет не слышно о нем, потом находят его в отдаленной северной пустыне.
Говорят о дурной болезни, которой он захворал и лишился глаз…
Говорят о тяжком преступлении, в котором его обвинили, и ослепили…
Из пустыни он перешел в Андрониев. Тут-то и прошла молва, будто бесы повинуются ему.
XIДетям очень хотелось, чтобы о. Глеб пришел когда-нибудь пруд посмотреть.
Уж назначен был день. Да все несуразно пошло.
Утром вызывали мать в дом к братьям. Делалось это нередко, и вызывалась она для того же самого, для чего ловились дети по субботам и после ранней обедни.
С каждым годом Варенька опускалась все ниже и ниже.
Спальня ее обратилась в грязный номер грязной гостиницы с больным бездомным гостем: все было не на своем месте, все было заставлено и раскидано, – закупоренные окна, пыль, сор, духота. За порог спальни ничья нога не переступала.
Вино покупалось открыто, покупалось в больших размерах: пили монахи.
Возвратясь от братьев, Варенька заперлась…
А когда, спустя глухой час, она вышла в зал полураздетая, красная, наткнулась прямо на Алексея Алексеевича – так все звали гимназиста, одноклассника Саши.
– Вам что? – спросила она, не узнав мальчика.
– Я к Саше, – отвечал тот, странно смутившись.
– Шляются тут… всякие… украдут еще… – она круто повернулась, заложила руки назад, и пошла…
Ошарашенный гимназист поплелся домой.
С Финогеновыми Алексей Алексеевич был знаком очень давно. Когда-то еще в приготовительном классе вместе с Сашей дергали они в звонки или, намелив ладошку и два пальца и сделав плевками глаза и нос, припечатывали чертей на спины прохожим. Списывали друг у друга задачи, extemporale, переводы.
И по житью, и по обличью он мало чем отличался от Финогеновых: вечно продранные локти, и заплаты – глаза вдоль сиденья, и беспризорность, и то, что где-то рядом живут такие люди, которые все могут, а ты… и это «могут» нет-нет, да на тебе и покажут..
Раньше приходил он только по делу: за уроками. А с некоторых пор стал заходить так; жил недалеко от монастыря, по соседству.
Палагея Семеновна после некролога даже в именины не показалась. Рояль некоторое время не открывался.
Оказалось, Алексей Алексеевич играет.
Вот и музыка пошла.
Знал он для своих лет много, знал то, чего не знали Финогеновы: читал книги.
Книги появились и у Саши.
* * *
Когда дети пришли из монастыря и узнали от Прасковьи, как Варвара Павловна выгнала Алексея Алексеевича, и как тот ушел, – огорчениям и досаде конца не было.
За обедом излили злобу: они, один за другим, подталкивали проходившую по столовой мать, подталкивали с каждым толчком сильнее и грубей, подталкивали с каждым прикосновением больнее и жестче.
И та, едва держась на ногах, шарахалась из стороны в сторону, вперед и назад, вправо и влево.
И полон рот ее дрожал в слезах, и посиневшие губы дергались; и рвалась, скрежетала ругань и проклятия.
– Проклятые! Проклятые!
В прихожей она оступилась и, не удержав равновесия, ткнулась животом оземь.
Вдруг встала, будто опомнилась, и пошла, пошла с закрытыми глазами, молча, в спальню.
Щелкнул замок…
– Проклятые! Проклятые!
И дом притаился.
Уж прошло шесть и пробило семь, а о. Глеба все не было… И стало так жутко, и страшно сердцу, страшнее всякой боли, страшней самой горькой обиды.
– Батюшка, благословите! – послышалось, наконец, обычное монастырское приветствие о. Гавриила.
И старец переступил порог.
Весь дом на ноги поднялся.
Мать вышла нетвердо; прерываясь, с надтреснутым хохотом, выскакивали у нее слова.
Дети от стыда чуть не плакали: очень было заметно, а так не хотелось этого, так не хотелось…
Сели чай пить на террасе.
Был теплый, слегка затуманивающийся вечер конца весны. На пруду лягушки, будто рыдая, квакали.
Один о. Гавриил казался невозмутимым и благодушным; старался занимать о. Глеба.
И разговор о. Гавриилом начался. Сначала рассказал он о том, как о. Платон-«Навозник» и о. Авель-«Козье вымя» во время обедни вцепились друг другу в лохмы за кружку, потом перешел к жизни «низких душ».
– В келье Пирского, батюшка, родила на утрене, извините за выражение, его Манька, батюшка, двоешку.
Старец, не проронивший ни одного слова, казалось, впивавший все невзгоды комнат, вдруг повеселел.
– Вот и хорошо, – сказал он, – вот и у нас ребеночек родился: это Христос посетил наш мрачный храм, наш мертвый дом…
– Батюшка, – заволновался о. Гавриил, – а ну как до «Хрипуна»… до преосвященного дойдет?
– Да, – осунулся старец, – дойдет. Расскажут. Послушника выгонят…
И старец замолк.
И в ту же минуту каждый прочел в своем сердце горький упрек, каждый обвинил себя в своей и чужой вине и в вине целого мира перед самим собой.
И острием острейшим входил этот упрек, входило то обвинение, и уходили вместе глубоко, глубже в сердце.
Стало пусто, невыносимо, жить не хотелось, и все голоса, дотоле громкие и внятные, замолкли…
– Ну, а пруд-то посмотреть? – очнулся старец.
И тотчас все, с матерью и о. Гавриилом, дружно повскакали, схватили под руку о. Глеба и, чуть не бегом, прямо в сад.
И там пространно затараторили – рассказывать стали о яблоках и «кизельнике», и как они их воруют, сшибают, рвут, трясут.
Затащили в купальню и, совсем забыв, что старец ничего не видит, проделывали разные фокусы и диковинки.
– О. Глеб, а о. Глеб, а я-то как, посмотрите, о. Глеб, я на одной ручке!
– А я на спинке!
– Сидя!
– Лягушкой!
– По-бабьи!
– Рыбой!
– С головкой вниз!
– Ногами вверх!
И долго бы еще ныряли и проказили, – Прасковья помешала: ужинать готово.
Мать совсем уж оправилась.
И когда сели за стол, было страшно шумно и весело. Старец хохотал раскатисто и беззаботно, как хохотали Саша, Петя, Женя и Коля.
После третьей о. Гавриил пустил себе в жирный суп огромный кусок икры, стараясь щегольнуть перед о. Глебом своею светскостью, но, забывшись, стая есть руками.
– Ты, Гаврила, кильку съел? – поддразнивали дети.
– Съел, душечка, съел.
– А еще съешь?
– Съел, душечка, съел.
Так до бесконечности.
Далеко за полночь увез старец нагруженного о. Гавриила, на которого кроме прочих бед напала еще безудержная икота.
И он икал, будто квакал.
И от хохота никому спать не хотелось.
А рассвет, засинив белые занавески детской, не спросил: что ты сделал? зачем сделал? – не заглянул тем страшным, искаженным лицом, от которого бежать бы, бежать на край света…
XIIНа Иванов день минуло Коле тринадцать. До той поры не прочитавший ни одной строчки и презиравший книгу, Коля случайно наткнулся на Достоевского.
И Достоевский был первым, который тронул его.
Строчки горели, закипали слезы.
Эпизод из «Мертвого дома» навел на мысль об устройстве театра.
Когда-то давно, всего один раз возили детей на «Конька-Горбунка», и с тех пор разыгрывались оттуда разные сцены: изображалось с помощью тряпок, служивших ризами для игры в «большие священники», желтое поле, и кто-нибудь ржал и прыгал коньком, и жестикулируя, как в балете, являлся Иванушка, вымазанный сажей, будто в процессиях «избиения младенцев».
Теперь решено было устроить настоящий театр и играть все.
С матери взяли подписку: она мешать им не будет, а они не будут просить денег.
Пошли собрания.
Происходили собрания наверху ночью и страшно тайно: боялись недоразумений со стороны матери. Обыкновенно снимали внизу сапоги и на цыпочках пробирались по лестнице. А там уж кипел самовар, и, открещивая окна и углы, укладывалась на ночлег Прасковья.
За чаем под тук и стрекотню разгарной летней ночи уносились Бог весть куда: чего-чего только не выдумывали, каких таких театров не воздвигали. Говорили наперерыв, задыхались от клокочущегося нетерпения.
Больше всех горячился Петя.
Решили играть до 16 августа, непременно до этого ненавистного дня, за спиной которого торчит гимназия со своим отвратительным казенным лицом в двойках, с вечно шмыгающими, скучными и злыми классными наставниками.
По постройке театра большое участие принял о. Гавриил, натащивший всякого хламу из своего свинушника-кельи.
Доски скрадены были ночью из плотницкой. Красть помогали фабричные, не меньше детей ждавшие представления.
Работали с опаской, стараясь лишний раз не стукнуть, не поднять голоса.
И вот после долгих трудов сцена готова.
На площадке перед террасой, под качелями, будто на корточках примостилось какое-то первобытное строение – шалаш, какой-то дешевый сахарный домик, а на перекладине качельных столбов взвилась огромная афиша, изображающая зеленого черта с хохочущими глазками.
Всю ночь накануне держали караул: управляющий Андрей-«воробей» грозил «убрать шалашную постройку», а дядя Игнатий, проходя по саду, остановился и подозрительно наводил бинокль.
Хорошая была ночь, теплая, без облачка; продежурили ночь безропотно и, как на грех, к утру застлалось небо, и накрапывающий сонный дождик серыми каплями-лапками пополз по крыше и, проползая под доски, ползал там по липким, мажущимся стенкам трясущихся кулис.
Чуть не плакали от огорчения, молились Богу, чтобы прояснилось.
Передрались друг с другом от отчаяния.
Иссякнул дождик к вечеру. Побежали тучки, крохотные, ясные, принесли с собою вечернюю синь с талыми звездочками.
Заиграла музыка, – Алексей Алексеевич из кожи лез.
Хлынула народу тьма-тьмущая: фабричные, плотники, пололки с огорода, их знакомые и знакомых знакомые и знакомых приятели.
Явился городовой Максимчук «в наряд».
Наряженный в голубую ленту и небывало высокую звезду из черного сафьяна, начальственно расхаживал он по рядам, пошелушивая подсолнухи и непечатно «балакая» с публикой.
О. Гавриил важно расселся в первом ряду, нацепив на нос для торжества такого пенсне без стекол.
Он что-то без умолку болтал совсем непонятное, будто по-французски и наблюдал за матерью, которая полдня, запершись, просидела в спальне.
* * *
Занавес медленно отдергивается.
Боже мой, сколько раз замирает и отлегает на сердце, сколько волнения, как на экзаменах…
И какая безумная радость от этих встрепенувшихся хохотов, от всех лиц, искаженных гримасами, и этих прыскающих при-смешек, и гудящих, визжащих восклицаний и криков одобрения.
У старухи-Коли выпотрошился живот.
Спившийся певчий-Пегя икал, как по-настоящему, должно быть, и от пива настоящего.
– Ха-ха-ха… хо-хо-хо… го-го-го… хе-хе-хе… хи-хи-хи…
Снова заиграла музыка.
Вышел Петя – запел своим чистым тревожным голосом, и звуки подкатились к деревьям, окунулись в созревшей листве и поплыли по пруду…
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.
И опять стало жутко, задрожали коленки. Новая сцена.
Следователь-Саша: Подать сюда Ивана Ананьева!
Купец-Женя: Ваше благородие, ежели я вымазал горчицей лицо мальчишки, так я, провалиться мне, ей-Богу…
Будочник-Петя: Иван Ананьев, к барину! Слышь, ты!
Из дверей выскакивает, как только можно было изодранный, в опорках на босу ногу, с подбитым глазом Сапожник-Коля.
Нахально озирается, потом, преглупо улыбаясь, переминается, хочет сказать что-то, разевает рот…
– Это еще что за новости, – раздается вдруг крикливый голос, – вон! – и среди дрогнувших голов мелькнула и повисла скрюченная рука дяди Алексея, – вон!
И, как один человек, пошла толпа, повалила толпа, как дым, бездушно и вязко; а скрюченная рука Огорелышева, не дрогнув, нависла, давила, и крик этот жил, хлестал по голой шее, по лицу, и что-то едкой пылью-жгутиком больно подгоняло вон, вон, вон…
О. Гавриил бросился на террасу, туркнулся в дверь – заперто, к окну – слава Богу! полез через окно и застрял…
– Подожжете еще… никаких театров в нашем доме… Примите это к сведению! – Алексей выкрикнул все это скороговоркой и, вздрагивая плечами, повернулся…
– У Достоевского вон на каторге… театр устраивали… – Коля не мог докончить: крепкая пощечина хлестнула задорно-звонко по вымазанному лицу; смятый рыжий картуз глухо шлепнулся на подмостки.
– Мерзавец! – плюнул дядя.
– И не посмеешь и… и… – тогда закричал Коля на страшно высокой ноте, закричал… захлебнулся.
Сухие слезы брызнули из его раскрытых глаз и, смешавшись с густым плевком, стали расползаться, разъедая краску.
– Свинья! – и, круто повернувшись, зашмыгал-полетел Алексей, и лицо его, улыбаясь шипящим, сухим ртом, болело от злобы.
Умереть?
Нет– нет – нет, сердце разорвать, сердце разорвать…
И рыдало оплеванное заостренное сердце…
О. Гавриила, кричавшего на манер свиньи, высвободили из окна с помощью Кузьмы, городового, Степациды, няньки и Маши. Рясу позабыл, куда там! – так пятки и засверкали.
* * *
Сидели наверху вкруг самовара, как всегда. Приготовленные к подношению дубовые венки обиженно глядели со стен детской.
Алексей Алексеевич взволнованно взад и вперед ходил по комнате.
Храпела нянька.
– Уж зимой непременно устроим. Здесь устроим или в зале…
– А на будущий год можно и занавесь такую повесить, настоящую.
– Все играть будем…
Алексей Алексеевич взволнованно взад и вперед ходил по комнате.
Зеленый черт, теперь ночной черный, зажег зелеными огнями хохочущие глазки и, извивая длинный хвост, принялся в неописуемом восторге раскачиваться на влажной перекладине.
А на него шла Осень-красавица, – последние дни – упоенье несказанное – Осень, рассыпающая тьмы путей – говорливых звезд. Осень, поднимающая золотые хоругви, заставляя зеленый пруд.
– Пожар какой, пожар пущу! – горело, раздувалось детское сердце в пожаре лютом.
XIIIРанним утром, чуть еще брезжут осенние будни и редко ударяют к «средней обедне», Женя и Коля отправляются в училище.
Слякотное небо, слякотные улицы, поскрипывая, раздирают мутные от лихорадок и тифа глаза; к папертям подносят покойников бедных с колыхающимся желтым казенным покровом вдоль дощатых дешевых гробов и пахнет перегорелым ладаном и гниющей, заразной сыростью, и стаи ворон, каркая, кружатся и перелетают, Перелетают и кружатся…
Таким отдаленным казалось тогда то будущее, что непременно придет своевольное и огромное, то будущее, которого хотелось, о котором всякий час и день смутно, но с таким жаром мечтали дети.
Уроки тянутся надоедливо, – все придирается и изводит: батюшка обличает Финогеновых, позорящих, дом, благочестие коего засвидетельствовано многими христианскими добродетелями, русский учитель вылавливает в сочинениях вольнодумства и горько стыдит за безграмотность.
Перед партой постоянно хранится книга и с каждой перемен ной убывают правые страницы, как с каждой четвертью убавляется баллы по поведению.
Нередко наезжает в училище дядя Алексей, и приезд его – самая тягчайшая минута и без того обузной классной жизни.
Приходится забираться в самые тайные места и там высиживаться. А то позовет, придерется и для «острастки» выговорит.
Наступало воскресенье.
До ранней шла спешка: подчищались, вымарывались да подправлялись колы и двойки.
Всякий раз Игнатий просматривает балльники и всегда остается недовольным. Глядя куда-то в сторону, он сухо говорит о лени и шалопайстве, о том, что вот Сеня меньше пятерки никогда не получал, что надо учиться хорошо, потому что средств к жизни никаких нет, что живут они на чужой счет, что со временем, если только их не исключат, все равно придется взять из училища и отдать в сапожники-Дома после долго и кропотливо восстановляются отметки: выводятся колы и двойки с росчерками и замысловатыми завитушками грека, русского, историка, физика.
И комнаты тряслись от хохота.
* * *
В доме произошли большие перемены.
На Воздвиженье умерла бабушка, умерла одна, забытая, в палате для слабых. Извещение о смерти пришло много спустя после похорон.
А еще летом, предчувствуя конец свой, она спрашивала детей: придут ли дети на отпевание, принесут ли цветочков?
«И ты, Колюшка, – выделяла бабушка, – придешь, вспомнишь ли, как старуху обижал да обманывал? А мне и хорошо будет, светло из гроба смотреть… сердцу весело».
Издох Наумка.
Вырыли дети ямку, положили кота в ящик, убрали усатую мордочку последними цветами – осенними астрами и зарыли под вербой около террасы.
На качельном столбе выцарапал Коля эпитафию: «Наумка – мой ровесник, скончался 25-го сентября».
О. Иосиф-«Блоха» добился-таки лампадки и единственный раз в году, когда для приличия Алексей причащался, удостоивался поднести ему просфору.
О. Гавриил-«Дубовые кирлы» в сане иеромонаха вместе с преосвященным «Хрипуном» перешел в лавру и больше не бывал у Феногеновых.
Сапожника Филиппка, Степанидина сына, засадили в острой
Умер и ночной сторож Аверьяныч, Нашли Аверьяныча в сторожке с тряпкой в беззубом рте и окоченевшего.
На его место поставили кузнеца Ивана Данилова, окривевшего от искры на правый глаз.
Наконец, разочли горничную Машу: «путаться стала».
Уходя, Маша на весь дом плакала: уходить не хотелось. И всем было горько: так бы, кажется, уцепился за ее белую юбку в маленьких голубеньких цветочках и никогда и никуда не отпустил бы от себя.
«Погибла, девка, погибла – таковская! – ворчала Прасковья, а трясущаяся рука совала в горячую руку „пропащей“ отложенный большой рубль, – заходи когда, чего там: все мы… таковские».
Машу заменил Митя, сын Прасковьи, окрещенный в первый же день Прометеем. Прометея поместили в детской, а Прасковью перевели в столовую за занавеску.
* * *
Вечерами Петя по-прежнему диктовал Жене и Коле. Тут же с пером в руке усаживался Прометей, наловчившийся в какой-нибудь месяц до золотой медали, как сам хвастал.
В известные сроки Прометей запивает.
Пьяный, он долго и однообразно играет на гармоньи. А когда начинает темнеть, странное беспокойство охватывает его; он поминутно вскакивает: – и все порывается куда-то домой, тянется весь, пока не выронит гармоньи и не выскочит на улицу. И только к утру возвращается. Нагишом. Всякий раз ему отказывают и снова принимают, голодного и темного.
Носит Прометей тужурку с серебряными пуговицами, переделанную из изодранной гимназической шинели, а на ногах шмыгают резиновые калоши.
В праздники же надевает коричневую визитку и штиблеты без стука.
– Как у настоящего солитера! – вертится Прометей, охорашиваясь перед зеркалом, – пройтись теперь, да девчонку грудастую подцепить, эх ты!
И, смакуя предстоящее наслаждение, пускается описывать приключения своей трактирной жизни. Восторгается, вспоминая гостей, которые хорошо на чай давали. «Не то, что шпульник какой: натрескается, набегаешь все ноги из-за него, а он тебе еще в морду!»
Потом ударяется в воспоминания из своего жития в Зоологическом Саду, где занимал он какую-то нечистую тяжелую должность при слоне… во время случки.
Голоса у него отродясь никакого не было, но согласиться с этим – лучше умереть, один конец, и, вытягивая длинно губы и приседая, Прометей пел:
– Ну-ка, послушайте, – бывало, останавливает он каждого, – как, а?.. Не хуже твово Шаховцова вывел, ловко?
– Прометей, а Прометей! – приступает, лукаво ощериваясь, Коля, – хвати, Прометей, многолетие с перекатами!
И Прометей принимался орать, – орал во всю мочь, орал до хрипоты, до удушья, пока не засаднит горло.
Когда приходит Алексей Алексеевич, начинаются разговоры.
Прометей, изгибаясь, таинственно выспрашивает: не грянет ли сызнова русско-турецкая война, и не объявился ли где Наполеон Бонапарт?
Над его кроватью висели раскрашенные портреты во весь рост Скобелева и Наполеона.
– Какая еще тут война?! – огорашивает Алексей Алексеевич, – голод, люди мрут… Людей насилуют, людей давят. Безобразие…
– И жить не стоит, коли так, – примолкает Прометей.
И вся его истощенная фигурка, жаждущая отличиться, горбится больно, и он идет к столу, отыскивает клочок бумажки и с каким-то отчаянием своим красивым почерком выводит подпись с завитушками: «генерал-лейтенант, генерал от инфантерии, наказный атаман Войска Донского, генералиссимус Дмитрий – Прометей Мирский…»
* * *
В душе Саши произошел резкий перелом: из болтуна превратился он в замкнутого и скрытного. Всех избегать стал, уединяться: сядет и сидит – читает, а потом молиться примется.
С какого-то вечера начались в доме беседы.
Тихим, изболевшимся голосом необыкновенно увлекательно рассказывал Саша о подвижнической жизни, проповеди, о мучениках, о ските, о монастыре, и виделся старый монастырь где-то в дремучем лесу, на дне «светлого озера», и из пекла страдания выплывали омытые огнем осиянные лики.
– А как насчет военных действий? – не раз перебивал Прометей, прислушиваясь к рассказам.
Алексей Алексеевич, ехидно улыбаясь, подносил самые отборные факты из очертевших буден и, горячась, огульно выбранивал всех и вся…
– «Благочестивейшего Самодержавнейшего…» в монастырь идти хотите? душу спасти хотите? а под носом вешать будут… Благословите их! Хо, хо! лучше запритесь в нужник…
Скоро верх обратился в моленную, Саша сшил себе что-то вроде подрясника из халата, перешедшего вместе с старым бельем от дядей. Начались службы.
За акафистами, вечерней и повечериями выстаивали до глубокой ночи, выбивая поклоны и мучая себя всевозможными лишениями.
И так все шло, разрастаясь и углубляясь, с Рождества вплоть до пятой недели Великого поста, пока на стоянии Марии Египетской после канона за сенаксарем Коля не выкинул одну штуку: позванивая маленьким колокольчиком и строясь приходским старостой, прошелся он с тарелкой, а сзади семенил Женя с блюдечком, будто с кружкой.
И это было тем плевком, что навсегда пятнит незапятнанное, было скользнувшей улыбкой, что поражает смертельнее заостреннейшего ножа, было тем молчанием, которым решается жизнь и смерть.
Что-то хрупнуло и потонуло в сверкающем хохоте.
Незаметно перешли к игре, развлечению: распевали на разные гласы иермосы, представляли знакомых дьяконов и священников.
А тут весна, рамы – вон. Подкралась весна, зашептала сладко, засулила ярую жизнь. Пойдешь за ней – выпьешь ярь до дна из теплых рук. Ишь, какая туча синяя да большущая за монастырем полегла, раздавит она белую колокольню, белые башенки!
– Поповство, – ворчал не хуже няньки Алексей Алексеевич, – не люблю я этого фарисейства. Давно бы бросить пора…
По случаю поздней Пасхи экзамены начались у всех рано. Прометей ушел весь с головой в жизнь гимназистов и не меньще их тревожился.
Ура, латинский порешили!
Геометрия дрянная
Лезет в голову весь день
распевал он собственный стих на манеру: «Ура, Пешков, тебе награда за дальний путь твой предстоит».
Потянуло Пасхой.
С Чистого понедельника началось лепление огромнейшей свечи из маленьких свечек и огарков; свеча предназначалась для крестного хода, чтобы почудней было.
На утрене в Великую субботу Петя в первый раз особенным распевом читал: «Иезекиилево чтение», а за обедней пел по-театральному: «Воскресни Боже, суди земли».
Тут было весело – хорошо, так разыгрались, столько вспыхнуло живым ргнем затей-проказ в этот год, в такие дни… в дни последние…








