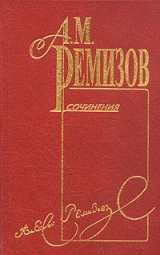
Текст книги "Том 1. Пруд"
Автор книги: Алексей Ремизов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 41 страниц)
Олаборники
Как пришла весна, пришла громкая с пенными ручьями, певучими, с голубым ласковым небом, с теплым, лучистым солнцем, и почернел сад, раструхлявились гнезда, зажелтелся лед на пруду, и стал пруд серым, – всеми лежал он покинутый, с одинокими брошенными льдинами, с темной, как проломленный глаз, прорубью, и запел Боголюбовский колокол по-весеннему звонче и переливчатее часы свои, о своем полдне и о своей полночи, и уж целыми днями, только придут из гимназии Финогеновы, и прямо во двор за работу: колют, рубят, метут, чтобы к Пасхе ни одной зимней снежинки не удержалось.
Вечерами же наверху играют не по-зимнему, играют в священники – в большие и в маленькие. Строят из столов и стульев престол и царские двери, облачаются в цветные платки и разные тряпки, служат всенощную, обедню, а больше пасхальные службы – так в больших священниках, в маленьких же все дело про сто в деревянных кубиках: из кубиков строят церковь со всеми приделами, теплыми и холодными, как в церкви Покрова, кубики же ходят и за священника, и за дьякона, и за весь причт церковный. И опять правят всякие службы, но больше пасхальные.
Финогеновы не пропускали ни одной службы и по охоте и по неволе. Иногда так не хотелось, особенно. к ранней обедне.
– Дрыхалы, оглашенные, – подымала детей Прасковья, – что вас не добудишься, будто напущено.
А было еще так рано, только к часам перезванивали, и хоть бы минутку еще поспать, одну минутку!
Когда они возвращались из церкви, они при всяких увертках не могли миновать Арсения: Арсений, для которого не было ни праздников, ни воскресенья, вставал рано и уж сидел в кабинете за делами, и в окно ему видно было, кто по двору шел. Он окликал Финогеновых и всегда, находя какую-нибудь неисправность, выговаривал. Особенно попадало постом на Страстной неделе. И все-таки как хорошо и весело бывало на Страстной!
Покровский пономарь Матвей Григорьев, черный, что нечистый, то и дело выходил, бывало, на церковный двор унимать Финогеновых.
– Олаборники, – брюзжал пономарь, – батюшка увидит.
А Покровский батюшка такой старый, едва ноги пере двигает, пойдет он смотреть! – об этом Финогеновым хорошо известно, и они не слушались и продолжали свое.
Пономарь только рукой махал:
– Останавливай – не останавливай, ничем не проймешь.
На церковном дворе около колокольни стояла будка. Когда перестраивали церковь, иконописцы, озорничая, изобразили в будке на потолке соблазнительную картинку: мужчину и женщину. Тут-то под этой картинкой и вытворялось Финогеновыми нечто, уму непостижимое. А приедалась будка, надоедала, вламывались в церковь. И церковь словно оживала.
На Благовещение Ване Финикову, сыну просвирни,
Агафьи Михайловны, читавшему в первый раз на амвоне шестопсалмие – Слава в вышних Богу, и облаченному по такому торжественному случаю в семинарскую казенную чуйку, кто-то из Финогеновых пришпилил сзади к этой финиковой чуйке красный фланелевый хвостик.
В Вербное воскресенье за всенощной, когда стали раздавать освященную вербу, Финогеновы хлестали вербой не только друг друга, но и посторонних, и не ребятишек, а взрослых.
Верба хлес – бей до слез!
– Великую Среду за пением иермосов Сеченная сечется, Коля такое сотворил, и при том в самой же церкви, до самого батюшки дошло, и сырая шляпа Вани Финикова по рукам ходила. Охали и ахали богомольцы, трогая несчастную финиковскую шляпу.
– Ах ты, дьявольский сынок, не будет тебе ужотко причастия, – пригрозил батюшка и велел Коле у Креста стать, поклоны класть.
Коля стоял у Креста на коленях, выкладывал положенные сорок поклонов, еле удерживая слезы, но не столь ко от стыда, сколько от душившего хохота: этак ведь, штуку какую выкинул! И тут опять сплутовал, – не сорок, дай Бог двадцать поклонов отмерив, улизнул от Креста.
– Ах ты, дьявольский сынок! – пугал батюшка Колю, оставив его после поклонов стоять в алтаре.
Из алтаря уж трудно было уйти, и, делая вид, что молится, Коля страшно скучал. Да и как было не скучать! Саша, Петя и Женя возились на колокольне, пускаясь на все выдумки, и вот совсем не по уставу вдруг зазвонил большой колокол, и богомольцы напуганным стадом шарахнулись к паперти.
Дойдет до благочинного, ни черти путного, олаборники! – брюзжал пономарь Матвей Григорьев, сгоняя Финогеновых с колокольни.
В Великий Четверг на двенадцать евангелиев, выходя с горящими свечами, Финогеновы тушили огни особенно ревностных покровских прихожан, к великому негодованию их и обиде.
– Душа моя, Коко, – наставляла после бабушка, – Бог тебя накажет за это, и нетто в законе Божьем сказано, чтобы страстной огонь тушить? Иуда ты и Варфоломей, Искариот, помолись ангелу своему и покайся, ни росту, ничего не даст тебе Владако Господь, и останешься ты курносым до скончания висов, до самого светопреставления!
А Коле непременно хотелось быть высоким – большим, большим, и чтобы нос был, как у любимого учителя француза, и ну как не будет ему ни росту, и ничего до самого светопреставления?
Прикладываясь к Плащанице, Коля каялся, но как-то не так все выходило, словно поклоны клал за шляпу перед Крестом: очень уж было задорно тогда тушить свечки страстной огонь, слышать злющее шипение испостившихся злюк и ужас видеть на их передернутых негодованием лицах.
Наступал Светлый День – Пасха.
И все забывалось. И плохенькие одежонки выказывались новыми и нарядными. Кажется, вся жизнь Финогеновых была в пасхальной заутрене, они ждали ее весь год и, что бы ни делали, что бы ни делалось, всегда помнили, будет Пасха, вот Пасха придет!
И какая радость и какая мука! После обедни, выходя из церкви на паперть, Коля постоянно чувствует, как жгучий стыд заливает ему сердце: на паперти со всех сторон тянутся к нему дрожащие руки:
– Колечка, дай копеечку!
– Колечка, Христос Воскрес!
И навязчиво идет запах гнили и промозглого немытого тела, а все эти лохмотья вздрагивают от утренника.
– Колечка, дай копеечку!
– Колечка, Христос Воскрес!
А он такой нарядный, – ему кажется так, что он нарядный, и идет он домой разговляться! Какая мука и как ему жутко, что все они такие: нет у них дома, нет у них и пасхи белой с яркими красными цветами. И как хотел бы он быть с ними нищим! И до боли ярко он уж видит себя тут, на паперти, среди нищенской рвани в лохмотьях, без дома и без пасхи.
– Воистину, воистину воскрес! – он вынимает из курточки все свои новенькие копейки, подаренные Варенькой на Пасху, и сует в заскорузлые, ловящие руки. А копеек так мало.
Мглистое утро с собирающимся снегом перекликается одиноким колокольным перекликом запоздалых и растянутых усердных обеден.
Прямо из церкви Финогеновы шли поздравлять Огорелышевых: Арсения и Игнатия. Не без страха, теряя голос, вступали они в белый огорелышевский дом.
Обыкновенно на Прощеное Воскресенье, когда, бухаясь каждому в ноги, они положенно приговаривали: «Простите, дядюшка, ради Христа!» – бывала большая проборка, и за дело и для острастки – на будущее. И на Пасху надо было ждать беды.
Между Огорелышевыми и Финогеновыми лада не было. Озорство Финогеновых раздражало Арсения, а кроме того Варенька подливала масла в огонь. Нередко в свои отчаянные минуты, желая, должно быть, сердце сорвать, Варенька посылала письма Арсению, и в письмах описывала ему Бог знает что о детях, и всякий раз просила брата сделать им внушение, так как сил ее нет, и одна она не может с ними справиться, проклятыми. И Арсений принимал меры.
Особенно доставалось Коле и Пете. С Колей началось очень давно, когда еще был он совсем-совсем маленький. Вела его как-то Прасковья по двору гулять, встретился Арсений, Коля и протяни ему руку. «Ты, мальчишка, смеешь мне первый подавать руку! Забываешь, кто ты: на наш счет живешь»! – беленился Арсений, и в голосе его звучало что-то кошачье: было так, будто кошка, долго и пристально насмотревшись в глаза другой кошке, отпрыгнула вдруг, ощетинилась и взвизгнула. А у Коли тогда губы дрожали, но рука не опускалась.
Робко прокравшись по парадной лестнице, Финогеновы входили в кабинет к Арсению, и каждый еле слышно произносил затверженное:
– Поздравляю вас, дядюшка, Христос Воскрес! Болваны! – не глядя, обрывал Арсений, – чаще драть вас, вот что! И ты! и ты! Лентяи, дармоеды. Тебя, Петька, выдеру, призову рабочих и выдеру: ты у меня забудешь трубку курить. А ты, курносая гадина, чего рот разинул? И ты, дурак, туда же, – Арсений потеребил бумагами: праздники для него нож острый, Пасха в особенности, как-никак, а отрываться от дела ему придется, – ну марш, отправляйтесь!
Кубарем скатываются Финогеновы с парадной огорелышевской лестницы, да вприпрыжку по двору мимо фабрики, мимо фабричных корпусов к себе в красный флигель, где их ждет-дожидается и бабушка, и Маша, и нянька. И дома в одиночку и хором славят Христа, кричат на весь дом и христосуются с бабушкой, с нянькой, а с Машей несчетно раз.
В первый день после вечерни приходит Покровский батюшка с крестом.
Пономарь Матвей Григорьев, нахристосовавшись, едва держится на ногах.
– Пупок у меня не на животе, а на спине этак! – толкует он каждому и, весь изгибаясь, посмеивается, не открывая рта.
За чаем батюшка пробирает Петю за трубку.
– Дьявольский ты сынок! – говорит батюшка, – накажет тебя Бог!
Все Финогеновы курили, и курили до зеленых кругов и тошноты. Но трубка Петина: Петя главный курильщик. Они еще не научились воровать, их деньги – копейки, и на копейки, перепадавшие им от Вареньки, съедалось мороженое и покупались на Великом посту гречники, и волей-неволей приходилось курить тот самый табак – листья, которыми перекладывалось зимнее платье.
– Ну, Христос с вами, Пресвятая Владычица, малыши вы, неразумные! – батюшка гладил детей по головке, вставая из-за стола.
А Варенька плакала, загрызала ногти, – ногти все были изгрызаны, загрызала мясо у ногтей, Варенька жаловалась.
– Потерпите, несите крест! – наставлял батюшка.
– Да они, он… они… жизнь мою… я…, – глотая слезы, бормотала Варенька.
– Пупок у меня не на животе, а на спине этак! – толковал Матвей Григорьев на прощанье и, весь изгибаясь, посмеивался, не открывая рта.
Под ночь в Пасху бывало грустно: жалко было, что прошел Светлый день.
«Если бы всегда была Пасха! – мечтал Коля, – только в раю, должно быть, всегда Пасха, и умереть, говорят, хорошо на Пасху, прямо в праведники. Дедушка на третий день издох…» – И вдруг вспоминались ему нищие на паперти с протянутой рукой.
А в крышу постукивал теплый дождь, зеленью красящий траву и черный берег оттаявшего пруда,
И лягушки, выпучив сонные бельма и растаращив лапки, в первый раз после зимнего сна, бестолково квакали. И под дождем земля расправлялась и тучнела, и все семена жизни зреть стали, наливаться, изнемогая в своей любовной жажде.
Зарею первые нежные травинки, первые голубые подснежники, будто хор девочек – благовестниц грядущих невест, выглянули на восходящее солнце Христова дня, на Христа воскресшего.
Глава шестаяСемивинтовое зеркальце
Весна началась не на шутку. С каждым днем становилось теплее. Благополучно прошли экзамены. И скоро о зиме забыли. Перед Финогеновским домом на огороде зацвели яблони и вишни. Бело-алые дождинки яблонова и вишневого цвета, осыпаясь с деревьев, залетали в комнату Вареньки.
С самого утра Финогеновы на огороде, в земле копаются. Рубашки и штаны испачканы, лица и руки в грязи, чертенята маленькие.
– Эй, плотнички лихие, работай! – покрикивает Петя.
Стемнеет, за досками пойдемте: шалаш надо строить, без шалаша нам никак нельзя, – Саша, как заправский землекоп, поплевывает себе на руки, – или берлогу выкопаем в двадцать сажен, там чай пить будем и кровать поставим. У Сухоплатовых вон берлога на дворе сделана в пятьсот сажен, Васька Сухоплатов рассказывал, музыка у них в берлоге играет.
– Свой пруд выроем! – поддакивает Коля.
– На той стороне кизельник зацвел! – объявляет Женя.
Той стороной называлась часть огорелышевского сада к Синичке: там росли старые яблони, которыми особенно дорожил Игнатий, вкусный кизельник и дикая малина.
И хотя караул ставился крепкий и всякий день из другого огорелышевского маленького фруктового сада присылали Финогеновым по корзине всякой падали: ешь до отвала, – все равно, наедаясь до отвала, до холеры огорелышевской падалью, Финогеновы не оставляли к Ильину дню ни яблочка, ни ягодки. Обыкновенно поздним вечером Финогеновы шелушили деревья, а чтобы запугать сторожей, хлопали в ладоши, будто водяной тешится. «И сад и пруд проклятые, – шла молва, – нечистый ходит! Пошел намедни в караул Егор-Смехота, – рассказывали потерпевшие от огорелышевского нечистого, – а из пруда ему рожа, да как загогочет, инда яблоки попадали. Подобрал Егор полы, да лататы. Душка-Анисья богоявленской кропила, насилу отходился. А Егор-то ведь во, – смехота!»
Палевый вчера улетел, остался один чернопегий. И подсеву нет, – вспоминает о голубях Коля, он работает лениво, и не так пачкается, как другие дети, он любит, чтобы чисто все было, как стеклышко.
Голуби – общие Финогеновские, но Коля чувствует к голубям особенную нежность. Он и тайники и всякие приманки выдумывает
Петя гоняет голубей: его дело – залезть с шестом на крышу и посвистывать.
В воскресенье и в праздники Финогеновы, забрав голубей, ходили на дальний бульвар, где открывался птичий базар, на базаре они приторговывали новых или обменивали своих или просто слонялись, вступая с торговцами в препирательства, задирая бахвальством своим и плутнями. Огорелышевцев весь базар знал.
К голубям пристрастил Финогеновых огорелышевский приказчик Михаил Иванович.
За старостью лет жил Михаил Иванович на покое на дворе у амбаров в старой конторе, дела у него хозяйского никакого не было, разве вечерами, когда вызовет его к себе Арсений в шашки поиграть, но это бывало так редко. Все свое время проводил Михаил Иванович с птицами. Страстный любитель птиц, он только ими и жил. Занимали птицы всю его квартиру, не было уголка без клетки. Птицы чахли, гадили, а петь мало пели.
Финогеновы часта забегали к старику, любопытствовали, а Михаил Иванович, не торопясь, отщипывая не хуже бабушки понюшку за понюшкой, рассказывал им о каждой птичьей породе, и представлял голоса, и ставил примерные силки и западни, и нередко случал пичужек в надежде иметь яички: уж очень хотелось старику маленьких птенчиков повидать, выходить птичек, – авось запоют!
К великому удивлению и огорчению Михаила Ивановича после финогеновского посещения клетки как-то сами собою открывались и, несмотря на двойные рамы круглый год не отворяемых окон, птицы вылетали на волю. Думать на Финогеновых он никак не мог, – Михаил Иванович был муж дальних замыслов, и всегда охотно принимал детей и с удовольствием показывал им свое певчее пернатое царство.
Любовь Михаила Ивановича к птицам и охота за ними очень увлекла Финогеновых. Когда гостившая у Степаниды дочь ее, Авдотья-Свистуха, собиралась уезжать в деревню, Коля написал ей большой список, чего Авдотья привезти должна, когда в следующий раз к Степаниде в гости приедет. И чего-чего в записке этой не было: и соловей, и жаворонок, и кукушка, и филин, и аист, и журавль, и орел, и даже сам павлин, а из зверей – медведь с медвежатами, заяц, лисица, волк и слон. Авдотья рассказывала Коле, что в их деревне водится всякий зверь и птица, Коля и задумал Авдотьиных зверей на огорелышевский двор пустить, и просил он не так уж много, всего по одной штуке. Авдотья записку в платок себе завязала с паспортом, а зверей так и не дождался Коля.
Весь зверь нынче перевелся по грехам нашим, – оправдывала Степанида дочь свою Авдотью, – один воробей остался, да и то птица непутевая!
Благодаря Михаилу Ивановичу, была у Финогеновых такая голубятня, всем голубятникам на зависть. Теперь совсем уж не то, сломали у них голубятню.
И все из-за Палагеи Семеновны. Узнала она о голубях, вознегодовала: как можно, ведь гонять голубей значит быть голубятником, а быть голубятником – неприлично и безнравственно.
И желая разъяснить детям их дурной поступок, вызвалась голубятню посмотреть, чтобы там на месте наставление свое сделать.
Финогеновы согласились, подставили лестницу.
Высоко задирая юбки и вскрикивая, взобралась Палагея Семеновна по трясущейся крутой лестнице под самую крышу к слуховому окошку мезонина и, наступая на теплый помет, приготовилась наставлять, но детей на голубятне не оказалось, хоть бы один кто-нибудь, никого не было, да не только детей, и лестницы – лестницу они отставили. И натерпелась же она страха, наморили они ее, наоралась вдосталь. Узнал Арсений, и была после потасовка, а голубятню сломали. А какая была голубятня! Теперь совсем не то.
Солнце, осмотрев все закоулки двора и тинистый берег пруда, вышло на самую середку греть старых огорелышевских сазанов и палить ледяные ключи.
Финогеновы бросают лопаты и с огорода домой обедать.
По праздникам после обеда приходит Филиппок, сын Степаниды, коренастый и черномазый, взъерошенный мальчишка-сапожник. Филиппок большой искусник: ловкач мастерил из разноцветной кожи оружие, ордена и всякие медали.
С приходом Филиппка начинались разбойничьи игры и воина.
Что ни попадет под руку, все летит вверх тормашками: стекла и куры, скамейки и цветы, дрова и собаки, – не попадайся! Там, глядишь, кто-нибудь и в пруд бултыхнется. И не ходят, а словно на конях носятся в бумажных и кожаных орденах, с подбитыми глазами, исцарапанные.
– Вольница, удержу на вас нет, оглашенные! – ходит Прасковья, собирает черепки.
А война в самом разгаре, – такую войну и самый настоящий театр не представит.
Вот будто пожар, весь город в огне. Осажденные, озверелые от голода и тревог, мечутся люди, рвутся под бьющей бедой, стеная и проклиная. Вот буря, корабли тонут в волнах, а над головой свищут пули.
Вот бегут, – по пятам черный дым и грохот, впереди топь крови.
Вот лопнет сердце, вот дух захватит.
И крик взрывает сад, и, кажется, из фабричной огорелышевской трубы, выпыхивающей клубы седого дыма, кричит этот крик неумолимо-резкий и страшный:
– Бей! бей! бей!
И вдруг острые, как клещи, пальцы огорелышевского – управляющего Андрея Филимоновича вонзаются в ухо кому-нибудь из Финогеновых и больно выворачивают мягкий хрящ:
– Дяденьке пожалуемся!
– Андрей-воробей! – Андрей-воробей! – дети, поддразнивая, кричат все зараз, кружатся, а их проворные руки то и дело салят Филимоныча с крючковатым носом, на котором торчит сухой конский волос.
Согнувшись, проходит Филимоныч к фабричному корпусу, наводя страх и порядок.
«Со свету сжил, дьявол, – ропщут по двору на управляющего, – лизун огорелышевский, шпион подхвостник! Найдет полоса, хлебнешь из пруда!»
Кончилась разбойничья игра, пошла потешная война, скрылся управляющий, и Финогеновы в купальню – купаться. До дрожи, до тошноты ныряют они и плавают, ни сухого местечка в купальне, а забрызганная одежда их свертывается, как выполощенное белье.
После купанья – на навоз, на ту сторону сада к липам.
Навоз складывается около забора, отделяющего огорелышевский сад от берега Синички. В навозе водятся необыкновенно жирные белые черви. Финогеновы разрывают навоз, чтобы выкопать этих жирных белых червей, и, набрав полные горсти, раздавливают червей по дорожкам.
А надоедят черви, идут Финогеновы ловить лягушек.
Ловят и пускают в кадушку.
Кадушка – под желобом у дома. Наберут полную кадушку и за игру в лягушки: отрывают лапки у лягушек, выкалывают глаза, распарывают брюшко, чтобы кишки поглядеть. А лягушки квакают, захлебываясь, квакают во всю лягушиную глотку по-человечьи.
– Ай! нагрешники! – спохватывается Степанида, всю-то мне воду опоганили! – и долго возится с кадушкой, вылавливает левой рукой скользкие лягушиные внутренности и лапки.
От этих лягушек, – так были все уверены, – пальцы у Финогеновых обрастали за лето бородавками.
«Это от ихних соков поганых», – объясняла Прасковья, и бабушка, и Степанида, и даже Маша.
Зато какое удовольствие после каникул сводить бородавки! Пальцы мазали теплыми куриными кишками, кишки зарывались в землю, а когда кишки сгнивали в земле, бородавки пропадали.
Бросят Финогеновы лягушек, и на качели, качаться.
Выпачканные в навозе, липкие от раздавленных червей и распотрошенных лягушек, они качаются-подмахивают до замирания сердца, они взлетают за фонарь до маковки старой березы, – вот, вот перелетит доска за перекладину… А ведь этого им только и хочется, чтобы доска перелетела за перекладину. Накачавшись всласть, Финогеновы лазают по качельным канатам. Лазить по качельным канатам особенное удовольствие. И долго они лазают, жмурясь и вздрагивая от захватывающего чувства сжимать ногами упругую, щекочущую веревку. И, добираясь до самого края, вверху у колец задерживаются и висят, как маленькие обезьянки.
Вечереет. Вечер раскаляет за Боголюбовым монастырем закатные красные тучи, и черные длинные тени сонно проплывают по пруду. Начинается вечерняя игра.
Подымают Финогеновы свои знамена и хоругви шесты, овитые вверху разноцветными тряпками, и трогается крестный ход: избиение младенцев.
Сажей и кирпичом вымазаны лица и руки у хоругвеносцев.
Впереди всех Коля в белой простыне на длиннейших ходулях. А жертва – Машка Пашкова, девчонка, дочь слесаря, мечется и визжит.
– Машка Пашкова! Машка Пашкова! – сначала тихо, потом все громче, гнусаво, говорком, изводяще гнусаво поет хор, по пятам гоняясь за девочкой, пока она не выбьется из последних сил.
Затравленная Машка камушком влетает в каморку к отцу, бросается в колени к отцу, дрожит, как листик.
Отца Машки, Павла Пашкова, Финогеновы боялись. Трезвый он был не страшен, но когда наступал запой, в запое Павел Пашков свирепел. Бледный, словно мукою обсыпанный, с впалою грудью, задыхаясь, бегал слесарь с ножом по двору, искал зарезать огорелышевцев. И в такие дни Финогеновы обыкновенно прятались в самые засадные места, и только, когда Пашков, обессилев, с окровавленными руками, с слипшеюся прядью бурых волос на закопченной голове, валился где-нибудь у помойки, они выходили из своих потайных нор.
– Машка Пашкова, Машка Пашкова! – сначала тихо, потом все громче, гнусаво, говорком, изводяще гнусаво поет зловещий хор.
Сложат хоругви за террасу и в бабки играть. Финогеновы играют в бабки по-разному: в бабки-салки, в кон закон, в ездоки и в плоцки.
Вместо бабок иногда играли они в палочку-выручалочку, в казаки-разбойники или в мирную игру – в разносчиков, представляя старика разносчика Анисима, доставлявшего Финогеновым телятину белую, как писчая бумага, и раков, – Варенька только и ела раков.
И за бабками непременно подерутся. Да и как не подраться: тут каждый друг перед другом соперничает. Финогеновы лупили друг друга чем ни попало.
В Боголюбовом бьют часы восемь.
В сад выходит гулять Игнатий с книжкой и биноклем.
Хоронясь от Игнатия, чтобы не попасться ему на глаза, забираются Финогеновы под террасу и на корточках в темноте и сырости слушают рассказы Филиппка.
Филиппок начинает с своего хозяина-сапожника, рас-сказывает о мастерах сапожных и подмастерьях, потом переходит к сказке. И всегда рассказывает он одну и ту же сказку о семивинтовом зеркальце, – непечатная сказка, затейливая, запутанная, такая, забористая, и слушать ее, хоть сто раз прослушаешь, никогда не надоест. Другой Филиппок не знает.
Спадает жара. Убирается Филиппок восвояси. И выходит теплая, темная ночь, – темный ли саван на ней, черные ли кудри вьются? – она идет, теплая, темная ночь, в полыхающих слепых зарницах, в зорких звездочках, и замирает жизнь от Камушка до Чугунолитейного завода и от Колобовского сада до Синички.








