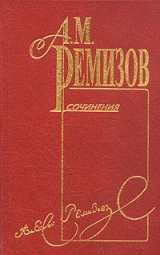
Текст книги "Том 1. Пруд"
Автор книги: Алексей Ремизов
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц)
От дальнего бульвара, на конце которого на площади открывался по воскресеньям птичий базар, повертывала дорога к старой башне с книжным рынком, и Финогеновы повертывали, но до башни они не доходили, сворачивали в переулок к веселым домам.
В дорогие дома, изукрашенные разноцветной мозаикой, Финогеновы входить не решались, а выбирали который похуже из рублевых, входили они по-разному: то с видом донельзя пьяных, а то будто и по-настоящему, уверенно, как настоящие гости.
И как хохотали, насмехались веселые барышни над финогеновским напускным ухарством, над их смущением, невольно пробивающимся на еще детских вспыхивающих щеках. Ведь из всех один Прометей, раскуривая папироску и сплевывая в сторону тоненьким плевком с сознанием собственного достоинства, великий, только не обнаруживший свое величие, Прометей, как заправский гость, больше чем гость, как дома, как у себя дома, расхаживал по залам.
Скрипач настраивал скрипку, играть пробовал. Веселые барышни танцевать становились.
И какая тоска, какая боль слышались вдруг Коле в этих звуках, будто увязающих в спертом дыхании неминуемой завтрашней смерти.
«Земля обетованная! – тайно вышептывало его сердце в своей тихой тайне, – крылья мои белые, тяжелые вы, в слипшихся комках кровавой грязи. Земля обетованная!»
Если Финогеновых не выпроваживали силой, а бывали и такие случаи, все равно уходить приходилось: последние копейки оставлены в пивной, без ничего долго не насидишься. И домовый служитель – вышибало с обидной ужимкой, какой-нибудь Демка-Моква, незаметно ставил мелом на спине каждого серый крестик в знак позора и презрения: с крестиком ни в какой уж дом больше не пустят.
И вот позднею ночью дома с надорванным и неутоленным желанием чего-то необыкновенно хорошего и страшно привлекательного, что уж совсем подходило, было рядом и миновало, с надорванным и неутоленным желанием любви и ласки, Коля долго не мог замкнуть глаз, а позорный крестик жег ему спину.
Утро пасмурное и утро ясное заглядывало в окно, в детскую, сулило ту же старую жизнь от дня до ночи и от ночи до дня с богомольем, всенощными и бульварами.
И таким отдаленным, таким недосягаемым вставало перед Колей его будущее, непременно своевольное и огромное, которого так хотел он и так ждал.
Нет, не серым волком, не апостолом Петром, не французом, не о. Глебом, не самим Огорелышевым Арсением, чем бы не быть ему, только быть с нею – с Маргариткой, недоступной, как Верочка, милой, как Маша, страшной, как никто.
Глава восемнадцатаяМаргаритка
В одном из дорогих, изукрашенных мозаикой домов, куда никак не ухитрялись проникать Финогеновы, увидел Коля в окне Маргаритку.
Было ли это ее крещеным именем или только прозвищем, Коля не мог узнать, но так Маргариткою величала ее и сама хозяйка Аграфена Ананьевна, деревянно-одутловатая и чрезмерно дородная, словно соскочившая с Никитиного Блудодеяния, так кликали ее и все товарки и подруги, обожавшие ее, маленькая, наряженная гимназисткой Лизка-Поплавок и великанша Паша-Кузнечик, привлекавшая заморышей, падких до мяса, так звали ее гости и коты-любовники и сам вышибало Митрошка-Триндас.
История Магаритки незатейлива и обыкновенна: было у ней и нищенство, и добрый старичок, и попечительство, и бегство от попечительниц, тайное хождение по бульварам и открытое с книжкой, наконец, встреча с Аграфеной Ананьевной и нарядный веселый дом.
С той минуты, как начала помнить себя Маргаритка, она лишь одно знала: во что бы то ни стало бегать за прохожими, выпрашивая ради Христа копеечку, пока в кулак не наберется двугривенный, иначе нельзя в угол к матери показаться, и все ее маленькое, худенькое тельце ежедневно прихлопывалось этим одним – единственным желанием и нераздельною мыслью: набрать к вечеру двугривенный.
Как-то осенью, присмиревшим темным вечером, когда до двугривенного недоставало Маргаритке всего нескольких копеек, попался ей в переулке старичок один с большим зонтиком, разговорился ласковый старичок, затащил за кузницу, а потом и отпустил. «И вот что дал!» – показывала после Маргаритка новенький блестящий золотой ребятишкам-нищим, с завистью топтавшимся вокруг нее. За золотым – бумажка, за бумажкой – двугривенный, понравилось ей, а там и в часть ее взяли, а из части в попечительство. Но уж не может она больше, не надо ей никакого попечительства, тянет ее, – на всю жизнь, должно быть, потрясена она тем осенним присмиревшим темным вечером, – терпела, терпела, да и сбежала. И опять за старое. Пятнадцати ей не было, встретилась она после бульваров, после всяких облав с Аграфеной Ананьевной, хозяйкой дорогого нарядного дома.
Аграфена Ананьевна то и знай похваливала гостям Маргаритку.
– Из всех девушек, – говорила хозяйка своим приторным голосом, клокотавшим площадною бранью, – Маргаритка у меня чистая, ласковая, проворная, сахарная, и по-французскому может.
– Коман-са-ва [32]32
Comment cava – как дела (фр.). – Ред.
[Закрыть], мадам! – подтверждала Маргаритка.
– Мерси! – одобряла хозяйка, рвотно кривя свои тоненькие, как ниточки, губы.
И правда, Маргаритка за свое искусство всегда была нарасхват.
Когда Коля в своей драной форменной шинели с облезлыми золотыми пуговицами один пробирался по переулку и затаенно, будто мимоходом, будто занятый каким-то очень важным делом, прищуриваясь, посматривал на окна двухэтажного нарядного нерублевого дома, Митрошка-Триндаса растворял ставни, а в одном из верхних окон появлялась Маргаритка – такая невинная, с напудренным вздернутым носиком, низко спущенной на белый лоб холкой темных душистых волос, и с такими невинными безгрешными девичьими глазами.
Маргаритка скалила свои острые, кошачьи зубки, глядела куда-то поверх низкой крыши противоположного рублевого дома.
Крохотная детская грудь ее выходила из широко вырезанного ворота, и как две глыбки таяла под закатным малиновым лучом, – казалось, это руки осовевшего запыхавшегося солнца баюкали ее.
И каким ничтожным представлялся тогда Коля самому себе, весь он горбился и, медля, но как-то уж очень скоро, проходил длинный переулок до последнего солдатского красного дома и назад возвращался уж поспешно, но как-то очень долго.
Коле всегда было страшно: Маргаритка заметит его и будет смеяться. И ему вспоминалось, как однажды в переулке встретил он дьякона – дьякон засмотрелся на Маргаритку, а она вдруг визгливо затянула кабацкую песню: Лучше в море утопиться, чем попа корявого любить, и дьякон, наклонившись по-семинарски на бок, пустился улепетывать. Да, Маргаритка заметит его и будет смеяться, а этого совсем не надо, нехорошо, когда Маргаритка смеялась: было что-то оскорбляющее в ее смехе – себя самое оскорбляла она.
Иногда же сидела Маргаритка у окна такая грустная, кажется, ничего не видела, и глаза ее были грустные – так живые глаза плачут над своим гробом. И как хотелось Коле подойти к ней и утешить ее! Но как подойти, как пробраться ему в ее дорогой, изукрашенный мозаикой дом, куда вхожи только такие, как Сеня Огорелышев да Ника Никита Николаевич.
Раз как-то после бульваров Коля подговорил попробовать на ура, Колю послушали и всем кагалом сунулись Финогеновы в нарядную дверь, но, и рта не разинув, полетели с лестницы кубарем вниз к двери.
– Всякая сволочь туда же, – кричал вдогонку вышибало Митрошка-Триндаса, стукнув Прометея в загорбок, – я вам, паршивцы!
Нет, никакой не было возможности проникнуть в этот недоступный дом к Маргаритке. И жгла недоступность.
Уходило солнце, отходила от окна Маргаритка. В золотых зеркальных залах зажигались огни. А Коля ходил по переулку взад и вперед и вдруг, как прикованный, стоял у окна.
Скрипач настраивал скрипку, играть пробовал. Веселые барышни танцевать становились.
«Земля обетованная! – тайно вышептывало его сердце в своей тихой тайне, – крылья мои белые, тяжелые вы в слипшихся комках кровавой грязи. Земля обетованная!»
Глава девятнадцатаяОгорелышевское отродье
Вторая половина лета изменила жизнь Финогеновых. Женя и Коля достали, наконец, себе уроки – трудно им было достать уроки, да и понятно: трудно верилось, что Финогеновы могут нуждаться. А Петя стал учиться музыке у Алексея Алексеевича. На богомолье нельзя уж было так часто ходить, всенощные у праздника понадоели, оставались бульвары, но всякий день ходить на бульвары тоже невозможно.
По вечерам иногда выходили Финогеновы за ворота на лавочке посидеть.
Круг фабричных не тот уж был, после пасхального усмирения двор подчистился, и были все новые, не знавшие ни Вареньки, ни Финогеновского театра. И не так уж весело на лавочке, как прежде: кузнец – сказочник Иван Данилов ослаб – примется за сказку, сказку рассказывать, плетет, плетет, да так и не кончит и никакой пчелы уж не выходит. Разве только городовой Максимчук, получивший после Пасхи огромную, с блюдечко, серебряную медаль за усердие, кажется, неистощим, как во дни ночного сторожа Аверьяныча.
Разговоры на лавочке вертелись около огорелышевской фабрики и огорелышевского порядка.
И странно: теперь, когда и Финогеновы и сверстники их – фабричные подвыросли, незаметно поднялась между ними глухая стена.
Досадно, горько и обидно бывало Финогеновым, когда, разговорясь с каким-нибудь новичком и вызвав его на откровенность, слышали они, как другие фабричные вдруг грубо его осаживали, и тот виновато примолкал, а в вспыхнувшей злой усмешке горело одно горькое слово:
– Огорелышевское отродье!
– Огорелышевское отродье! Яблоко от яблони недалеко падает! Одна цена! – и такое слышали Финогеновы.
На место Павла Пашкова, отца Машки, так больше и не поднявшегося с земли тогда на Пасху, поступил к Огорелышевым молодой слесарь Прохор. Взлохмаченный, прокопченный весь, с горящими глазами, готовый и в огонь и в воду за свое дело, Прохор любил поговорить за воротами. Синие жилы на черных руках его наливались кровью, а в вывертах-словах его вспыхивали искорки, и, кажется, летели эти искорки прямо под грунт Огорелышевского белого крепкого дома, под Огорелышевский фабричный корпус и там таились, там ждали, там невидимкою жили, чтоб разрушить его, не оставив камня на камне. И забитые и робкие головы фабричных на слова Прохора выпрямлялись.
Одно время Прохор брал у Саши книжки. И этот толковый, умный и понятливый Прохор при Финогеновых уходил в себя и отмалчивался, а в вспыхивающей злой усмешке горело одно горькое слово:
– Огорелышевское отродье!
– Огорелышевское отродье! Барин, а весь зад наружи! Без сапог, да в шляпе! Тоже господа – голоштанники! – и такое слышали Финогеновы.
Досадно, горько и обидно бывало Финогеновым и уж совсем невесело, но по старой ли памяти или оттого, что некуда было деваться, по вечерам нередко выходили они за ворота на лавочке посидеть.
Прометей зеленел и озлоблялся: ни войны, ни жизни настоящей, да еще фабричные, – фабричные поколачивали Прометея, был грех. Да и трудно было им ужиться с Прометеем: Прометей, великий Прометей, мечтал сделаться, по крайней мере, Наполеоном и подчинить себе все страны и земли, а Прохор, что ж Прохор? – ведь он мечтал ни больше, ни меньше, как разрушить весь уклад стран и земель прометеевых, и уничтожить самого Прометея. Сила была вопреки всякому здравому смыслу и действительности на стороне Прохора, и несчастного Прометея били.
После ужина, когда за ворота идти не хотелось, а на бульвары было уж поздно, Коля выходил в сад к пруду. Пробираться ему одному в переулок под окно Маргаритки нельзя часто, – он скрывал от братьев свои тайные свидания в переулке и, возвращаясь поздно, всегда ссылался на уроки, будто на уроках его задержали. На пруд он брал с собой книгу. Читать, конечно, на ночь глядя, и строчки не прочитаешь, но это так, чтобы не с пустыми руками.
Коле приходил час о себе подумать: как ему свою жизнь устроить. На будущий год исполнится ему шестнадцать лет, кончит он училище, а дальше что? Если бы он учился в гимназии, он поступил бы в университет, но его для чего-то взяли из гимназии и перевели в Огорелышевское коммерческое училище заодно с Женей, и заодно с Женей он непременно должен поступить на место, ну куда-нибудь в Огорелышевский банк.
И вот сядет он за конторку в этом Огорелышевском банке вести какую-нибудь бухгалтерскую книгу и будет век вечный корпеть над этой книгой, над цифрами, совсем ему ненужными. И почему он должен считать на счетах и век вечный сидеть за конторкой? Только потому, что для чего-то взяли его из гимназии и заодно с Женей отдали в коммерческое. Кто-то взял и распорядился, кто-то, не спрашивая, решил за него и назначил ему банковскую конторку. А он не хочет никакой конторки, а без конторки ему не обойтись.
Пробовал он латинскому и греческому у Саши учиться, ночей не спал, все сразу хотел> хотел, чтобы поскорее, хотел чуть ли не в месяц все пройти, чтобы, не теряя ни минуты, кончив коммерческое, держать экзамен на аттестат зрелости. И все хорошо шло, и вдруг забросил он все учебники: черт с ними!
И вот сядет он за конторку в Огорелышевском банке, другого исхода ему нет и быть не может. И там глаза его в разлинованную бумагу уйдут, и свет их обратится в мелкие буковки и цифры, совсем ему ненужные.
И он видел перед собою эти неизбежные мелкие буковки и цифры, совсем ему ненужные, и уж, казалось ему, сливались они и бумага топорщилась, твердела – из белой в черную переходила, и будто черные огромные клещи стискивали ему голову.
А он не согласен, не хочет. Что ж ему делать?
Пруд молчал, невозмутимая гладь стыла прозрачным льдом. И вдруг будто с илистого дна, из ледяных ключей вместо всяких ответов вставала перед ним Маргаритка: сверкали ее острые, кошачьи зубки – зарябившиеся струйки под поцелуем лунным, и словно зацветали губы ласковым словом, кликали его.
Часто уж ночью, когда замирали последние вечерние гулы, прибегала к Коле в сад Машка – Машка Пашкова, тоненькая, беленькая, с туго стянутой игрушечной грудкой.
– Николай Елисеевич, можно походить с вами? – просилась Машка, и горели ее глазки, горели огоньками, а голос пугливо пресекался.
И Коля ходил с Машкой вкруг пруда и, когда она ластилась к нему, он закрывал глаза, и искал рук других, проворных и маленьких, рук Маргаритки и, нагибаясь, с закрытыми глазами целовал руки Машки, большие и жесткие.
– Звезды-то какие! – отдергивала Машка руки и таращила кверху глаза, заволакивавшиеся влажной шелковинкой полюбившего сердца.
Коля ничего не отвечал ей и, не раскрывая глаз, снова брал ее руки и целовал их.
– У Душки-Анисьи коровушка отелилась, теленочек маленький… – щебетала она, как птичка, она жила, как во сне желанном, – а дяденька Афанасий, покойник, сказывал, будто рыбы с усами бывают: «Сам, говорит, видел!»
Коля ничего не отвечал ей и, не раскрывая глаз, прижимал ее вздрагивающую, трепещущую.
– Тоже… и… китов ус… – совсем пресекался голос у Машки, а сердце так и стучало, – ну, прощайте!
Как-то в последние летние дни после Ильина дня, когда, по поверью, олень мочит рога в воде, и оттого вода холоднеет, а лягушки на дно спать ныряют, было прощально горько в тихом, разросшемся, густом, поникшем над, прудом Огорелышевском саду. За плотиком на той стороне уж поспела дикая малина, у купальни барбарис завесился рубинами, и рябина у беседки верх опоясалась крупными кораллами. Листья желтели и тихо падали по дорожке в пруд.
Поздно ночью прибежавшая к Коле в сад Машка, такая радостная, вдруг присмирела, схватилась за него и не отходила, словно боялась, что прогонит он ее и тогда уж ей никогда не вернуться в свой постылый, в свой фабричный корпус.
А Коля и не думал гнать ее, так было прощально горько в саду у пруда.
И они ходили долго, горячо прижимая друг к другу свои такие родные полюбившие сердца.
«Кто ты, Маша, Верочка, Машка, Маргаритка? Ты Маргаритка!» – шептало его сердце шепотом осенних томящихся звезд и билось, как вновь открытый заваленный ключ.
С этой ночи приходила Машка к Коле не только в сад к пруду, а и наверх в детскую, она пробиралась тихонько мимо Пети и Жени. Саша летом перешел вниз в Варенькину комнату, туда же за ним в гардеробную переселился и Прометей. У Пети и Жени тоже завелись знакомые, как говорила Арина Семеновна-Эрих.
– Что я вам скажу, девушки, – предостерегала Прасковья Петю, Женю и Колю, она все знала, – не ровен час, кто их знает, какие еще они, таковские, вы бы, девушки, взяли Авдотью Степанидину Свистуху, баба она чистая и опрятная!
Глава двадцатаяДеньги вперед
Пришла осень, пошли дожди. Облетел весь сад. Подмерзла калина. И к чаю вместо варенья подавала Прасковья только одно горьковатое калиновое тесто – такое Степанида умела делать из калины. Прометей вставил в окна зимние рамы и стал по утрам топить печки.
Сумрачно тянулся в училище час и надоедливо. Ученикам специального бухгалтерского класса как старшим разрешалось не выходить на перемене из класса в зал, и в это время в классе постоянно шел разговор о всяких ночных похождениях: в Огорелышевском училище училось много богатых и состоятельных, и ночные кутежи в загородных ресторанах и дорогих увеселительных домах были делом обычным.
– Маргаритка, – донесся как-то до Коли перегорелый с попойки голос Семенова-Совы, завсегдатая всяких заведений, – знаю, сволочь она, кожа желтая, теперь в рублевом…
Вошел учитель бухгалтерии по прозвищу Шибздик, и Сова-Семенов, продолжая разговор, уж зашептал на ухо своему соседу Сухоплатову, и лошадиное нечистое лицо Сухоплатова все затряслось и вспотело.
Сколько ни прислушивался Коля, разобрать ничего не мог, да и все равно ничего бы не разобрал он, как бы ни прислушивался, ведь весь класс, все стены загорелись от нетерпения: сейчас же бежать туда в рублевый дом, сейчас же видеть ее, рублевую Маргаритку, – теперь и ему можно! А час тянулся. Насилу Коля высидел этот долгий нетерпеливый час и, сказавшись больным: живот болит, – всегдашняя оговорка, – Коля ушел из училища.
Идти к Маргаритке так рано нельзя было, а домой заходить не стоило, и до вечера проходил Коля по бульварам.
Была суббота, редким звоном, как звонят с Воздвиженья до Пасхи, печально зазвонили ко всенощной.
С своим полысевшим ранцем под мышку вошел Коля в переулок. Мутное ненастье, будто застрявшее в переулке, лежало безгрезным сном. Ненастные суетливые сумерки сыростью липли к щекам. Нехотя со скрипом растворялись ставни в домах.
В рублевом Маргариткином доме против дома, изукрашенного разноцветною мозаикой, кровавым пятном расплылся красный свет фонаря. Коля и пошел на этот красный свет.
Знакомый, намеливший немало крестиков на спине Коли, вышибало Демка-Моква, заспанный и обрюзглый от бессонной жизни, поплевывая, чистил ботинки. Коля спросил Маргаритку. Маргаритка еще не одевалась и пришлось подождать.
Коля терпеливо остался в прихожей дожидаться. Вышибало Демка-Моква чистил ботинки, перечистил одни, перечистил другие, сколько было, все кончил, отнес по дверям и за юбки принялся.
Коле показалось, пошел не час и не два, вся жизнь прошла, когда, наконец, горничная повела его в спальню.
Маргаритка стояла перед зеркалом, вся кружевная, как игрушечная, причесывалась.
– Вам что нужно? – не оборачиваясь, с полным ртом шпилек, спросила Маргаритка.
Коля почувствовал, что ни одного слова не может сказать, и молчал. Проворные руки Маргаритки мелькали перед ним.
Маргаритка воткнула все шпильки, закрутила косу.
– «Обо мне ты не мечтай…» – гнусаво запела она из оперетки шарманочную песню, подергала плечом и опять распустила волосы.
На самой макушке ее заблестело белое пятно – лысина. Пластырем лежало это белое пятно. И этот пластырь лез в глаза.
– Ну? – вдруг обернулась Маргаритка.
– Я к вам! – Коля сказал неожиданно резко и твердо, и твердо сделал шаг, и еще шаг, и еще.
Маргаритка вытаращила красные запудренные глаза.
– Деньги вперед! – сказала она сухо.
– Я не затем, я к вам!
– Деньги вперед! – вдруг закричала Маргаритка, и крик пересекся хрипом, – вы… хозяйку подводите, оборванцы! Встать по-людски не дадут, жить не дают, жить из-за вас нельзя.
А у Коли горло словно свинцом налилось, и льдом сдавило его раскрытое сердце, он сделал еще шаг и обнял ее.
Незабеленные язвы ее сочились, и какая-то плесень, какая-то соль, какая-то слизь мазали ему губы.
– Вон! вон!!! – взвизгнула Маргаритка, и отпихнув от себя Колю, сжалась вся и заплакала, как дитя беззащитное.
Не смея взглянуть, Коля медленно вышел.
Моросил мелкий дождик. Всхлипывало под ногами месиво грязи. С постоялых дворов текли нечистоты. В церквах второй звон звонили. Огни фонарей будто под щипками чьих-то злющих пальцев ширялись по ветру. И больно саднило сердце.
Вдруг Коле вспомнилась Машка, ночи у пруда – «Звезды-то какие!» – и вдруг пахнуло запахом мази и гниения: – «Деньги вперед!» – и до пустых жил вздрогнуло его сердце.
Еще сумрачнее тянулся в училище час, еще надоедливее. На перемене в классе по-прежнему шел разговор о всяких ночных похождениях.
– Маргаритка, – как-то вскоре донесся до Коли перегорелый с попойки голос Семенова-Совы, – сволочь: Сухоплатова болезнью наградила, сволочь…
Сосед Семенова, Бойцов, отдуваясь, фыркнул. А Коля, не сказавшись, вышел из класса, надел шинель и без ранца поплелся домой. По пятам гнусила Маргариткина запетая песня. И у трясущихся ломовиков колеса, чавкая грязь, чавкали ту же песню.
Казалось ему, заболевала вся улица. И на губах ныло, как язва.
И вдруг до пустых жил вздрагивало его сердце.








