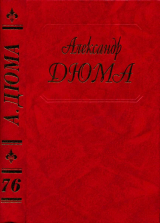
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц)
Толпой угрюмою и скоро позабытой Над миром мы пройдем без шума и следа, Не бросивши векам ни мысли плодовитой, Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, Потомок оскорбит презрительным стихом, Насмешкой горькою обманутого сына Над промотавшимся отцом.
Оставляя в стороне слабость перевода, согласитесь, что Байрон и де Мюссе не написали бы ничего более горького.
А вот стихотворение в совершенно ином ключе: это разговор двух гор, Шат-Альбруса и Казбека, двух самых высоких вершин Кавказа после Эльбруса, если я не ошибаюсь.
Шат-Альбрус, расположенный в самой неприступной части Дагестана, до сих пор не поддавался господству России.
Казбек, напротив, уже давно ей покорился. Он представляет собой ворота Дарьяла. Его князья на протяжении семисот лет взимали дань с различных держав, поочередно завладевавших Кавказом, и открывали и запирали им проход, в зависимости от того, исправно или неисправно те платили им дань.
В этом и кроется причина упрека, который Шат– Альбрус бросает Казбеку и который без данного нами разъяснения был бы, наверное, непонятен большинству наших читателей.
Ну а теперь, когда это разъяснение дано, перейдем к самому стихотворению «Спор».
СПОР
Как-то раз перед толпою Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою
Был великий спор.
«Берегись! – сказал Казбеку
Седовласый Шат, —
Покорился человеку
Ты недаром, брат!
Он настроит дымных келий
По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
Загремит топор;
И железная лопата
В каменную грудь, Добывая медь и злато, Врежет страшный путь.
Уж проходят караваны
Через те скалы, Где носились лишь туманы
Да цари-орлы.
Люди хитры! Хоть и труден Первый был скачок, Берегися! Многолюден
И могуч Восток!» «Не боюся я Востока, – Отвечал Казбек, —
Род людской там спит глубоко Уж девятый век.
Посмотри: в тени чинары Пену сладких вин На узорные шальвары
Сонный льет грузин;
И склонясь в дыму кальяна На цветной диван,
У жемчужного фонтана Дремлет Тегеран.
Вот – у ног Ерусалима,
Богом сожжена, Безглагольна, недвижима
Мертвая страна;
Дальше, вечно чуждый тени, Моет желтый Нил Раскаленные ступени Царственных могил.
Бедуин забыл наезды
Для цветных шатров И поет, считая звезды,
Про дела отцов.
Все, что здесь доступно оку, Спит, покой ценя ...
Нет! Не дряхлому Востоку Покорить меня!»
«Не хвались еще заране! – Молвил старый Шат, —
Вот на севере в тумане
Что-то видно, брат!» Тайно был Казбек огромный
Вестью той смущен;
И, смутясь, на север темный Взоры кинул он;
И туда в недоуменье
Смотрит, полный дум:
Видит странное движенье, Слышит звон и шум.
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки;
Веют белые султаны,
Как степной ковыль;
Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль;
Боевые батальоны
Тесно в ряд идут,
Впереди несут знамени,
В барабаны бьют;
Батареи медным строем
Скачут и гремят,
И, дымясь, как перед боем,
Фитили горят.
И, испытанный трудами Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.
Идут все полки могучи, Шумны, как поток,
Страшно медленны, как тучи, Прямо на восток.
И, томим зловещей думой, Полный черных снов, Стал считать Казбек угрюмый —
И не счел врагов.
Грустным взором он окинул
Племя гор своих, Шапку на брови надвинул – И навек затих.
Поэт находит здесь способ быть одновременно насмешливым и величавым, что чрезвычайно трудно, поскольку насмешливость и величавость – качества, почти всегда исключающие друг друга.
В трех или четырех стихотворениях, которые мы приведем дальше, преобладает одна лишь грусть. Все эти стихотворения написаны им совсем незадолго до смерти. Графиня Ростопчина рассказала нам, что Лермонтов предчувствовал свою скорую смерть; это предчувствие обнаруживается почти в каждой его стихотворной строке.
УТЕС
Ночевала тучка золотая На груди утеса-великана, Утром в путь она умчалась рано, По лазури весело играя.
Но остался влажный след в морщине Старого утеса. Одиноко Он стоит, задумался глубоко, И тихонько плачет он в пустыне.
ТУЧИ
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение? Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные ...
Чужды вам страсти и чужды страдания; Вечно холодные, вечно свободные, Нет у вас родины, нет вам изгнания.
Мы выписали из одного альбома приводимое ниже стихотворение, не содержащееся в собрании сочинений Лермонтова. Возможно, оно составляло часть той последней посылки, что была потеряна курьером.
РАНЕНЫЙ
Вот раненый простерт под синевой небес.
Он знает: смерть его узрит лишь мрачный лес.
Но что терзает грудь и сердце бередит,
Что от кровавых ран усугубляет боли, Причина, отчего страдает он все боле – Безрадостная мысль, что всеми он забыт.
В тот же альбом вписано четверостишие, цитируемое нами по памяти.
МОЯ МОЛЬБА
Да охранюся я от мушек,
От дев, не знающих любви, От дружбы слишком нежной и – От романтических старушек.
Стихотворение, приводимое дальше, настолько популярно в России, что его можно увидеть на каждом фортепьяно, и, возможно, нет ни одной русской девушки и ни одного русского юноши, которые не знали бы его наизусть.
Написано это стихотворение, насколько я понимаю, в подражание Гёте или Гейне.
ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога
Не дрожат листы ...
Подожди немного.
Отдохнешь и ты.
И в самом деле, вскоре поэт обрел этот отдых; но, как если бы эта желанная смерть слишком долго не приходила, он порой бросал ей вызов, подобно тем древним рыцарям, которые, устав от бездействия, трубили в рог, чтобы призвать на поединок какого-нибудь противника.
Вот один из таких вызовов. Он именуется «Благодарностью», но вполне мог бы называться «Богохульством».
БЛАГОДАРНОСТЬ
За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне, За все, чем я обманут в жизни был ... Устрой лишь так, чтобы тебя отныне Недолго я еще благодарил.
Желание богохульника исполнилось: через неделю он был убит, и после его смерти эти стихи были найдены среди других бумаг, лежавших у него на столе.
XLI ПЕРСИДСКИЕ БАНИ
Весь день Фино то и дело говорил нам, что вечером нас ожидает приготовленный им сюрприз.
Только что полученное мною известие о смерти графини Ростопчиной не очень располагало меня к сюрпризам, и я предпочел бы приберечь их на какой-нибудь другой день. Но я был не один, и мне пришлось предоставить Фино право распоряжаться остатком нашего вечера; мы сели на дрожки.
– В баню! – произнес он по-русски.
Я уже достаточно знал русский язык, чтобы понять, что сказал барон.
– В баню? – спросил я его. – Мы едем в баню?
– Да, – отвечал он. – Вы имеете что-нибудь против?
– Против бани? За кого вы меня принимаете? Но вы говорили мне о сюрпризе, и я нахожу несколько бесцеремонным, что с вашей точки зрения поход в баню может стать для меня сюрпризом.
– Знакомы вы с персидскими банями?
– Только понаслышке.
– Бывали вы когда-нибудь в них?
– Нет.
– Ну что ж, вот в этом-то и кроется сюрприз.
Мы обменивались этими словами, несясь как ветер по ухабистым улицам Тифлиса, которые освещались лишь фонарями запоздалых любителей игры в вист, возвращавшихся к себе домой.
В течение своего полуторамесячного пребывания в Тифлисе я видел около пятнадцати человек, либо охромевших, либо с рукой на перевязи, которые еще накануне на глазах у меня проворно передвигались на здоровых ногах и с радостью пользовались обеими руками.
«Что с вами случилось?» – спрашивал я их.
«Представьте себе, вчера вечером, возвращаясь домой, я натолкнулся на мостовой камень, и меня выбросило из дрожек».
Ответ у всех был один и тот же. Так что в конце концов я стал задавать этот вопрос исключительно из вежливости, и, когда те, кому он был задан, отвечали: «Представьте себе, вчера вечером, возвращаясь домой ...» – я прерывал их:
«Вы натолкнулись на мостовой камень?»
«Да».
«И вас выбросило из дрожек?»
«Вот именно! Так вы это знали?»
«Нет, но я догадался».
И все восхищались моей проницательностью.
Так что мы неслись как ветер, рискуя, что на следующий день нам тоже зададут этот неизбежный вопрос.
К счастью, когда мы подъехали к месту, где был весьма тревоживший меня крутой спуск, обнаружилось, что оно заполнено верблюдами, так что извозчику поневоле пришлось ехать шагом.
Такая быстрота ночной езды по тифлисским улицам может повлечь за собой, как я только что пояснил, нежелательные последствия для тех, кто сидит на дрожках, но куда более тяжелые последствия она может иметь для тех, кто идет пешком.
Поскольку ни улицы, ни дрожки не освещены и поскольку летом мостовую заменяет слой пыли, а зимой более или менее толстый слой грязи, то пешеход, если только он не освещает себя сам, оказывается под дрожками еще до того, как у него возникнут какие-нибудь опасения, а так как дрожки запряжены парой лошадей, то, даже если он избежит удара одной из них, его непременно ударит другая.
Нам пришлось потратить четверть часа, чтобы пробраться между верблюдами, которые в темноте имели причудливый вид, присущий только им одним.
Спустя несколько минут мы подъехали к воротам бани.
Нас ожидали: еще с утра Фино распорядился предупредить, чтобы нам приготовили кабинет.
Перс в остроконечной шапке повел нас по галерее, висевшей над пропастью, а потом через помещение, заполненное купальщиками – по крайней мере, так мне показалось вначале, но, вглядевшись в них получше, я заметил, что ошибся.
Помещение было заполнено купальщицами.
– Я выбрал вторник, то есть женский день, – сказал Фино. – Уж если делать сюрприз друзьям, то он должен быть самый настоящий.
И в самом деле, сюрприз был налицо, но не для этих дам, явно не испытывавших никакого удивления, а для нас.
С некоторым униженным смирением я увидел, что наше продвижение среди них никоим образом их не встревожило; лишь две или три, к несчастью старые и уродливые, ухватившись за полотенце, которое каждому купальщику выдают при входе в баню, сдернули его с того места, где оно было, и закрыли им себе лицо.
Должен сказать, что они произвели на меня впечатление жутких ведьм.
В этом общем помещении было около пятидесяти женщин в рубашках или без рубашек, стоявших или сидевших, одевавшихся или раздевавшихся; все это тонуло в клубах пара, подобных тому облаку, какое мешало Энею узнать свою мать.
Впрочем, если наше облако скрывало нас от этих Венер, то и сами они были скрыты от наших глаз весьма надежно.
Останавливаться там было бы неблагоразумно, да и к тому же у меня не было на это никакого желания. Дверь в наш номер была открыта, и сопровождавший нас человек в остроконечной шапке предложил нам туда войти.
Мы вошли.
Номер состоял из двух комнат: первая с тремя лавками, достаточно широкими для того, чтобы на них можно было разлечься вшестером; вторая ... Во вторую мы войдем чуть позже.
Первая комната – это предбанник.
Там раздеваются, прежде чем войти в зал для мытья; там ложатся, выходя из этого зала, и там снова одеваются, перед тем как окончательно покинуть баню.
Предбанник был прекрасно освещен шестью свечами, вставленными в большой деревянный канделябр, ножка которого стояла на полу.
Мы разделись и, взяв с собой полотенца – несомненно, чтобы прикрыть ими лицо, если случится проходить мимо женщин, – вошли в баню.
Признаться, я вынужден был немедленно выйти оттуда: мои легкие не в состоянии были вдыхать эти пары. Мне пришлось привыкать к ним постепенно, приоткрыв дверь предбанника и создав себе таким образом смешанную атмосферу.
Внутри бани царила библейская простота: она вся была каменная, без какой бы то ни было облицовки, с тремя квадратными каменными ваннами, нагретыми в разной степени, а вернее сказать, получающими природные горячие воды с тремя разными температурами. Купальщиков ожидали там три деревянные лавки.
На минуту мне показалось, что меня снова привели на почтовую станцию.
Заядлые любители направляются прямо к ванне, нагретой до сорока градусов, и отважно погружаются в нее.
Заурядные любители направляются к ванне, нагретой до тридцати пяти градусов.
Наконец, новички робко и стыдливо погружаются в ванну, нагретую до тридцати градусов.
Затем они последовательно переходят от тридцати градусов к тридцати пяти, а от тридцати пяти – к сорока.
Таким образом, повышения температуры они почти не замечают.
На Кавказе есть природные горячие воды, температура которых доходит до шестидесяти пяти градусов; они действенны при ревматизме.
Однако их употребляют лишь в виде паров.
Купальщика, лежащего на простыне, которую держат за четыре угла четыре человека, помещают над ванной. Такая процедура длится шесть, восемь или десять минут; десять минут – это все, что может выдержать самый выносливый купальщик.
В подобной ванне самым плачевным образом погиб в этом году один архиепископ. Стыдливость не позволила ему доверить четыре угла простыни, на которой он принимал паровую ванну, привычным к этому занятию людям. Он заменил их четырьмя дьяконами. Один из дьяконов, то ли по неловкости, то ли по рассеянности, выпустил из рук доверенный ему угол. Его преосвященство соскользнул с наклонившейся простыни и упал в кипящую ванну.
Дьяконы, испуская громкие крики, попытались ухватить утопающего, но при этом обожгли себе пальцы. Крики их стали еще громче; прибежали банщики. Более привычные к ожогам, они сумели вытащить его преосвященство из ванны. Но было уже поздно: архиепископ сварился.
Рискуя свариться, как его преосвященство, Фино бросился в сорокаградусную ванну.
Совет Сатане: в тот день, когда французского консула в Тифлисе будут встречать в аду, следует приготовить особенный котел.
Я направился к тридцатиградусной ванне и боязливо спустился в нее. Затем от тридцати градусов я последовательно и безболезненно перешел к тридцати пяти и сорока градусам.
На выходе из сорокаградусной ванны меня поджидали банщики.
Они завладели мной, когда я менее всего этого ожидал. Я вздумал было защищаться.
– Не мешайте им, – крикнул Фино, – а то они вам что-нибудь сломают!
Если бы я знал, что именно они мне сломают, то, возможно, все же стал бы сопротивляться, но, так как мне это не было известно, я не стал им мешать.
Два истязателя уложили меня на одну из деревянных лавок, позаботившись подсунуть мне под голову намоченную подушечку, и заставили вытянуть ноги одну возле другой, а руки – вдоль тела.
После этого они схватили мои руки – один взял левую, другой правую – и принялись с хрустом выламывать мне суставы.
Процедура эта началась с плеч и закончилась у последнего сустава пальцев.
От рук они перешли к ногам.
Когда с ногами было покончено, пришла очередь затылка, затем позвоночника, а затем и поясницы.
Это упражнение, которое, казалось, должно было полностью вывихнуть мои члены, совершалось удивительно легко и не только не причиняло мне боли, но даже приносило некоторое наслаждение. Мои суставы, никогда прежде не издававшие ни единого звука, хрустели так, словно им это приходилось делать всю жизнь. Мне казалось, что меня можно будет согнуть как салфетку и положить между двумя полками шкафа, а я при этом даже не вскрикну от боли.
Когда этот первый этап массажа закончился, банщики перевернули меня на живот, и, пока один вытягивал мне изо всей силы руки, другой принялся плясать на моей спине, время от времени соскальзывая с нее и с шумом топая по доскам ногами.
Странное дело, но этот человек, весивший, наверное, сто двадцать фунтов, казался мне легким, как бабочка. Он то и дело вскакивал мне на спину, спрыгивал с нее, опять вскакивал – и в итоге всего этого возникала череда ощущений, воспринимавшаяся мною как невероятное блаженство. Я дышал так, как мне никогда не доводилось дышать прежде; мои мышцы, вместо того чтобы испытывать утомление, приобрели – или мне это только казалось – невероятную силу: я готов был на спор поднять на вытянутых руках Кавказ.
Вслед за тем банщики стали хлопать меня ладонью по пояснице, по плечам, по бокам, ляжкам и икрам. Я обратился в своего рода музыкальный инструмент, на котором они исполняли какую-то мелодию, и эта мелодия казалась мне гораздо приятнее, чем все мелодии из «Вильгельма Телля» и «Роберта-Дьявол а». К тому же она имела большое преимущество перед всеми напевами из обеих только что упомянутых мною достойных опер: дело в том, что я, кто никогда не мог спеть ни одного куплета из «Мальбрука» без того, чтобы не сфальшивить раз десять, следовал за этой мелодией, ударяя в такт головой и ни на мгновение не сбиваясь с тона. Я пребывал в состоянии человека, который еще грезит, но уже пробудился в достаточной степени, чтобы осознавать, что он грезит, и, находя свои грезы приятными, изо всех сил старается не пробуждаться до конца.
Наконец, к моему великому сожалению, массажная процедура закончилась, и банщики приступили к последнему этапу – намыливанию.
Один из банщиков взял меня под мышки и привел в сидячее положение, как это делает Арлекин с Пьеро, думая, что он убил его. Другой в это время надел себе на руку волосяную перчатку и стал натирать ею все мое тело, тогда как первый, черпая ведром воду из сорокаградусной ванны, со всего размаха выливал ее мне на поясницу и на затылок.
Внезапно банщик с перчаткой решил, видимо, что обычной воды уже недостаточно, и взял какой-то мешочек; тотчас же я увидел, что мешочек стал разбухать и источать мыльную пену, которая полностью погребла меня под собой.
Если не считать легкого жжения в глазах, я никогда не испытывал более сладостного ощущения, чем то, что производила эта пена, струящаяся по всему моему телу. Почему Париж, этот город чувственных наслаждений, не имеет персидских бань? Почему ни один наш предприниматель не выпишет хотя бы двух банщиков из Тифлиса? Ведь тогда ему наверняка удалось бы осуществить филантропическую идею и, что куда более вероятно, разбогатеть.
Покрытого с головы до ног пеной, теплой и белой, как молоко, легкой и текучей, как воздух, меня повели в бассейн, куда я спустился, подчиняясь непреодолимой притягательной силе, как если бы он был населен нимфами, похитившими Гиласа.
Все то же самое проделали с каждым из моих спутников, но я был занят исключительно собой. Видимо, лишь в ванне я пробудился и снова, причем с большой неохотой, вступил в соприкосновение с внешним миром.
Еще минут пять мы оставались в ваннах, а затем вышли из них.
Нас ожидали длинные белоснежные простыни, разостланные на лавках предбанника, холодный воздух которого вначале обжег нас, но лишь для того, чтобы доставить нам новое ощущение блаженства.
Мы легли на эти лавки, и нам принесли курительные трубки.
Теперь мне понятно, что курят на Востоке, где табак – это благовоние, где дым проходит сквозь благоуханную воду и сквозь янтарный мундштук; но наш капральский табак в глиняной трубке, наша поддельная гаванская сигара, которая поступает из Алжира или из Бельгии и которую жуют по крайней мере столько же, сколько курят, – фи!
У нас были на выбор кальян, чубук и хука, и каждый по своей прихоти сделался турком, персом или индийцем.
И тогда, чтобы мы не упустили в этот вечер ни одного из удовольствий, один из банщиков взял нечто вроде гитары, снабженной ножкой и поворачивающейся на ней, так что это струны ищут смычок, а не смычок ищет струны, и принялся наигрывать какую-то жалобную мелодию, служившую музыкальным сопровождением к стихам Саади.
Эта мелодия убаюкивала нас так хорошо и так сладко, что наши глаза закрылись, кальян, чубук и хука выпали из наших рук, и мы, признаться, заснули.
На протяжении полутора месяцев, проведенных мною в Тифлисе, я ходил в персидские бани через день.
XLII. КНЯГИНЯ ЧАВЧАВАДЗЕ
Фино обещал сопроводить меня к княгине Чавчавадзе, которую нам не удалось застать дома, когда мы впервые нанесли ей визит.
Он явился за мной на другой день после нашего похода в персидскую баню, в два часа пополудни.
В этот раз княгиня была дома и приняла нас.
Княгиня Чавчавадзе слывет женщиной, обладающей самыми красивыми глазами во всей Грузии, этой стране, где столько красивых глаз; но что поражает прежде всего при первом взгляде на княгиню, так это ее профиль, наделенный греческим совершенством, а лучше сказать, грузинским совершенством, то есть не чем иным как греческим совершенством, к которому прибавлена жизнь.
Греция – это Галатея, но еще мраморная; Грузия – это Галатея одушевленная, ставшая женщиной.
И вместе с тем, обладая этим восхитительным профилем, княгиня выглядит глубоко печальной.
Откуда происходит эта печаль? Ведь она счастливая супруга, плодовитая мать. Может быть, дело в красоте, которой природе было угодно сверх всего этого наделить ее, подобно тому как природа наделяет ароматом некоторые цветы, достаточно красивые, чтобы обходиться без аромата? Или это последствие, отпечаток, результат громадной беды, почти на целый год разлучившей княгиню с семьей?
И что странно, достославная пленница сохранила подлинное и восторженное уважение к Шамилю.
– Это человек совершенно выдающийся, – говорила она мне, – и слава его скорее преуменьшена, чем преувеличена.
Расскажем со всеми подробностями об этом похищении, которое задолго до того, как оно было совершено, задумал Шамиль, чтобы вернуть себе своего сына Джемал-Эддина, ставшего, как мы уже сказали в начале этой книги, пленником царского двора.
Но Джемал-Эддин считал за счастье быть пленником; несчастный молодой человек умер от печали, снова став свободным.
Княгиня Чавчавадзе владеет великолепным поместьем в сорока—сорока пяти верстах от Тифлиса, которое носит название Цинандали.
Это княжеское имение расположено на правом берегу Алазани – той самой реки, вдоль берегов которой мы ехали, следуя из Нухи в Царские Колодцы, – в одном из красивейших мест Кахетии, в нескольких верстах от Телава.
Княгиня имела привычку каждый год уезжать в мае из Тифлиса, поселяться в Цинандали и возвращаться оттуда лишь в октябре.
В 1854 году пошли слухи о возможном набеге лезгин, и это задержало княгиню в Тифлисе дольше, чем обычно. Князь попросил ее повременить с отъездом, пока не будут собраны данные разведки; эти данные, полученные им, как он полагал, из надежного источника, успокоили его. В итоге было решено выехать 18 июня по русскому стилю, или 30 июня по нашему французскому календарю.
Переезд в другое жилище – важное дело в Азии, где даже у самых богатых людей все, кажется, делается лишь для удовлетворения сиюминутных нужд; здесь не заведено иметь обстановку одновременно и в городском доме, и в загородном поместье. Покидая город, чтобы отправиться в деревню, из городского дома забирают всю мебель и перевозят ее в поместье; если же покидают поместье, чтобы отправиться в город, мебель перевозят обратно в городской дом.
А кроме того, поскольку съестные припасы с трудом можно найти даже в Тифлисе, то тем более это непросто в деревне. И, стало быть, приходится все везти с собой из Тифлиса: чай, сахар, пряности и разного рода ткани, предназначенные для домашней челяди; все это нагружают на арбы и едут впереди них на тарантасе.
По кавказским дорогам ездят только тарантасы и арбы.
Отъезжать было решено в воскресенье, но на почтовой станции не оказалось лошадей. На почтовых станциях в России никогда не бывает лошадей. Ручаюсь, что во время нашего четырехмесячного путешествия на почтовых мы потеряли в общей сложности месяц в ожидании лошадей.
Все же русское правительство – странное правительство. Вместо того чтобы сказать почтовым смотрителям: «Вы будете взимать плату за лошадей на одну копейку больше, но у вас всегда должны быть лошади», оно позволяет смотрителям грабить путешественников, а путешественникам, которые не желают быть ограбленными, бить смотрителей.
Итак, в воскресенье лошадей не оказалось. Можно было бы выехать в понедельник, но русский понедельник то же, что французская пятница: это несчастливый день.
Так что выехали лишь во вторник.
В первый день сломались две арбы; на второй день сломался тарантас. Пришлось набить сеном и коврами телегу, и княгиня легла в ней вместе с тремя своими младшими детьми – Тамарой, Александром и Лидией, из которых двое последних были еще грудными: маленькому Александру было четырнадцать месяцев, Лидии – три месяца, Тамаре – четыре года. Двое старших детей, Саломея и Мария, ехали на второй телеге вместе с французской гувернанткой, г-жой Дрансе[6]. Князь, ехавший верхом, наблюдал за всем этим караваном.
На другой день, в два часа пополудни, караван прибыл в загородный дом, расположенный на холме, одна сторона которого представляет собой довольно крутой, но все же преодолимый склон, а другая обрывается отвесной пропастью.
Судите сами о столь хваленой скорости передвижения в России: княгиня потратила восемнадцать часов на то, чтобы проделать путь в одиннадцать льё.
Вы, возможно, скажете мне, что Грузия это не Россия.
Отвечаю: в России ей понадобилось бы на такой путь не восемнадцать часов, а тридцать шесть.
Цинандали в июне месяце – это волшебный дворец: цветы, виноград, гранаты, лимоны, апельсины, жимолость, розы растут, распускаются и созревают здесь вперемешку; здешний воздух являет собой одно сплошное благоухание, составленное из десятков ароматов, слившихся воедино.
Так что дети и женщины тотчас же разбежались по этому прекрасному огромному саду, словно цветы и плоды города, смешавшиеся с цветами и плодами деревни.
Княгиня Анна Чавчавадзе назначила Цинандали местом встречи со своей сестрой, княгиней Варварой Орбелиани. Та прибыла два дня спустя со своим семимесячным сыном князем Георгием и своей племянницей княжной Баратовой. Она привезла с собой кормилицу и двух горничных. Княгиня Варвара Орбелиани была в глубоком трауре: ее муж, князь Илико Орбелиани, незадолго до этого был убит в схватке с турками.
Их сопровождала старая тетка княгини Чавчавадзе, княгиня Тина.
Тем временем князь получил приказ принять командование над крепостью, расположенной в двух днях пути от Цинандали. Этот приказ вызвал определенную тревогу у княгини, разлучавшейся с мужем; однако муж успокоил ее, заявив, что недавно был дан приказ отправить из Тифлиса войска в Телав; кроме того, уже несколько дней шел проливной дождь, так что Алазань вышла из берегов, и лезгины не смогут переправиться через реку.
Князь уехал.
Через три дня княгиня получила письмо от мужа: лезгины, числом от пяти до шести тысяч, напали на крепость, которую он оборонял; однако князь просил ее быть совершенно спокойной: крепость надежна, гарнизон храбр и опасаться нечего.
Если бы он полагал, что ей необходимо оставить Цинандали, он дал бы ей знать об этом.
Опасность, которая могла угрожать ее мужу, заставила княгиню Чавчавдзе забыть об опасности, которая могла угрожать ей самой.
Все было спокойно до 1 июля, то есть до 13 июля по французскому календарю. Вечером в стороне Телава было замечено огромное зарево. Слуги, посланные на разведку, поднялись как можно выше и увидели охваченные огнем дома.
Не приходилось сомневаться, что этот пожар был делом рук лезгин. Стало быть, несмотря на предположения князя, они переправились через Алазань.
Около одиннадцати часов вечера в поместье пришли крестьяне. Они были в полном боевом вооружении. Цель их прихода состояла в том, чтобы убедить княгиню уйти вместе с ними в лес. Княгиня отказалась: муж сказал ей, что она может покинуть Цинандали лишь по его распоряжению.
Утром крестьяне разбежались.
Около двух часов в свою очередь появились деревенские соседи. Они пришли, как и крестьяне, умолять княгиню покинуть поместье и вместе с ними уйти в лес.
По мнению соседей, времени на то, чтобы спасать свои пожитки, уже не было, и эти люди бросали их, считая жизнь ценнее всего того, что они оставляли.
Вечером все поднялись на террасу и увидели, что пожар стал ближе и сильнее. Это кольцо пламени вызывало страх. Княгиня уступила настояниям окружающих, и приказала укладывать столовое серебро, бриллианты и наиболее ценные вещи.
Около полуночи один крестьянин князя, по имени Зуриа, вызвался пойти на разведку. Княгиня дала согласие; он ушел и вернулся через три часа; лезгины стреляли в него: четыре или пять пуль пробили его одежду.
Однако, вопреки предположениям, лезгины не перешли реку: они расположились лагерем по другую сторону Алазани. Горевшие нивы находились на левом берегу реки.
В рассказе крестьянина были и хорошие вести, и дурные, ведь князь сказал, что лезгины не смогут переправиться через Алазань, и они в самом деле через нее не переправились.
Примерно за час до того, как вернулся Зуриа, в поместье явился какой-то человек, назвавшийся армянским купцом; по его словам, при нем была значительная сумма, и он боялся продолжить путь; однако этот человек говорил по-армянски с произношением, выдававшим в нем горца. Княгиня приказала слугам обезоружить пришельца, а если он попытается бежать – стрелять в него. Но так как, в конечном счете, ее подозрения могли быть ошибкой, она приказала позаботиться о нем и дать ему ужин.
Было решено покинуть поместье в шесть часов утра.
Одного за другим в Телав отправили за лошадьми двух посланцев. Но оба услышали в ответ, что лошадей нет совсем и будут они только на следующий день, в воскресенье, в семь часов утра.
Весь день слуги продолжали укладывать вещи в сундуки. Зуриа настаивал, чтобы княгиня немедленно покинула поместье, пусть даже пешком; что же касается вещей, то их повезут на следующий день, и они догонят ее.
На протяжении этого дня два или три крестьянина нарочно выходили из леса, чтобы убедить княгиню присоединиться к ним. Княгиня отвечала, что утром у нее будут лошади и тотчас по прибытии их она отправится в путь.
Было бы величайшим несчастьем, если бы именно в эту ночь лезгины напали на поместье.
Вечером все было приготовлено к отъезду.
Все чувствовали необходимость быть вместе, а не разлучаться и в одиночестве ждать, как будут развиваться события; домочадцы собрались в комнате княгини Варвары, уложили детей и загасили все свечи. Затем, ощутив, что в этом своего рода заточении и в этой темноте у них начинается удушье, все вышли на балкон, откуда можно было видеть подступавший все ближе огонь.
Свет, отбрасываемый пожаром, был столь ярким, что в случае нападения лезгин он лишал княгинь всякой возможности бежать.
В четвертом часу утра послышался ружейный выстрел. Он раздался в стороне сада, и вслед за этим звуком наступила мертвая тишина. Это не было нападение, поскольку выстрел был одиночным, но он мог служить каким-нибудь сигналом.








