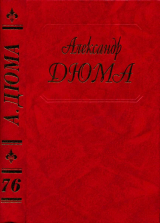
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
Если бы что-нибудь подобное стало угрожать и нам, если бы на глазах у нас небо начало хмуриться, мы должны были укрыться в небольшой часовне, стоявшей в пятнадцати верстах от станции, слева от дороги; если бы мы уже миновали часовню, нам следовало распрячь шесть наших лошадей, а из двух наших саней устроить нечто вроде заслона.
По окончании метели мы снова пустились бы в путь.
Все это было крайне невесело, но еще больше печалило то, что было уже три часа пополудни и, по всей вероятности, мы не успевали прибыть на Чальскую станцию до наступления полной темноты.
Несмотря на все эти мрачные предположения, дорогу мы проехали благополучно. Ямщики показали нам место, где нашли тела двух казаков и их лошадей: это была небольшая лощина, тянувшаяся вдоль дороги. Казаки могли не знать дороги и сбиться с пути, а стоило им углубиться в эту лощину, похожую на ловушку для путников, как они были застигнуты там снежным вихрем.
Если бы не волки, которые разрыли снег, чтобы добраться до них и их лошадей, они, вероятно, были бы найдены лишь следующей весной.
Станция Чальская – просто прелесть:
– Что вы можете дать нам на ужин?
– Все, что вам угодно.
– Отлично! Есть у вас цыплята?
– Нет.
– Баранина?
– Нет.
– Яйца?
– Нет.
Эти расспросы продолжались бесконечно долго, но ответ на них звучал всегда один и тот же. Все продовольственные запасы наших хозяев заключались в черном хлебе, который мы не могли есть, и в фиолетовом вине, которое мы не могли пить.
Пришлось прибегнуть к собственным съестным припасам и к нашей походной кухне: к счастью, у нас еще оставалось несколько кусков колбасы и костяк индейки, который в другое время я не осмелился бы предложить даже волкам из той придорожной лощины; мы съели колбасу с кожурой и индюшатину с костями и если и не насытились, то хотя бы притупили голод.
В ту минуту, когда мы пили этот проклятый чай, приводивший меня в ярость, ибо его можно было отыскать везде и с ним русские обходятся без всего, меня известили, что какой-то офицер желает говорить со мной.
– Скажите ему, что если он пришел просить у меня ужин, то, откуда бы он ни явился, путь этот был проделан им напрасно.
– Нет, он лишь хочет засвидетельствовать вам свое почтение.
– Скудный десерт к скудному обеду!
Офицер вошел; это был очень любезный человек, как и почти все русские офицеры.
Ему стало известно, что я нахожусь на станции, и он не хотел уезжать, не повидав меня.
Он выехал из Тифлиса в два часа пополудни и, благодаря своему званию срочного курьера и превосходной плетке, настоящее назначение которой, по-видимому, ему было хорошо известно, сумел за шесть часов проехать то расстояние, на какое у нас ушло полтора дня.
Правда, багаж не обременял его саней: неожиданно получив приказ отправиться в Кутаис как можно скорее, он поехал в той одежде, какая на нем была, то есть в легкой фуражке и военной шинели.
Располагая этим весенне-осенним одеянием, он рассчитывал проложить проход в снегах Сурама, как это сделал Цезарь в горах Оверни.
Однако у него не было даже щита, которым победитель Верцингеторига разгребал перед собой снег, как это рассказано в его «Записках».
Госпожа де Севинье заболевала при мысли о том, что угрожает груди ее дочери, а я испытывал озноб при виде бедного замерзшего офицера.
Я дал ему одну из своих папах и набросил ему на плечи один из своих тулупов. В обмен он сообщил мне свое имя: его звали капитан Купский; мы условились, что в Кутаисе он оставит на почтовой станции мою папаху и мой тулуп.
Когда все между нами было договорено, он сел в сани и уехал, заправившись перед этим полдюжиной стопок водки.
Я еще стоял у ворот станции, где мы только что попрощались с ним, как вдруг послышался почтовый колокольчик.
Это, как всегда с опозданием, в свою очередь приехал наш друг Тимофей, но, к моему великому удивлению, теперь он приехал на телеге, а не на санях; как выяснилось, Тимофей замешкался настолько, что, прежде чем он выехал с Ксанской станции, туда прибыл капитан Купский.
Не зная, кого он ссаживает на дорогу, капитан, в соответствии с правами, предоставляемыми курьерской подорожной, поступил с Тимофеем так же, как мы, обладая подорожной с двумя штемпелями, поступили с немцем.
Он забрал у него сани.
Тимофей кое-как погрузил наши чемоданы на телегу и поехал на ней, рискуя застрять в снегу.
Тем не менее судьбе было угодно, чтобы он благополучно прибыл; правда, это произошло с задержкой на два часа, но то, что он вообще прибыл, было настолько удивительно, что его ни в чем не приходилось упрекать.
Однако это незначительное происшествие повлекло за собой огромные последствия.
LI «УТКИ РЕКУ ПЕРЕПЛЫЛИ!»
Мы выехали на другой день в девять часов.
Ночью я поднялся, обеспокоенный погодой: мне казалось, будто снег врывается в мои окна.
Но я ошибся.
Впрочем, мне никогда не доводилось видеть картину более унылую, чем зрелище Чальской станции той ночью.
Земля выглядела мертвой и покрытой огромным саваном; бледная луна, словно борясь со смертью, плыла по снежному океану; не слышно было никаких звуков, кроме доносившегося издалека рокота горного потока; время от времени безмолвие нарушалось пронзительным криком шакала или завыванием волка, а потом снова наступала гробовая тишина.
Я вернулся в дом, ощущая холод в большей степени в сердце, чем в теле.
В девять часов утра, то есть в момент нашего отъезда, все приобрело совсем иной вид: небо очистилось, солнце сверкало и изливало слабое тепло, мириады алмазов искрились на снегу, а завывания волков и крики шакалов прекратились вместе с уходом ночного мрака.
Казалось, будто Господь, созерцающий землю, на какое-то мгновение позволил увидеть свой лик сквозь небесную лазурь.
Поскольку двух саней раздобыть было невозможно, Тимофею пришлось ехать вслед за нами, сидя в телеге.
Однако, судя по всему, это очень мало его беспокоило: когда этот достойный человек не мог следовать за нами, он просто придерживался дороги, вот и все.
Впрочем, мы проделали за два дня пятнадцать или шестнадцать льё, впереди у нас оставалось не более шестидесяти, а мы имели в своем распоряжении еще неделю.
Капитан обещал нам оставлять всюду, где он будет проезжать, сведения о состоянии дороги, чтобы предостеречь нас о возможных трудностях.
В полдень мы прибыли в Гори. Наш молодой армянин, имея самые добрые намерения, велел ямщикам ехать прямо к его зятю.
Мороз был так силен, что телега вполне могла следовать за нами.
Радушный прием – это несчастье, когда ты торопишься. Как только я заметил, что зять Григория приготовился радушно принять нас, мне стало понятно, что мы приобретаем прекрасный завтрак, но теряем двадцать пять верст.
Хороший завтрак, если он потерян, можно рано или поздно восполнить, а вот двадцать пять потерянных верст не восполнить никогда.
И потому я велел Григорию потребовать лошадей, чтобы ехать тотчас же после завтрака. Однако, надеясь продержать нас у себя лишний час, лошадей потребовали лишь час спустя.
Почтмейстер, естественно, ответил, что лошадей на почте нет.
Я объяснил Григорию, что почтмейстеру, по-видимому, забыли показать нашу подорожную и он ответил так, не подозревая о двух наших штемпелях.
Григорий послал слугу с подорожной на почту, и на этот раз почтмейстер ответил, что лошади будут в четыре часа.
Муане взял подорожную в одну руку, плетку в другую, взял Григория в качестве переводчика и отправился на почту.
Бедный Григорий ничего не понимал в таком образе действий. Будучи армянином и, следовательно, принадлежа к нации, беспрестанно находившейся в подчинении, к народу, с которым беспрестанно обращались, как с рабом, он не понимал, что можно, оказывается, приказывать и в случае необходимости подкреплять свой приказ ударом плетки.
Я тоже, но, правда, по другой причине, не понимал этого, отправляясь в Россию; опыт доказал мне, что я ошибался.
Плетка и на этот раз сломила сопротивление. Муане и Григорий вернулись, сообщив, что в конюшне имеется пятнадцать лошадей и что шесть из них и два ямщика будут у наших дверей через четверть часа.
Я пишу это сейчас и говорю себе сам, что повторяю подобную деталь уже в пятый или шестой раз; но я повторяю ее, пребывая в убеждении, что оказываю этим подлинную услугу иностранцам, которые проделают ту же дорогу, по какой довелось проехать мне: таких будет мало, я прекрасно это понимаю, но, пусть даже будет всего один такой, необходимо, чтобы он был предупрежден.
Однако на Кавказе следует знать, к кому вы обращаетесь: вам все скажет первый же взгляд этого человека. Если смотритель имеет лицо открытое, нос прямой, глаза, брови и волосы черные, зубы белые, а на голове у него остроконечная папаха из короткого вьющегося меха – значит, это грузин.
И что бы вам ни говорил этот грузин, он говорит вам правду.
Если он сказал, что у него нет лошадей, то бесполезно выходить из себя, бесполезно бить его, причем это не только бесполезно, но и опасно.
Но если почтмейстер – русский, то он, несомненно, лжет, желая заставить вас заплатить вдвое: у него есть лошади, или он их отыщет.
Такое грустно говорить, но, поскольку это истина, ее надо говорить.
Я не придерживаюсь мнения философа, сказавшего:
«Если бы рука у меня была полна истин, я засунул бы руку в карман и застегнул его».
Философ ошибался. Рано или поздно истина, как бы мала она ни была, прорвется наружу; истина прекрасно умеет открывать руки и расстегивать карманы: это она разрушила стены Бастилии.
И в самом деле, через двадцать минут лошади прибыли.
В течение этих пропавших двадцати минут я рискнул пробежаться по улицам Гори; к несчастью, день оказался праздничный, и базар был закрыт. В кавказских городах, где нет монументальных сооружений, за исключением какой-нибудь православной церкви, всегда одной и той же постройки, независимо от того, старинная она или современная, относится она к десятому веку или к девятнадцатому, смотреть, если базар закрыт, нечего, кроме скверных деревянных лачуг, которые жители называют домами, и одного каменного или кирпичного дома с зеленой кровлей, заново оштукатуренного известью и называемого дворцом.
В таком доме живет градоначальник.
Но я был бы несправедлив по отношению к Гори, если бы сказал, что в нем только это и есть.
Сквозь узкие просветы улиц я увидел развалины старинного укрепленного замка тринадцатого или четырнадцатого века, показавшиеся мне величественными.
Замок располагался на вершине скалы, и, находясь там, откуда я смотрел на него, невозможно было понять, каким образом те, кто его строил, поднимались туда.
Проще было поверить, что Господь Бог спустил его с неба на веревке и прочно установил на скале, сказав:
«Таково божественное право».
Впрочем, я позволил себе осмотреть его получше, отдалившись от города.
Когда лошади были запряжены, мы сели в сани, а Тимофей устроился в своей телеге.
В полдень лучи солнца вызвали кратковременную оттепель, и небо уже целый целый час хмурилось.
Мы были готовы пуститься в путь, а ямщик уже поднял свою плеть, как вдруг зять Григория, обменявшись несколькими словами с каким-то всадником, повернулся к нам и с удрученным видом произнес:
– Господа, вы не можете ехать.
– Почему?
– Вот этот всадник сказал мне, что Лиахву больше нельзя переехать вброд; он только что пересек ее, и его лошадь чуть было не унесло течением.
– Неужели?
– Именно так.
– Ну что ж, мы преодолеем ее вплавь, сударь; это очень просто, ведь еще наши няньки убаюкивали нас в детстве песенкой: «Утки реку переплыли!»
И, ко всеобщему удивлению, мы отправились в путь.
Несколько самых проворных грузин даже бросились бежать рядом с нашими санями и вслед за ними, чтобы видеть, как мы переедем через реку.
В версте от Гори она преградила нам дорогу; река катилась с яростью и шумом и несла с собой льдины, которыми, казалось, она была вымощена, словно плохо уложенными плитами; но сила ее течения такова, что она никогда не замерзает; двумя верстами ниже она впадает в Куру.
При виде этого зрелища наше воодушевление несколько остыло; ямщики воздевали руки к небу и крестились.
Тем временем какой-то всадник, подъехавший к противоположному берегу, тоже какое-то время осматривал реку, изучал ее течение, а затем выбрал подходящее место и пустил свою лошадь в воду.
Лошадь тотчас оказалась по брюхо в воде, но посредине реки она явно наткнулась на какой-то бугор, скрытый под водой, и пять или шесть шагов прошла почти посуху; затем она снова по брюхо погрузилась в воду и благополучно достигла другого берега.
– Нам следует держаться дороги, проложенной этим всадником, – сказал я Григорию.
Он передал мои слова ямщикам, но их первое побуждение заключалось в том, чтобы отказаться выполнять этот приказ.
Муане осторожно вытащил из-за пояса плетку и показал ее ямщикам. Всякий раз, когда этот символ показывают ямщику, тот осознает, что плетка предназначена не лошади, а ему, и решается сделать то, что ему не хотелось делать.
Ямщики двинулись вдоль по берегу Лиахвы до того места, где на снегу остались отпечатки лошадиных копыт.
– Вот здесь, – сказал я Григорию, – и не надо давать лошадям время на размышления.
Наши сани были запряжены тремя лошадьми: две находились рядом и третья впереди.
Ямщик сидел верхом на той, что шла впереди.
Он хлестнул свою лошадь. Григорий, сидевший на передке саней, хлестнул двух других.
Все, даже зрители, подбодрили их криками.
Лошади не вошли в воду, а бросились в нее.
Сани спустились в реку, не испытав особых толчков; вскоре мы наполовину скрылись среди всплесков воды, которые сани взметали вокруг себя. Первая лошадь достигла бугра, за ней его достигли и две другие.
Но подъем происходил не по такому пологому склону, как спуск: передок саней ударился о камень, и удар был так силен, что постромки передней лошади порвались, лошади и ямщик опрокинулись в Лиахву, а Григорий стукнулся головой о полуостров.
Я говорю «полуостров» не в том смысле, что он какой– либо стороной примыкал к берегу, а потому, что ему недоставало лишь шести дюймов, чтобы выступать из воды.
К счастью, эти шесть дюймов воды ослабили удар, а иначе бедный парень размозжил бы себе голову о камни.
Ухватившись за скамейки, мы остались неколебимыми, как justum et tenacem[15] Горация.
Но должен сказать, что, дабы оставаться такими, следовало быть в большей степени твердыми, чем справедливыми.
В происшествиях подобного рода есть некоторая польза: она состоит в том, что те, кто стал их жертвой, досадуют, не хотят сдаваться и, пуская в ход всю свою энергию, в конце концов преодолевают препятствие.
Ямщик связал постромки передней лошади и вновь сел на нее верхом; Григорий снова расположился в санях, удары и крики возобновились с новой силой, сани сорвали с места камень, как дантист вырывает зуб, и в свою очередь оказались на бугре, в то время как первая лошадь оказалась в воде по брюхо, а остальные, продвинувшиеся не так далеко, – по колено.
Нельзя было позволять им расхолаживаться; раздались крики «Пошел! Скорей! Пошел!», удары посыпались градом, взбешенные лошади с быстротой молнии пересекли второй рукав реки и, выехав на другой берег, выбросили нас всех троих из саней.
Утки переплыли реку, а точнее говоря, мы переплыли реку, как утки. Мы выбрались из-под наших кинжалов, ружей и ящиков; никто не пострадал, однако Лиахве осталось на память от нас то, что дети называют снежными портретами – отпечатки наших тел на снегу.
Оставались еще Тимофей и его телега; признаться, я не решался смотреть в его сторону. Препоручив его Богу, я занял свое место в санях, Муане и Григорий тоже расположились в них, и мы закричали изо всех сил: «Скорей! Скорей!», чтобы воспользоваться преимуществом того закона атмосферы, который утверждает, что скорость способствует обсыханию.
Сани понеслись во весь дух, сопровождаемые восторженными криками многочисленных зрителей.
Мне не хотелось глядеть на телегу, но я вознаграждал себя тем, что смотрел на Гори. Нельзя представить себе зрелище более величественное и грозное, чем этот старый замок, господствующий над городом.
Вообразите скалу высотой в полторы тысячи футов с гигантской лестницей, которая состоит из крепостных стен и башен, взбирающихся вверх от ее подножия до вершины и образующих семь последовательных поясов укреплений: у каждого из них по башне в каждом из их углов.
Наконец, выше располагается восьмой пояс укреплений, образующий главную, верхнюю, замковую башню, а посреди нее находятся развалины крепости.
Муане слишком замерз, чтобы на месте зарисовать этот замок, однако он сделал для Гори то, что прежде было сделано им для замка шамхала Тарковского: он мысленно сфотографировал его и вечером перенес на бумагу.
Наконец, мой взгляд, почти против моей воли, переместился с высоких вершин к реке, и я закрыл глаза руками, чтобы не видеть печального зрелища, которое мне открылось. Все было опрокинуто в Лиахву: телега, чемоданы, сундуки, походная кухня, спальные мешки, а прежде всего – сам Тимофей.
У меня даже не было желания поделиться своим горем с Муане: я надвинул, словно Казбек у Лермонтова, свой башлык себе на глаза и закричал глухим голосом: «Скорей! Скорей! Скорей!»
Ямщик подчинился приказу.
Мы переправились через вторую реку, которая по сравнению с первой была не более чем пустяком, так что я упоминаю о ней просто к слову, а затем верст пятнадцать катились по достаточно гладкой равнине. Внезапно на пути встал косогор.
Я бы не назвал его горой, но это был склон футов в сто, своей крутизной напоминавший скат крыши.
Даже допуская, что наша телега выбралась из реки, можно было быть уверенным, что она не сумеет подняться на этот склон, крутой, как русская горка.
Так что я предложил подождать Тимофея, чтобы придумать какое-нибудь средство втащить телегу на вершину косогора. Предложение было принято.
Мы вышли из саней, в которых осталась только наша поклажа, и, пока ямщик взбирался на них вверх по склону, Муане, Григорий и я принялись рубить кинжалами древесные сучья, чтобы сложить из них костер и согреться.
Мы дымились возле костра, словно сырые дрова, но, дымясь, обсыхали, а все остальное не имело значения.
Дымясь и обсыхая, мы, тем не менее, напряженно прислушивались.
Наконец раздались звуки почтового колокольчика, и мы увидели телегу с Тимофеем, восседавшим на вершине поклажи.
Тимофей был великолепен! Вода, в которой он вымок, почти сразу превратилась в ледяные сосульки: это была колонна, покрытая сталактитами; он был похож на статую Зимы у главного бассейна Тюильри, недоставало только жаровни, чтобы отогревать в ней пальцы.
Мы даже не стали спрашивать его, как ему удалось переправиться: его обледеневшая одежда красноречиво свидетельствовала о том, как это произошло; однако, поскольку он был закутан в тулуп и в две или три шинели, вода не проникла до его тела, скрытого под пятью или шестью покровами.
Если бы Тимофей отогрелся, он в конце концов промок бы насквозь, а так мороз задержал воду в пути.
Что же касается наших чемоданов и сундуков, то все они покрылись слоем льда.
Мы выпрягли из саней лошадей, которые, освободившись от нашего веса, благополучно достигли вершины косогора, и впрягли их в телегу; но шесть наших лошадей напрасно тратили свои силы: телега дошла до трети горы и там, по ступицу увязнув в снегу, заупрямилась и остановилась.
Понимая, что упорствовать в таком безнадежном деле бесполезно, мы велели Тимофею ждать нас, а сами настроились добраться до ближайшей деревни, носившей название Руис, и прислать ему оттуда лошадей или волов. Эта деревня, по уверениям нашего ямщика, находилась не более чем в десяти верстах, так что дорога до нее должна была занять самое большее два часа.
Тимофей остался на вершине своей телеги: по виду это был царь Декабрь, восседающий посреди своих ледяных владений.
Мы снова сели в сани и помчались как можно быстрее.
До темноты оставался от силы час, а погода была скверная.
LII ТИМОФЕЙ НАХОДИТ НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИМ СПИЧКАМ
Примерно одну версту мы ехали довольно быстро, поскольку находились на плоскогорье; но, по мере того как мы приближались к Сураму, косогоры следовали один за другим, становясь все более крутыми.
Наконец, мы подъехали к началу дороги, идущей в гору; тем временем уже почти спустилась ночь.
Невозможно составить себе представление об этой местности, полностью укрытой снегом, если вы ее не видели; дорога была едва намечена следами лошадиных копыт, и на ней нельзя было обнаружить следов ни от колес экипажей, ни от полозьев саней; вдали, словно огромный белый занавес, зубчатый край которого терялся в сером небе, простиралась горная цепь Сурама, соединяющая тот отрог Кавказа, что тянется к Черному морю и заканчивается у Анапы, с тем, что углубляется в Персию, отделяя Лезгистан от Армении; по левую руку от нас, в нижней части огромного снежного пространства с почти неощутимым наклоном, грохотала Кура; по правую сторону тянулся ряд холмов, которые закрывали собой горизонт, вставая один за другим, словно неподвижные волны.
Никакое человеческое существо, никакая живая тварь не двигались по этой пустыне, служившей самым совершенным образом смерти, какой мне когда-либо приходилось видеть.
Небо, земля, горизонт – все было белое, холодное, оледенелое.
Мы вышли из саней, закинули за плечо ружья и начали пешком взбираться по этому склону.
За месяц до нас по той же дороге проехал английский посол в Персии, г-н Мюррей, и он писал, что ему удалось перебраться через Сурам лишь благодаря тому, что в три его экипажа были впряжены шестьдесят волов.
Но весь этот месяц постоянно шел снег, так что нам, исходя из пропорции, должно было понадобиться двести волов.
На каждом шагу мы увязали в снегу по колено. Григорий, решившись отойти в сторону от дороги, на которую указывали следы лошадиных копыт, тотчас же погрузился в снег по пояс.
Высота снежного покрова вокруг нас составляла в среднем от четырех до пяти футов, и мы прекрасно понимали, что если бы снежный вихрь настиг нас в этом месте, то мы все остались бы здесь навсегда – и люди, и лошади.
Было страшно холодно, и тем не менее дорога настолько утомляла, что мы обливались потом; стоило бы нам остановиться хоть на минуту, и пот у нас на лице обратился бы в лед, а это грозило плевритом и воспалением легких; так что нам ничего не оставалось, как продолжать идти; к тому же сани, которые, словно черная точка, виднелись в версте позади нас и, даже освобожденные от нашего веса, лишь с величайшим трудом следовали за нами, не сдвинулись бы и на шаг, если бы мы снова сели в них.
У нас ушло примерно три четверти часа, чтобы достичь вершины горы.
Мы оказались на плато.
Там мы продолжили путь, замедлив шаг, чтобы постепенно остынуть, но прошли почти три версты, прежде чем нас догнали сани.
К счастью, ночь была лунная, и, хотя луну нельзя было увидеть из-за снежной пыли, висевшей в воздухе, ее свет доходил до нас – бледный, болезненный, мертвенный, но все же достаточный для того, что позволять нам ориентироваться.
Мы застегнули свои тулупы и опять сели в сани; примерно через полчаса послышался лай собак, но они находились по крайней мере в четырех-пяти верстах от нас.
Лай этот доносился из деревни Руис.
Нам ничего не оставалось, как набраться терпения и двигаться вперед.
Эти четыре версты мы проделали за три четверти часа, причем ехали все время шагом: ямщик опасался сбиться с дороги, поскольку никаких следов ее видно не было.
Кажду минуту он останавливался и осматривался.
К счастью, лай собак указывал ему, куда надо было ехать; по мере того как мы приближались к деревне, этот лай усиливался: собаки, наделенные необычайным нюхом полудиких животных, учуяли нас за целое льё.
Наконец показались какие-то черные линии; это были изгороди деревни. Мы поторопили ямщика, который мог не опасаться теперь, что он заблудится, но вполне мог опрокинуть нас в какой-нибудь овраг.
Однако ничего подобного не случилось; сани остановились напротив какого-то постоялого двора, стоявшего, словно одинокий часовой, у дороги; ямщик подал зов, и из дома вышел хозяин с пылавшей головней в руке.
Замерзнув, несмотря на свои тулупы, мы поспешили войти в дом.
Спешу принести извинения за то, что я назвал такое домом. Это был сарай, навес, притон, ужасающий снаружи и, что еще хуже, отвратительный внутри.
Внутри его освещало яркое пламя, пылавшее в кирпичном камине; свет этого пламени играл на предметах, которые невозможно было с первого взгляда распознать, а распознав, невозможно было исчислить.
Это были шкуры буйволов, сваленные в углу, сушеная рыба, куски копченого мяса, висевшие как попало под потолком вместе со связками сальных свечей; наполовину пустые бурдюки, топленое сало, вытекавшее из переполненных горшков на пол, гнилые циновки, служившие постелью для ямщиков, никогда не мытые стаканы и еще что-то небывалое, без облика, а главное, без названия.
Нужно было войти туда, ходить по этому грязному полу, на который не оказывал никакого воздействия мороз, дышать этим смрадным воздухом, запах которого не был определенным, а представлял собой смесь двадцати тошнотворных запахов; нужно было сидеть на этой соломе, а вернее, на этом гноище; нужно было преодолеть отвращение, победить чувство гадливости; нужно было заткнуть себе нос, закрыть глаза – короче, нужно было безбоязненно противостоять тому, что было куда хуже, чем опасность.
Прежде всего мы позаботились выяснить, каким образом здесь можно раздобыть лошадей или волов.
Хозяин заведения, который в своей одежде, покрытой кровавыми пятнами, напоминал мясника, вышел из-за прилавка и несколько раз пнул ногой какой-то бесформенный предмет, лежавший на земле.
Бесформенный предмет пошевелился, застонал, но почти сразу же впал в прежнюю неподвижность и затих.
Удары ногой стали сильнее, и после этого в полутьме обрисовался какой-то человек, покрытый лохмотьями: он встал на ноги, протер глаза и тем жалобным тоном, какой сопровождает неизбывное утомление и постоянную боль, спросил, чего от него хотят.
По-видимому, трактирщик сказал ему, что надо идти искать лошадей.
Мальчик – а это был мальчик – проскользнул под прилавком и, направляясь к двери, пересек круг света, отбрасываемого пламенем.
Это был очаровательный ребенок, бледный, исхудавший от страданий, исполненный той щемящей поэзии нищеты, о какой мы даже не имеем понятия в наших цивилизованных странах, где благотворительность, а если не благотворительность, то полиция, набрасывает свой покров на наготу, становящуюся чересчур безобразной.
Мальчик удалился, дрожа и охая: он был похож на воплощение жалобы.
Тем временем мы подошли к огню, тщетно пытаясь найти что-нибудь, на что можно было бы сесть. Мне вспомнилось, что у двери я натолкнулся на какое-то бревно; я подозвал Григория и Муане, втроем мы подняли его и подтащили к огню: оно и стало нашим сиденьем.
Через минуту мальчик вернулся, проскользнул под прилавком, занял свое прежнее место, свернулся, как еж, и снова заснул.
Вслед за ним пришли два человека.
Эти люди сдавали внаем лошадей.
Григорий, потолковав с ними минуту, передал нам их требования: сначала они запросили пятнадцать рублей за то, чтобы отправиться за телегой, но в конце концов сбавили цену до десяти рублей; я дал им пять рублей в качестве задатка, и они ушли, пообещав, что через два часа телега будет доставлена.
Было уже десять часов вечера.
Мы умирали с голоду; к несчастью, наша походная кухня находилась в телеге. Я бросил взгляд на все, что нас окружало: при одном виде того, что нам мог предложить хозяин, к горлу подступала тошнота. Лишь Григорий гордо противостоял этому чувству отвращения.
– Спросите у этого человека, есть ли у него картофель, – сказал я Григорию, – мы испекли бы его в золе. Это единственное, что я решусь съесть в этой смрадной берлоге.
Как выяснилось, картофель у хозяина был.
– Тогда пусть он нам его даст, – сказал я Григорию.
Григорий передал хозяину мою просьбу.
Трактирщик подошел к мальчику и снова пнул его ногой.
Ребенок поднялся, стеная и охая, затем проскользнул, как и в первый раз, под прилавком, скрылся в темных глубинах сарая и вскоре вернулся, держа в руке свою папаху, наполненную картофелем.
Он высыпал его у наших ног и снова пошел спать.
Положив несколько картофелин в горячую золу, я стал искать глазами место, где можно было бы к чему-нибудь прислониться и вздремнуть.
Муане сходил за лежавшей в санях старой бараньей шкурой, служившей нам покрывалом для ног, расстелил ее на земле, лег сверху, используя в качестве изголовья бревно, и тотчас уснул.
Григорий отыскал мостовой камень, прислонился ко мне спиной, и мы заснули, упершись друг в друга.
Существуют определенные положения, в которых, как бы вы ни были утомлены, долго не поспишь: уже через пятнадцать минут я проснулся. .
У меня есть счастливая для путешественника способность спать когда угодно и чувствовать себя отдохнувшим после любого сна, каким бы коротким он ни был.
Нередко после моих долгих ночных занятий, когда я остаюсь в постели лишь час или два, глаза мои закрываются, и, если я расположился у стены, голова моя откидывается на стену, а если я сижу за столом, голова моя опускается на стол.
И тогда, каким бы неудобным ни было это положение, какой бы угол ни принимало мое тело, я засыпаю на пять минут и по прошествии этих пяти минут просыпаюсь достаточно отдохнувшим, чтобы тут же снова приняться за работу; однако пословица «Кто спит, тот обедает» создана не для меня, ибо я почти всегда просыпаюсь голодным.
И потому с помощью кинжала я вытащил из золы пару картофелин: они уже испеклись; я попросил соли.
Трактирщик вновь пнул мальчика ногой, тот проснулся и, полусонный, принес мне кусок соли размером с орех; такой способ подавать соль имел то преимущество, что хотя бы в середине она была чистой.
Повсюду на Кавказе соль продают огромными кусками – в том виде, в каком ее извлекают из копей. Не знаю, куда идет огромное количество выварочной соли, которую добывают в соленых озерах; за исключением столов богатых людей, я повсюду видел здесь лишь каменную соль. Я съел четыре или пять картофелин, и мой голод немного притупился.
Наконец около двух часов ночи послышался звон бубенчиков; Григорий и я бросились к дверям, а Муане продолжал спать глубоким сном.
К постоялому двору подъехала наша телега, которую тащили восемь здешних лошадей; что же касается почтовых лошадей и ямщика, то никаких признаков их не было.
Как оказалось, этот болван Тимофей позволил ямщику выпрячь лошадей и уехать с ними, а сам остался один.
При свете дня его положение было неплохо, но с наступлением темноты он услышал завывания, становившиеся все ближе и ближе, а затем увидел, как в темноте светится что-то похожее на искры.








