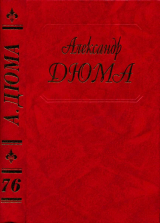
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц)
Annotation
Александр Дюма
XXVII. ШЕМАХА
XXVIII. ШАМИЛЬ, ЕГО ЖЕНЫ И ЕГО ДЕТИ
XXIX. ДОРОГА ИЗ ШЕМАХИ В НУХУ
XXX. КАЗЕННЫЙ ДОМ
XXXI. КНЯЗЬ ТАРХАНОВ
XXXII. НУХА: УЛИЦЫ, ЛЕЗГИНЫ, БАЗАР, СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА, СЕДЕЛЬЩИКИ, ШЕЛК, ПРОМЫСЛЫ, ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ
XXXIII. УДИНЫ. БОЙ БАРАНОВ. ТАТАРСКИЙ ТАНЕЦ И ТАТАРСКАЯ БОРЬБА. ПОСЛАННИК ОТ БАДРИДЗЕ
XXXIV. ОТЪЕЗД
XXXV. ЗАМОК ЦАРИЦЫ ТАМАРЫ
XXXVI. ТИФЛИС: О ТЕХ, КОГО ЗДЕСЬ ВЕШАЮТ
XXXVII. ТИФЛИС: О ТЕХ, КОГО ЗДЕСЬ ЕЩЕ НЕ ВЕШАЮТ
XXXVIII. ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ. БАЗАРЫ. СИРОТА
XXXIX. ПИСЬМО
XL. ЦИТАТЫ
XLI ПЕРСИДСКИЕ БАНИ
XLII. КНЯГИНЯ ЧАВЧАВАДЗЕ
XLIII. ПЛЕННИЦЫ
XLIV. КНЯЗЬ ИЛИКО ОРБЕЛИАНИ
XLV. ДЖЕМАЛ-ЭДДИН
XLVI. ТИФЛИС
XLVII ГРУЗИЯ И ГРУЗИНЫ
XLVIII ДОРОГА ОТ ТИФЛИСА ДО ВЛАДИКАВКАЗА
XLIX. ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА. ВОДОСВЯТИЕ
L. ТЕЛЕГА, ТАРАНТАС И САНИ
LI «УТКИ РЕКУ ПЕРЕПЛЫЛИ!»
LII ТИМОФЕЙ НАХОДИТ НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИМ СПИЧКАМ
LIII. СУРАМ
LIV. МОЛИТ
LV. КУТАИСИ, КУТАИС, КУТАТИС, ЭЯ
LVI. ДОРОГА ОТ КУТАИСА ДО МАРАНИ
LVII. СКОПЦЫ
LVIII. ДОРОГА ОТ МАРАНИ ДО ШЕИНСКОЙ
LIX. УСТЬЕ ФАЗИСА
LX. ПОТИ, СТАВШИЙ ГОРОДОМ И МОРСКИМ ПОРТОМ ПО УКАЗУ АЛЕКСАНДРА II
LXI. ГОСТИНИЦА АКОБА
LXII ПОТИЙСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
LXIII. ОХОТА И РЫБНАЯ ЛОВЛЯ
LXIV. НЕВОЛЬНИЧИЙ РЫНОК
КОММЕНТАРИИ
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Александр Дюма
Том семьдесят шестой
Путевые впечатления
Кавказ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
XXVII. ШЕМАХА
Одиннадцатого ноября по русскому стилю, или 23 ноября по нашему, отъехав примерно на восемь верст от Баку и обернувшись в экипаже, я окончательно простился с Каспийским морем.
Мы были решительно настроены преодолеть за день огромное расстояние, сто двадцать верст (а по кавказским дорогам дневной путь в тридцать льё – это огромное расстояние), и заночевать в Шемахе, древней Шема– хии.
На середине пути мы встретили офицера, который по приказу вице-губернатора Шемахи – губернатор был в Тифлисе – ехал нам навстречу в сопровождении конвоя.
На протяжении нескольких последних дней лезгины вновь стали спускаться с гор, так что для нас опять наступили прекрасные деньки Хасав-Юрта, Чир-Юрта и Кизляра.
Этот офицер, наделенный полной властью в отношении станционных смотрителей, заставлял их давать нам лошадей, невзирая на ночное время. Без него нам пришлось бы остановиться в шесть часов вечера, а вместо этого мы продолжали путь и в полночь прибыли в Шемаху.
Нас ожидал дом с горящим камином и зажженными свечами, освещавшими превосходные диваны, отличные ковры и ужин на столе.
После ужина меня провели в отведенную мне комнату. Там стоял письменный стол со стопкой бумаги, свежими перьями и открытым перочинным ножичком.
Даже те, кто знает меня двадцать лет, не распорядились бы лучше, а вернее сказать, так же хорошо.
Комнату украшали три картины: «Прощание в Фонтенбло», «Чумные в Яффе» и «Битва при Монтро».
Спал я не на кровати, как у Дондукова и Багратиона, а на прекрасном ковре.
На следующий день, на рассвете, нас посетил полицмейстер. Он пришел предложить нам свои услуги. Мне было заранее известно, что в Шемахе много всего любопытного, так что я попросил полицмейстера показать нам город, и мы вышли вместе.
Первое, что бросилось мне в глаза и показалось странностью, – это стадо баранов, пасшихся на крыше. Крыша была покрыта землей и представляла собой небольшую лужайку, на которой трава росла точь-в-точь как на улицах Версаля. Подстригали эту лужайку бараны.
Как они туда влезали и как оттуда спускались, я не имею понятия.
Город разделен на нижний и верхний.
Мало найдется городов, которым приходится страдать больше, чем страдает Шемаха.
На протяжении трех месяцев в году в нижнем городе свирепствует страшная лихорадка, от которой народ умирает. Чем выше люди поднимутся в гору, тем больше вероятности, что им удастся избежать этой болезни.
Однако невозможно избежать землетрясения. Шемаха никогда не знает сегодня, будет ли она существовать завтра.
Между лихорадкой и землетрясением лишь та разница, что лихорадка является перемежающейся, а землетрясение происходит почти беспрерывно.
Однако лихорадка и землетрясение не самые главные враги Шемахи: человек, вот что стало самым страшным из обрушившихся на нее бичей.
Шемаха являлась столицей Ширвана. Тогда это было богатое ханство, приносившее своему хану несколько миллионов дохода.
В то время в ней обитало сто тысяч жителей, а не десять, как теперь.
– Слыхал ли ты, – спросил я однажды Эль-Мокрани, арабского вождя, который среди племен, обитавших в окрестностях Алжира, слыл ученым, – о величественных древних городах, построенных из бронзы и гранита и именовавшихся Сузами, Персеполем, Вавилоном, Мемфисом, Баальбеком и Пальмирой?
– Веревка, поддерживающая мою палатку, – ответил он мне, – всего-навсего веревка, но она пережила их; вот все, что я о них знаю.
Невозможно лучше и короче выразить свою мысль: это прославление кочевой жизни и осуждение жизни оседлой.
Вольтер в своей «Истории Петра Великого», никуда не годном историческом сочинении посредственного историка, уверяет, что Шемахия была древней столицей Мидии и резиденцией того самого Кира, сына Камбиса и Манданы, который возвратил Персии независимость, одержал победу над мидянами, заставил побежденных провозгласить его царем, разбил Креза у Тимбры, овладел Сардами и всей Малой Азией, захватил Вавилон, отведя воды Евфрата от его русла, и, наследовав своему дяде Киаксару, оказался настолько могущественным, что он и его преемники стали именоваться великими царями.
В то время его держава включала в себя Вавилон, Сирию, Мидию, Малую Азию и Персию.
Как умер этот завоеватель? Как рухнул этот колосс? Ксенофонт говорит, что он скончался в глубокой старости и на руках своих детей. Геродот же, сын басни и отец истории, напротив, рассказывает, что, пытаясь захватить владения массагетской царицы Томирис, сына которой он убил, царь был взят ею в плен, и эта мать, играя роль античной Немезиды, в отмщение велела отрубить ему голову и собственноручно погрузила ее в чашу, наполненную кровью, говоря: «Насыться наконец кровью, ты, кто всю свою жизнь жаждал ее».
Если такое в самом деле было, то название Кир, данное древними Куре, вполне может служить историческим свидетельством в пользу высказывания Вольтера.
Д’Анвиль, более сведущий, чем автор «Философского словаря», и более определенный, чем Геродот, утверждает, что, как по своему географическому положению, так и по едва ли не полному сходству названий, Шемаха – мы отдаем предпочтение татарскому произношению ее имени – это древняя Камахия Птолемея.
Олеарий проезжал через этот город в 1645 году вместе с тем знаменитым гольштейнским посольством, секретарь которого сошел с ума, проведя всю ночь на ветви дерева и руководя с ее высоты собранием шакалов. В то время Шемаха пребывала во всем своем великолепии; будучи городом, через который провозили товары, она служила местом, где встречались Запад, Юг и Восток. К несчастью, вследствие какой-то ссоры русские купцы были перебиты жителями Шемахи. Это происшествие стало поводом к войне между Россией и Персией. Петр Великий двинулся на Шемаху, захватил город, опустошил его и превратил все его окрестности в руины.
Затем последовали вторжения, театром которых была Персия, междоусобные войны и чума, всегда требующая прав гражданства в гибнущих империях и рушащихся городах, так что в 1815 или 1816 году от процветавшего в древности населения Шемахи осталось примерно двадцать пять—тридцать тысяч душ.
И вот, видя все продолжающееся сокращение населения, столь частые землетрясения и столь злую лихорадку, последний хан принудил двадцать пять или тридцать тысяч жителей Шемахи покинуть развалины города и последовать за ним в крепость Фитдаг, своего рода орлиное гнездо, где, как он надеялся, ни один из только что названных нами врагов не сможет его достать.
Город в это время был совершенно заброшен; когда шевалье Гамба посетил его в 1817 году, ни одного потомка тех ста тысяч жителей, что видели вступление Петра I в Шемаху, не осталось в безмолвном и пустынном городе, где устроили себе жилище шакалы. Он отведал там барана, который обошелся ему в четыре франка и за которым пришлось посылать за восемь верст.
Однако в конце 1819 года хан, с вершины скалы Фит– дага еще беспокоивший Россию, был обвинен в подготовке заговора против нее и получил от генерала Ермолова приказание отправиться в Тифлис. То ли считая недостойным своего княжеского звания давать объяснения, то ли действительно чувствуя, что совесть его нечиста, хан бежал в Персию, оставив русским свое ханство, свою крепость и своих подданных.
И тогда генерал Ермолов позволил этим тридцати или тридцати пяти тысячам горожан вновь вступить во владение покинутым городом. Караван изгнанников вошел в его стены. Уцелевшие дома были заняты, а остальным предоставили возможность спокойно рушиться.
Но как ни сильно пострадал от всех этих бедствий город, еще больше пострадали окружавшие его плодоносные равнины, которые немец Гюльденштедт прежде видел засаженными виноградными лозами и покрытыми тутовыми деревьями. Не осталось ни одного дерева, на которое могла бы опереться виноградная лоза и питательная листва которого могла бы кормить драгоценных червей, чей продукт составляет сегодня почти единственное богатство Шемахи.
Мы осмотрели базар: он занимает целую улицу. Там продают ковры и шелковые ткани, примитивные по стилю, но очаровательные.
Я забыл сказать, что утром, поднимаясь из нижнего города в верхний, мы встретили возле развалившегося фонтана, рисунок которого сделал Муане, коменданта города. Он узнал, что мы приехали, и отправился за нами, чтобы пригласить нас к нему домой.
Нас ждали его жена и сестра: жена – молодая и хорошенькая, сестра – милейшая особа, уже в возрасте, очень хорошо говорящая по-французски.
Ну не забавно ли в полутора тысячах льё от Парижа жить в доме, который украшают картины, изображающие Монтро, Яффу и Фонтенбло, и завтракать в кругу русской семьи, говорящей по-французски?
Хозяева взяли с нас твердое слово вернуться к ним на обед, и мы, верные своему обещанию, в самом деле возвратились в их дом в три часа пополудни. Впрочем, комендант, г-н Охицинский, милейший человек, веселый и крепкий шестидесятилетний старик, все это время повсюду ходил с нами.
Пока мы гуляли по базару, нам поступило приглашение: самый богатый шемахинский татарин Махмуд-бек позвал нас на персидский ужин и вечер с баядерками.
Шемахинские баядерки сохранили определенную известность не только в Ширване, но и во всех кавказских провинциях.
Нам уже давно говорили об этих прекрасных жрицах, отправляющих одновременно два культа.
– Не забудьте увидеть баядерок в Шемахе, – напомнил нам князь Дондуков.
– Не забудьте увидеть баядерок в Шемахе, – напомнил нам Багратион.
– Не забудьте увидеть баядерок в Шемахе, – повторяли нам в Баку.
Баядерки – это то, что осталось от владычества ханов. Они были придворными танцовщицами.
К сожалению, подобно парсам в Баку, во всей Шемахе теперь лишь три баядерки: две женщины и один мальчик.
Четвертая, отличавшаяся необыкновенной красотой, покинула эти края вследствие одного происшествия, наделавшего много шуму в Шемахе.
Звали ее Сона.
В ночь с 1 на 2 марта лезгины пробрались в дом прекрасной Соны, чтобы обокрасть ее. Эта девица очень любила свое искусство, поэтому в полночь, вместо того чтобы спать, неутомимая танцовщица повторяла одно па, свое любимое па, в котором ей всегда сопутствовал наибольший успех. Репетитором выступал ее двоюродный брат по имени Наджиф Исмаил-оглы. При всей своей занятости хореографией молодые люди услышали какой-то необычный шум, раздававшийся в соседней комнате. Наджиф, человек весьма храбрый, бросился туда с кинжалом в руке; Сона услышала шум борьбы, а затем крик, в котором нельзя было ошибиться, – один из тех криков, какие испускает душа, покидая тело. Она в свою очередь бросилась в эту комнату, споткнулась о труп Наджифа и попала в руки четырех лезгин, один из которых был серьезно ранен.
Они схватили девушку и забрали у нее не только все драгоценности и дорогие вещи, какими она владела, но и ту одежду, что была на ней, оставив ей лишь рубашку и шальвары. Затем ее связали и, заткнув ей рот кляпом, бросили на постель.
На другой день дверь баядерки не отворилась.
Соседи прекрасно слышали шум и даже крики, раздававшиеся в доме красавицы Соны, но соседям баядерок несвойственно обращать особое внимание на такого рода подробности, имеющие отношение к дому, где порой танцуют всю ночь напролет. Тем не менее около одиннадцати часов утра эта дверь, по-прежнему остававшаяся запертой, стала их тревожить. Они дали знать полиции; дверь взломали. В первой комнате нашли Над– жифа, заколотого тремя ударами кинжала, а во второй – лежащую на постели Сону, связанную и с кляпом во рту.
Поскольку у Наджифа была отрезана правая рука, сразу же стало понятно, что убийство совершено лезгинами, имеющими обыкновение отрубать не головы, как это делают чеченцы и черкесы, что иногда, да почти даже всегда причиняет убийцам немало хлопот, а лишь руки, которые куда легче положить в карман.
Мы еще вернемся к этому обычаю лезгин и почти всех племен, живущих на южном склоне Кавказа, даже если эти племена, как тушины, являются союзниками русских и исповедуют христианство.
Едва Сона закончила давать полиции показания по поводу этого происшествия, как с улицы донеслись крики: «Лезгины! Лезгины!» В одно мгновение татарская милиция была на ногах.
Татарская милиция и лезгины напоминают собаку и кошку из той истории, какую я вам рассказывал: эти животные изображали турок и русских, и офицер, служивший на Кавказе, в часы досуга обучал их грызться между собой.
Татары вскочили на коней, схватив ружья, шашки и кинжалы, и, словно голодные ищейки, бросились преследовать своих смертельных врагов, которых они обнаружили в пещере горы Дашкесан, в версте от города. Один из лезгин, тот, что был тяжело ранен Наджифом, не смог добраться до пещеры, и именно он навел татар на следы его товарищей. Разбойники упорно защищались, потом произвели вылазку и оттеснили нападающих, но, тотчас получив в свою очередь отпор, вынуждены были укрыться в другой пещере, Кизе-Кала, в трех верстах от города.
Там началась осада, шедшая по всем правилам.
Она продолжалась шесть часов; десять или двенадцать милиционеров были убиты и ранены; наконец лезгины израсходовали все свои пули и порох, завязался бой
холодным оружием, затем последовал последний штурм, и разбойники были схвачены.
Все, что они похитили, было найдено при них или в первой пещере.
Однако известность, доставленная красавице Соне этим происшествием, сильно повредила ее репутации. Девушка имела в городе несколько репетиторов, и каждый из них полагал, что он один дает ей уроки. Но убийство двоюродного брата, случившееся в ее доме в столь поздний час ночи, не оставляло никакого сомнения в том, что благосклонность, так дорого стоившую бедному Наджифу, он делил с другими.
Опорочив себя, красавица Сона вынуждена была по собственной воле покинуть родные места. В одно прекрасное утро дверь ее дома опять, как и в первый раз, долго не открывалась; полиция явилась и отворила ее, но на этот раз дом был пуст; никто так и не узнал, что стало с Соной.
Но, поскольку труппа баядерок состояла из трех женщин, а число три везде, особенно в том, что касается персидского танца, является числом магическим и священным, красавицу Сону заменили мальчиком, переодетым в женское платье. Таким образом труппа вновь обрела полный состав, и, странное дело, эта перемена, вместо того чтобы повредить хореографическому зрелищу, оживило его и сделало еще более занимательным.
Какие же чудаки эти татары!
Вечер был назначен на восемь часов. В доме у г-на Охицинского с нас взяли слово, что, в каком бы часу ни кончился этот вечер, мы возвратимся в крепость, где нас ожидал бал, но не в персидском духе, а во французском. Госпожа Охицинская, будучи попечительницей учебного заведения для девочек, в нашу честь отпустила с занятий всех своих пансионерок, а чтобы память обо мне еще крепче запечатлелась в головках этих очаровательных пятнадцатилетних созданий, устроила для них вечерний бал.
Как видите, мне оказали все полагающиеся важным персонам почести, включая даже выходный день в учебных заведениях!
Мы явились к Махмуд-беку. Он владел самым очаровательным персидским домом, какие мне довелось увидеть от Дербента до Тифлиса, а кое-какие из них я видел, не говоря уж о тифлисском доме г-на Аршакуни, откупщика тюленьего и осетрового промыслов на Каспии, который уже потратил на постройку своего дома два миллиона рублей, а тот все еще не завершен.
Мы вошли в чисто восточного стиля гостиную, о строгости и одновременно богатстве убранства которой перо бессильно дать представление. Все гости возлежали на атласных подушках с золотыми цветами, заключенных в тюлевые чехлы, что придавало самым ярким краскам размытость и бесконечную мягкость; в глубине, вдоль всего огромного окна изящнейшей формы, сидели ожидавшие нас три танцовщицы и пять музыкантов.
Понятно, что аккомпанировать столь самобытному танцу должен особый оркестр.
Внешность одной из двух танцовщиц была довольно заурядна; другая же, наверное, много лет тому назад отличалась необычайной красотой. Ее красота была похожа на избыточно пышную красоту осенних цветов, и сама она очень напоминала мне мадемуазель Жорж в те времена, когда я с ней познакомился, то есть в 1826 или в 1827 году.
В этом сравнении вполне можно было бы пойти и дальше: ее счел красивой даже император; однако в этом отношении преимущество находится на стороне мадемуазель Жорж, которую сочли красивой два императора и несколько королей.
Правда, мадемуазель Жорж много путешествовала, а красавица Ниса, напротив, никогда не покидала Шемаху.
Так что в одном случае гора пришла к пророкам, а в другом – пророк пришел к горе.
Как и все восточные женщины, Ниса была сильно накрашена: ее брови сходились у переносицы, словно две темные великолепные арки, под которыми блестели восхитительные глаза. Правильной формы нос, исключительно изящный по своим очертаниям, разделял ее лицо и с безукоризненным равновесием зижделся на маленьком ротике с чувственными губами, красными как коралл и скрывавшими ровные и белые как жемчуг зубы.
Пышные пряди черных волос яростно выбивались из-под ее маленькой бархатной шапочки.
Сотни татарских монет опоясывали шапочку, словно золотоносная река, а затем каскадами ниспадали по волосам, осыпая плечи и грудь новоявленной Данаи золотым дождем.
Ее наряд составляли длинные покрывала из газа, жакет из шитого золотом красного бархата и платье из белого узорчатого атласа.
Ног ее видно не было.
Вторая баядерка, уступавшая ей в красоте и в представительности, уступала ей и в наряде.
Меня вовремя предупредили, так что я распознал в третьей баядерке мальчика; без этого предупреждения я вполне мог бы остаться в заблуждении, ибо внешне он походил на чрезвычайно красивую юную девушку.
Музыканты подали сигнал.
Оркестр состоял из барабана, поставленного на железные ножки и напоминавшего разрезанное пополам исполинское яйцо;
из бубна, весьма похожего на наш;
из флейты, походившей на античную тибию;
из небольшой мандолины с медными струнами, на которой играют пером;
и наконец, из стоявшего на железной ножке чон– гура, гриф которого поворачивается в левой руке музыканта, так что в данном случае струны ищут смычок, а не смычок ищет струны.
Все это производило бешеный шум, не слишком мелодичный, но, тем не менее, довольно своеобразный.
Первым поднялся мальчик и, держа в руках медные кастаньеты, начал танцевальное представление.
Он имел большой успех у татар и персов, то есть у большинства собравшихся.
Затем настала очередь второй баядерки.
Потом поднялась Ниса.
Восточный танец везде один и тот же. Я видел его в Алжире, Константине, Тунисе, Триполи, Шемахе. Это всегда более или менее быстрое топтанье на месте и более или менее подчеркнутое движение бедер – как мне показалось, оба эти приема были доведены у красавицы Нисы до совершенства.
У меня достало нескромности попросить, чтобы был исполнен танец пчелы, но мне ответили, что он исполняется лишь в узком интимном кругу.
Я взял назад свое предложение, которое, впрочем, явно ничуть не оскорбило Нису.
Танцевальное представление было прервано ужином. Самым причудливым из поданных блюд был пилав из цыпленка и гранатов, заправленный сахаром и салом.
Несчастье всех кухонь, за исключением французской кухни, состоит в том, что все в них, видимо, делается по воле случая. Одна лишь французская кухня является продуманной, сложной и научной.
Кухня, как и гармония, имеет свои общие законы. Лишь варварские народы не знают и не используют наши музыкальные законы.
По моему мнению, самая дикая из всех музык – калмыцкая. Но самая ужасная из всех кухонь – русская, поскольку, внешне цивилизованная, она имеет варварскую основу.
Русская кухня не только ничего не приоткрывает заранее, но к тому же еще все утаивает и обезображивает.
Вы полагаете, что надкусываете мясо, а это оказывается рыба; вы полагаете, что надкусываете рыбу, а это оказывается каша или крем.
Ученый Греч составил грамматику русского языка, до Греча обходившегося без грамматики.
Мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь гастроном, стоящий на уровне Греча, составил словарь русской кухни.
После ужина, во время которого вино всех сортов лилось рекой, но хозяин дома и несколько строгих блюстителей закона Магомета не пили ничего, кроме воды, танцевальное представление возобновилось.
Однако должен сказать, что оно не выходило за пределы самых строгих правил приличия.
Я видел в Париже балы с нотариусами, куда более оживленные, когда на них приходят в три часа утра после позднего ужина, чем наш бал с баядерками в Шемахе.
Правда, в Париже все пьют вино, даже гурии.
В полночь мы вернулись к коменданту; бал уже начался, но шел вяло: за исключением двух безбородых кавалеров, девицы танцевали одна с другой.
Мы привели с собой пять или шесть кавалеров, в том числе красивого грузинского князя, брата отсутствующего губернатора.
Мало того что грузины, по моему мнению, самые красивые мужчины на свете, у них еще и наряд восхитителен.
Он состоит из остроконечной черной бараньей шапки, острый верх которой заправляют внутрь: по форме она напоминает персидскую шапку, но наполовину ниже ее;
из доходящей до колен чохи с открытыми висячими рукавами, застегивающимися у запястья;
из шитого золотом атласного бешмета, складчатые рукава которого выходят из открытых рукавов чохи;
из широких шелковых шаровар, которые заправлены в прекрасно соответствующие всему наряду сапоги с загнутым кверху носком и с украшениями из бархата и золота.
На нашем грузинском князе была чоха гранатового цвета, подбитая светло-голубой тафтой; белый атласный бешмет, обшитый золотым позументом, и шаровары неопределенного цвета – среднего между сизым и цветом палой листвы.
Стан его стягивал пояс с золотой чешуей, а на этом поясе висел кинжал в серебряных ножнах, украшенных золотой насечкой, и с инкрустированной золотом рукояткой из слоновой кости.
А ко всему этому черные как смоль волосы и брови, черные глаза, по-женски нежный цвет лица и сверкающие белизной зубы.
Князь рекомендовал нам своего дядю и своего двоюродного брата, живущих в Нухе. Впрочем, они уже были нам рекомендованы раньше.
Этим дядей был полковник князь Тарханов, управитель Нухи, гроза лезгин, а этим двоюродным братом – князь Иван Тарханов. Багратион, напомним, уже говорил нам и о том, и о другом.
В три часа утра я выскользнул из зала в переднюю, а из передней – на улицу.
Едва оказавшись там, я пустился бежать, опасаясь, что меня догонят, и остановился лишь у своего казенного дома.
Уже давно мне не случалось возвращаться с бала в три часа утра.
Что же касается Шемахи, то, полагаю, она в первый раз видела столь припозднившегося европейца.
XXVIII. ШАМИЛЬ, ЕГО ЖЕНЫ И ЕГО ДЕТИ
Убегая с подобной поспешностью, я бежал, разумеется, не из дома, где мне оказали такой хороший прием, и не от хозяев, к которым у меня сохранилась глубокая признательность; просто мне как старейшине нашей путешествующей компании следовало думать о том, как сложится у нас следующий день.
Дело в том, что выехав на рассвете следующего, а точнее, уже этого дня, безжалостно погоняя лошадей и всевозможными способами подбадривая ямщиков, мы вполне могли прибыть в Нуху к ночи.
Но человек предполагает, а Бог располагает.
Как только я вошел в свою комнату, в дверь ко мне постучали. Я вспомнил о лезгинах красавицы Соны, рассудив, что только им могла прийти в голову мысль нанести мне визит в столь позднее время.
Я схватил кинжал, бросил взгляд на карабин и стал ждать.
Но оказалось, что это был наш комендант, который, заметив мое исчезновение, бросился вслед за мной.
Он пришел, чтобы от имени своей жены и своей сестры обратиться ко мне с просьбой не уезжать утром, не позавтракав с ними. Я стал отнекиваться, говоря о своем желании прибыть в Нуху в тот же вечер, но он взял верх над всеми моими возражениями, заявив, что ему хочется познакомить меня за завтраком с офицером, побывавшим в плену у горцев и способным дать мне точные и неоспоримые сведения о Шамиле, которого он видел собственными глазами.
Не уступить такому искушению было невозможно.
Но кроме этого искушения, появилось еще одно: Махмуд-бек, которому я говорил о своей страсти к соколиной охоте, потихоньку предупредил об этом губернатора, и тот пожелал предоставить мне на следующий день двух лучших своих сокольников и двух лучших своих соколов. В двадцати верстах от Шемахи нам предстояло проехать через местность, где фазанов и зайцев водилось больше, чем где-либо еще во всем уезде; там мы могли остановиться и поохотиться пару часов.
Наш достойнейший и милейший комендант не знал, что бы такое придумать, чтобы удержать нас еще на день.
Однако меня грызли сомнения.
Я выставил возражением против этого плана, весьма, признаться, меня привлекавшего, желание Муане прибыть в Тифлис как можно скорее, но комендант ответил мне, что с Муане уже все улажено.
После этого все мои возражения иссякли. Мы условились позавтракать в девять часов, выехать в одиннадцать и поохотиться с часу до трех.
Так что в этот день нам предстояло удовольствоваться ночевкой в Турианчае.
В девять часов утра мы были у коменданта. Там уже находился обещанный нам русский офицер: это был человек лет сорока—сорока пяти, прекрасно говоривший по-французски.
Взятый в плен около Кубы, он был уведен в горы и доставлен к Шамилю. Сначала за него потребовали выкуп в двенадцать тысяч рублей, но в конце концов снизили цену до семи тысяч.
Семейство и друзья офицера собрали три с половиной тысячи рублей, а граф Воронцов, в ту пору наместник Кавказа, добавил остальное.
На протяжении пяти месяцев, пока длился его плен, офицер видел Шамиля примерно два раза в неделю.
Вот что он рассказал нам об имаме.
Шамилю теперь, должно быть, от пятидесяти шести до пятидесяти восьми лет. Поскольку у мусульман не принято вести записи актов гражданского состояния и они считают свои годы лишь приблизительно, полагаясь на воспоминания о важных событиях своей жизни, Шамиль, как и все другие, сам не знает своего возраста.
На вид ему нельзя дать больше сорока.
Это человек высокого роста, с кротким, спокойным, внушительным лицом, главная особенность которого – застывшая на нем грусть. Тем не менее понятно, что если мускулы этого лица напрягутся, то оно способно приобрести выражение самой мощной энергии. Бледный цвет лица подчеркивает резко обозначенные брови и темносерые, почти черные глаза, которые он по обычаю восточных людей или отдыхающего льва держит полузакрытыми; у него рыжая борода, заботливо приглаженная и позволяющая увидеть ярко-красные губы, а между ними – ровный строй зубов, мелких, белых и острых, как у шакала; его руки, о которых он явно очень заботится, – небольшие и белые; походка у него медленная и степенная. С первого взгляда в нем угадывается человек выдающийся, в нем чувствуется вождь, рожденный повелевать.
Его обычный наряд составляет черкеска из зеленого или белого лезгинского сукна. На голове он носит папаху из белой как снег овчины. Папаха обвита тюрбаном из белого муслина, конец которого свисает сзади. Верх папахи покрыт красным сукном с черной кисточкой. На ногах он носит чулки-ноговицы, плотно облегающие икры; мы вынуждены воспользоваться этим русским словом, поскольку слово «гетры» далеко не полностью передало бы нашу мысль; остальная часть его обуви сделана из красного или желтого сафьяна. В очень холодную погоду он надевает поверх этого наряда суконную шубу ярко-малинового цвета, подбитую черной овчиной.
По пятницам, то есть в дни, когда все торжественно идут в мечеть, он облачается в длинное белое или зеленое платье; остальная часть его наряда остается прежней.
Он с необычайным изяществом сидит верхом на коне и с беспечностью, способной вызвать головокружение у самых решительных людей, преодолевает труднейшие пути. Отправляясь в поход, он вооружается кинжалом, шашкой, двумя заряженными и взведенными пистолетами, а также заряженным и взведенным ружьем.
Двое из мюридов имама следуют по обе стороны от него, и каждый из них имеет при себе два пистолета и ружье, заряженные и взведенные; если одного из этих мюридов убьют, его место занимает новый.
Шамиль отличается чрезвычайно высокой нравственностью и не терпит вокруг себя никаких слабостей. Рассказывают историю, подтверждающую сказанное.
Одна вдова-татарка, которая не имела детей и, следовательно, вольна была сама распоряжаться собой, жила с лезгином, обещавшим на ней жениться. Она забеременела; Шамиль узнал об этом, удостоверился, что такое на самом деле произошло, и велел отрубить голову обоим.
Я видел у князя Барятинского, наместника Кавказа, топор, использовавшийся для этой казни: его захватили во время последнего похода.
Воздержанность Шамиля в еде доходит до невероятности. Всю его пищу составляют пшеничный хлеб, молоко, фрукты, рис, мед и чай. Мясо он ест крайне редко.
У Шамиля три жены. У него была и четвертая жена – мать его старшего сына Джемал-Эддина, но, когда во время осады Ахульго в 1839 году ребенок был захвачен русскими, мать умерла от печали.
Звали ее Фатимат.
Помимо Джемал-Эддина, у имама остались от нее другие дети: второй сын Гази-Мохаммед, которому теперь может быть от двадцати трех до двадцати четырех лет; пятнадцатилетний Мохаммед-Шефи, четырнадцатилетняя Нафисат и, наконец, младшая дочь, двенадцатилетняя Фатимат, названная по имени матери.








