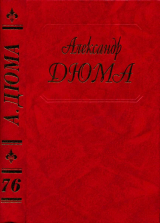
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
И тогда он понял, что настало то время суток, какое у нас называется часом между собакой и волком; однако никаких собак тут не было, зато были волки.
Тимофей стал искать, не оставили ли мы ему какое– нибудь оружие; но у нас теперь было всего лишь три ружья, и мы взяли с собой все три.
Волки долго не решались приблизиться к телеге: эта груда с ее непонятной формой беспокоила их; наконец один из них рискнул подойти ближе и сел на задние лапы в двадцати шагах от Тимофея.
При виде этого Тимофей взобрался на самый верх телеги.
Как только он начал двигаться, волк обратился в бегство.
Но, видя, что всякое движение прекратилось, и не слыша никакого шума, волк успокоился: вместо того чтобы остановиться, как прежде, в двадцати шагах, он остановился в десяти.
Тогда Тимофей бросил в него свою папаху, и волк во второй раз пустился наутек.
Однако это был упрямый волк, и он снова пошел в атаку.
Тимофей поискал, что можно еще в него бросить, и заметил нашу походную кухню.
Для начала он бросил в волка крышку, затем рашпер, затем кастрюлю, затем сковороду и, наконец, тарелки; но волк каждый раз возвращался и, казалось, говорил своим собратьям:
«Вы же видите, что это пустяки; делайте, как я, и идите за мной».
И волки, начиная успокаиваться при виде спокойствия своего собрата, стали подбираться все ближе и ближе; у Тимофея осталось только два метательных снаряда: котелок и половник.
Вместо того чтобы кинуть и их тоже, что окончательно обезоружило бы его, он ударил один об другой.
При этом шуме волки обратились в бегство, но, будучи сообразительными зверями, они убежали недалеко, так как им было понятно, что этот шум вовсе не опасен; поэтому через четверть часа они появились перед Тимофеем снова, причем в гораздо большем количестве и настроенные, по крайней мере так могло показаться, довести на этот раз дело до конца.
Тимофей понял, что если ему не удастся видоизменить способы обороны, то он погиб; волки, неспособные, несмотря на свои превосходные глаза, видеть сквозь его тулуп и три его шинели, никоим образом не могли догадаться, что они имеют дело всего лишь со скелетом, и стали подходить все ближе и ближе.
И тогда в тупом мозгу Тимофея промелькнула светлая мысль.
Он имел при себе фосфорную зажигалку, до отказа набитую спичками.
Бросив в волков половник и котелок, он вытащил ее из кармана.
Спичка загорелась, издавая потрескивание, и ярко вспыхнула.
Волки отбежали назад, но вскоре опять вернулись.
Тимофей зажег вторую спичку, потом третью, четвертую; каждый раз, когда он приостанавливал это занятие, волки приближались на один шаг; он зажигал спичку, и волки останавливались.
Это продолжалось целый час.
Когда нанятые нами ямщики показались на вершине косогора, спички у Тимофея подходили к концу.
Так что ямщики прибыли вовремя.
Услышав звон бубенчиков, топот лошадей и крики ямщиков, волки разбежались.
Ямщики думали, что они найдут Тимофея замерзшим, а он был весь в поту.
Он рассказал им, что с ним приключилось; ямщики вместе с ним стали отыскивать принадлежности нашей кухни и в конце концов нашли их все.
Однако два жареных цыпленка, на которых я рассчитывал, исчезли. Без сомнения, Тимофей впопыхах бросил их в волков вместе со всем остальным, и волки проглотили эти метательные снаряды.
Мы полагали теперь ненужным предупреждать Тимофея, чтобы впредь он не позволял ямщикам выпрягать своих лошадей и уезжать с ними.
Однако будущее доказало нам, что мы ошиблись.
LIII. СУРАМ
Тимофей приехал, Тимофей был спасен от волков, но Тимофей, спасенный от волков, приехал с лошадьми и с ямщиками, которых мы к нему послали, так что наша телега осталась без всякой конной тяги.
Я поинтересовался у тех, кто привез Тимофея и телегу, сколько они возьмут за то, чтобы доставить ее до ближайшей станции.
Они запросили восемь рублей.
С десятью рублями, которые я им уже дал, это составляло восемнадцать рублей, то есть семьдесят два франка за одну станцию, не считая четырех рублей, уже данных мною станционному смотрителю в Гори.
Это показалось мне дороговато, и я отказался.
Было решено, что Тимофей подождет здесь с телегой, а я пришлю за ним лошадей, как только мы приедем на ближайшую станцию.
Оставалось рассчитаться с хозяином.
Я съел пять картофелин; что же касается моих спутников, то они не съели ничего.
Трактирщик потребовал пять рублей. То есть стоимость картофеля оценивалась им в четыре франка за штуку.
Это было дороже лошадей.
– Предложите ему рубль, – сказал я Григорию, – но не за пять съеденных нами картофелин, а за пять часов, проведенных нами под его крышей; на его выбор: рубль или взбучка плеткой.
Хозяину трудно было принять решение, но в конце концов он решился на рубль. Этот добрый малый смотрел на нас весьма недружелюбно, и я боюсь, что он расправился бы с тем из нас, кто без оружия попал бы к нему в руки; однако с нашими двуствольными ружьями и кинжалами мы были ему не по зубам.
Так что он даже не попытался кусаться.
Мы уже сели в сани и готовы были отъезжать, как вдруг местные ямщики одумались: они предложили доставить телегу до ближайшей станции за пять рублей.
Мне надоело спорить, и я согласился на пять рублей, но предупредил ямщиков, что заплачу им только по приезде.
Это отсутствие доверия ничуть, по-видимому, их не оскорбило.
В телегу запрягли пять лошадей, как я того потребовал. Затем разбудили Тимофея, уже уснувшего возле очага, заставили его сесть в телегу и объявили ему, что на этот раз и впредь ему предоставляется честь следовать в авангарде.
Тимофей никоим образом не возражал; у него был только один недостаток, по крайней мере с моей точки зрения, ибо я не хочу ставить ему в вину те недостатки, за какие его мог бы упрекнуть кто-нибудь другой: он был чересчур вял.
Было около четырех часов утра, и нам оставалось проехать двенадцать верст. Мы начали до такой степени свыкаться с опасностью, что даже не поинтересовались, хорошая впереди дорога или плохая.
Нам повезло: она оказалась хорошей.
Мы прибыли на станцию в семь часов утра.
Лошадей нет!
Но как это может быть в семь часов утра, да еще когда на дорогах лежит целый метр снега?!
Не вдаваясь ни в какие объяснения, я вместо моей подорожной – да будет всем известно, как станционные смотрители в России ценят два казенных штемпеля, – показал почтмейстеру плетку.
В Гори я нарочно открыл чемодан, чтобы достать оттуда плетку, которую мне подарил князь Тюмень и которой он однажды убил одним ударом голодного волка, прыгнувшего к горлу его лошади.
(Призываю тех моих читателей, кто пожелал бы путешествовать по России, обратиться ко мне за описанием образца такой плетки: я доставлю себе удовольствие, создав известность этому орудию.)
После этого лошади словно выросли из-под земли.
Удивительная страна, где все знают о существовании подобного злоупотребления и где никто не устраняет его.
В десять часов мы были в деревне Сурам.
– Лошадей!
– Их тут нет.
– Дорогой друг, – сказал мне Муане, – наденьте какой-нибудь орден, хоть на шею, иначе мы никогда не доедем.
Вот еще одна печальная истина, но это так.
Я открыл чемодан, где хранились ордена, как перед этим открыл чемодан, где лежала плетка, первое из двух великих действенных средств, прицепил к петлице орден Карла III и повторил свое требование.
– Сию минуту, генерал, – произнес, обращаясь ко мне, станционный смотритель.
Через полчаса два наших экипажа были запряжены.
К несчастью, саней на станции не оказалось.
Я заметил на крыше какие-то сани, но в ответ на мой вопрос почтмейстер привел довольно правдоподобный довод, что если бы они на что-нибудь годились, то не валялись бы на крыше.
Мы тронулись в путь и час спустя миновали деревню Сурам, которая увенчана, как и Гори, величественной крепостью, лежащей в развалинах, а затем подъехали к началу подъема в гору.
К этому времени только одни сани отважились преодолеть перевал: это были сани офицера, отправленного с депешами в Кутаис и позаимствовавшего у меня тулуп.
Он выехал накануне утром.
Борозды, оставленные его санями, оказались полностью занесены снегом, падавшим всю ночь, но видны были следы тех путников, что ехали верхом.
Мы двинулись в гору, придерживаясь этих следов.
После того, что нам рассказывали о трудностях Сурам– ского перевала, подъем показался мне сначала не только легким, но и приятным. Это был довольно пологий склон, не имевший обрывов ни слева, ни справа и тянувшийся всего лишь на четыре версты.
После часового подъема, оказавшегося, по правде говоря, не слишком трудным, мы достигли вершины горы; я дважды попросил обнадежить меня в этом, поскольку не мог поверить в такой успех.
– Но тогда, – обратился я к ямщику, – нам остается лишь спуститься вниз?
– Совершенно верно, – ответил он.
Я взглянул на Муане:
– Итак, вот этот знаменитый Сурам, этот непреодолимый Сурам, с чем я и поздравляю Фино.
– Подождите, – сказал мне Муане, – мы еще не у цели.
– Но вы ведь слышали, что нам осталось лишь спуститься.
– Конечно, но спуск спуску рознь.
– Прежде всего есть спуск в Ла-Куртиле.
– А есть еще спуск в ад.
– Ну, этот-то не труден, ведь Вергилий говорит: «Facilis descensus Averni[16]».
– Как вам угодно; но что-то подсказывает мне, что Фино был прав, а Вергилий ошибся.
– Полноте, вы упрямитесь.
– Вспомните о господине Мюррее и его шестидесяти волах.
– Ах, друг мой, эти англичане так чудаковаты! Ему, наверное, сказали, что с тридцатью волами затрачивают четыре часа на то, чтобы преодолеть Сурам, и он взял их шестьдесят, чтобы потратить на этот переход всего лишь два часа.
Должен сказать, что первые три версты, проделанные нами, будто бы подтверждали мою правоту, но затем с левой стороны стал открываться небольшой овраг, а склон начал понемногу становиться круче; овраг делался все глубже, а склон превращался в ледяную горку. Впереди виднелись верхушки деревьев, по которым, казалось, должны были проехать наши сани; потом дорога круто повернула направо и благодаря ее уклону мы увидели дно оврага, незаметно превратившегося из пропасти в бездну. В глубине этой бездны катился горный поток: то был один из истоков Квирилы. Было очевидно, что мы окажемся у подножия Сурама лишь тогда, когда будем находиться на одном уровне с этим ручьем, а до ручья было далеко. У нас был превосходный возница, но он имел дурную привычку бить лошадей, а его лошади, в свою очередь, имели дурную привычку бросаться в сторону, когда их били. Его подседельная лошадь, которую он ударил между ушей кнутом, отскочила в сторону, вследствие чего и лошадь, и возница скрылись по пояс в снегу.
Поистине, что бы ни говорил г-н де Граммон, но есть Бог и для возниц, бьющих своих лошадей: сначала из снега показалась голова нашего возницы, затем появились его плечи, затем грудь. В руках у него был повод, который он тянул за собой, а вслед за поводом показалась и лошадь. Падая, они остановились в полушаге от пропасти.
– Ничего, ничего, – произнес ямщик, снова взбираясь на лошадь.
Это означало, чтб все это пустяки.
– Объясните ему, – сказал я Григорию, – что такое, возможно, пустяки для него, но вовсе не для нас.
Однако это предупреждение явно показалось напрасным нашему ямщику, ибо он поехал быстрее, чем прежде; правда, его лошадь, обладая меньшим упрямством, чем он, и пользуясь опытом, которым не хотел воспользоваться человек, уже не бросалась в сторону, несмотря на удары, которые она продолжала получать.
Впрочем, такое стремительное движение обладало тем достоинством, что, если бы случилась лавина, она не успела бы нас догнать.
Но вот что представлялось нам поразительным, так это то, что, чем ниже мы спускались с подобной скоростью, тем больше дорога, казалось, углублялась в недра земли.
После нашего отъезда из Тифлиса мы, сами того не замечая, непрестанно поднимались в гору и вот теперь, достигнув спуска с Сурамского перевала, должны были оптом вернуть то, что брали в розницу.
Спуск длился целых два часа; в течение этих двух часов мы видели перед собой лишь вершины деревьев; наконец, нашего слуха достиг шум ручья: это означало, что мы приближаемся ко дну долины; сани, которые с самой вершины перевала приобрели тот же наклон, что и скат, угрожая при малейшем толчке выбросить нас шагов на десять вперед, вернулись в устойчивое положение, и мы в течение нескольких минут катились параллельно горному потоку.
Мы перевели дух.
В этот момент послышались три ружейных выстрела, весьма напоминавшие пушечные; если бы дело происходило на море, я бы подумал, что это просит о помощи какой-нибудь корабль.
Внезапно мы заметили нечто вроде гимнастической площадки – признаться, при этом зрелище я расхохотался: что за черти, гномы, духи вздумали заниматься гимнастикой в подобном месте?
Возвышение, через которое мы переехали, позволило нам увидеть какую-то деревню, скрытую в складке местности.
Однако, если говорить точнее, мы увидели не деревню, а двери домов; что же касается самих домов, то они были полностью занесены снегом.
Перед каждой дверью были вырыты проходы, сообщавшиеся со своего рода улицей.
Я, вполне естественно, подумал, что это почтовая станция.
Но это была деревня Ципа, отстоявшая от станции на пятнадцать верст.
Наша телега сильно пострадала при спуске, она опрокидывалась дважды, а поскольку мне сказали, что тот участок дороги, который нам осталось проделать, будет еще хуже, я велел ямщикам перейти в арьергард и ехать тихо; от них требовалось лишь одно: присоединиться к нам на другой день утром.
Ну а нам предстояло ехать впереди.
Тем временем поднялся ветер, и начал падать снег.
Я не очень-то понимал, каким образом дорога, которую нам осталось проделать, может быть хуже той, которую мы уже проделали, но если нам сказали правду, то было вполне вероятно, что мы никогда не доберемся до станции.
Мы снова отправились в путь.
Ручей занимал почти все дно ущелья, и дорога, оставленная им для путников, которые никак не могли сравняться с ним в скорости, была шириной не более саней. Это было бы еще ничего, если бы оставалась возможность ехать бок о бок с ним, но соседние скалы требовали свою долю места; в итоге дорога беспрестанно шла то вверх, то вниз, словно спина верблюда; прибавьте к этому ручьи, низвергавшиеся с горы, чтобы слиться с тем горным потоком, что катил по дну ущелья, ручьи, проложившие себе путь под снегом и оставившие поверхность нетронутой, а потому обманчивой, – и вы немного приблизитесь к представлению, которое можно составить себе о той страшной дороге, по какой мы ехали в темноте, при ветре, способном свалить с ног если и не вола, то буйвола, и при снеге, мешавшем видеть в десяти шагах перед собой.
Всякий раз, когда мы переезжали по одному из шатких мостов, переброшенных над ручьями, снежный покров оказывался глубже и сани проваливались в яму. И тогда, чтобы вытащить их оттуда, лошадям приходилось прилагать невероятные усилия. Они делали пять или шесть шагов почти по отвесному склону, и во время такого восхождения нам удавалось удерживаться на нашей поклаже лишь с помощью приемов, способных сделать честь самым искусным эквилибристам.
На середине подъема мы встретили солдат.
Они обменялись несколькими словами с нашими ямщиками, которые затем повернулись в нашу сторону и сказали:
– Солдаты уверяют, что дальше ехать нельзя.
– А почему нельзя?
– Три громких звука, которые недавно послышались, были взрывами минных зарядов, а не ружейными выстрелами.
– А зачем взрывали минные заряды?
– Чтобы расширить дорогу.
– Что ж, раз дорога теперь шире, она, естественно, стала и легче.
– Легче она будет завтра или послезавтра.
– А почему не сегодня?
– Потому что тогда она будет расчищена.
– Стало быть, она еще не расчищена?
– Нет, они не могли продолжать работу: там, наверху, был слишком сильный ветер.
– Ну и что вы советуете?
– Мы советуем вернуться в деревню и ждать, пока дорога не станет свободной.
Я бросил взгляд на место, где мы остановились:
– Скажите им, что я не имею ничего против, если только они сумеют развернуться.
Григорий передал мой ответ ямщикам; но случилось то, что я и предвидел: дорога была такая узкая и такая обрывистая, что лошадям не удавалось развернуть сани в обратную сторону.
– Вот видите, нам придется ехать вперед, – сказал я Григорию. – А потому: пошел, пошел!
Ямщикам поневоле пришлось по-прежнему идти вперед.
Мы поехали шагом, но так медленно, что два горца, вышедшие одновременно с нами из Ципы, догнали нас и шли позади наших саней.
На вершине подъема путь нам преградил обвал; здесь дорога перестала быть ровной и превратилась в насыпь, наклоненную в сторону пропасти. Днем, в хорошую погоду, когда видно, куда ставить ноги, тут, в крайнем случае, еще можно было бы пройти; но ночью, при страшном ветре, при снеге, хлеставшем вам в лицо, от этого могла закружиться голова.
Горцы, следовавшие за нами, явно шли расчищать дорогу; у них были с собой заступы.
– Спросите этих славных малых, – сказал я Григорию, – не могли бы они проложить нам здесь нечто вроде рва.
Григорий задал им этот вопрос; они ответили утвердительно и тотчас же принялись за дело.
Я приподнялся на цыпочках: обвал был шириной метров в двенадцать.
– Работы им тут до завтрашнего дня, – сказал я Муане, – так что пойдем пешком, а сани с пятью лошадьми как-нибудь проедут.
– Хорошо, пойдем пешком.
Мы преодолели препятствие, уцепившись за корни деревьев, чтобы не соскользнуть в сторону пропасти и устоять против ветра, который, казалось, поспорил сам с собой, что он не даст нам пройти.
Но если ветер в самом деле поспорил, то он проиграл: мы прошли.
Настала очередь саней.
На их сторону, противоположную пропасти, навалились два наших славных горца, и сани тоже прошли.
– Сколько еще верст до станции? – поинтересовался я у ямщиков.
– Десять.
– Вот что, дорогой Муане, поезжайте, если вам угодно, в санях, а я пройду эти десять верст пешком.
– Идите без меня: я устал.
– Тогда садитесь в сани, а я пошел; будьте покойны, я пойду так же быстро, как сани.
Муане забрался в сани.
Не проехав и ста шагов, он вдруг на глазах у меня подскочил, словно волан, подброшенный ракеткой.
После этого я его уже не видел.
На пути у саней оказался один из тех ручьев, о каких я уже говорил, и, поскольку рядом с Муане больше не было меня, чтобы его удержать, он был выброшен из них, словно катапультой, и упал на четвереньки в воду. Я услышал одновременно его смех и брань, и это меня успокоило.
– Ну что, вы опять сядете в сани? – спросил я его.
– Пожалуй, нет, – сказал он, – с меня довольно. Идемте.
Мы шли, но при этом на каждом шагу увязали в снегу высотой в полметра.
Пройдя версты две, Муане воскликнул:
– Право же, ничего не поделаешь, но я снова сажусь в сани!
Я взял за руку Григория, и мы пошли достаточно уверенно, опираясь друг на друга, ведь теперь у каждого из нас было по четыре ноги вместо двух.
– Возьмите за руку Григория, – сказал я, обращаясь к Муане, – а я возьму за руку одного из наших горцев; второй присмотрит за санями.
Когда это было исполнено, мы отправились дальше.
– Ну что вы теперь скажете о Вергилии? – спросил меня Муане.
– Я скажу о нем то же, что Жантиль сказал о Расине: он шалопай.
– Ой-ой, что это такое?
Этот тревожный возглас издал Муане.
Мы остановились: из гигантского зияющего свода, обращенного в сторону дороги, извергалась масса воды, которая, судя по производимому ею шуму, должна была быть огромной.
Этот распахнутый исполинский зев в горе имел настолько зловещий вид, что мы остановились, спрашивая друг друга, идти ли нам дальше.
К счастью, наши горцы знали это место и успокоили нас, а один из них подал нам пример, пройдя там первым.
Мы отделались тем, что прошли по колено в воде.
Саням пришлось сложнее из-за обрывистых берегов этого своеобразного водостока, но они тоже его преодолели.
После этого дорога стала понижаться, и мы снова оказались на одном уровне с ручьем.
Нам оставалось проделать еще шесть верст.
Однако мы были уже в полном изнеможении; ноги наши замерзли так, что мы их уже не ощущали, но при этом со лба у нас катился пот.
Ветер усилился, снег повалил еще гуще. Нам необходимо было как можно скорее добраться до станции: если бы на дне этой узкой долины нас застигла метель, мы уже не вышли бы оттуда.
Я первый предложил снова сесть в сани, и предложение это было принято; мы закутались в тулупы и заняли свои места.
Два сопровождавших нас горца уцепились за сани: тем самым мы оказывали им услугу, ускоряя их путь, а они, со своей стороны, не позволяли нам опрокинуться.
Я закрыл глаза и предоставил себя судьбе, я бы даже сказал Провидению, если бы считал себя настолько важной особой, чтобы Провидение занималось мною.
Время от времени я открывал глаза, но открывал я их напрасно, потому что мне не удавалось увидеть ничего, кроме необъятной снежной пелены, которую ветер, казалось, встряхивал передо мной, и горного потока, ревевшего в двух шагах от меня.
Наконец мне почудилось, что я заметил свет.
– Это станция? – спросил я.
– Нет, это деревня Молит.
– А станция?
– В трех верстах.
В эту ночь все представлялось фантастическим, даже расстояние. Мы выехали в полдень, завершили подъем в три часа и спускались в течение пяти часов, полагая, что делаем четыре льё в час, но так и не смогли преодолеть тридцати верст, то есть семи с половиной льё.
Сани подъехали к этому огоньку: он светил на маленьком постоялом дворе. Мы вошли туда, полумертвые как от усталости, так и от голода; к счастью, нам удалось найти там съедобный хлеб и нечто вроде солонины, к которой в любое другое время мы даже не прикоснулись бы и которая теперь показалась нам превосходной. Разумеется, наши горцы приняли участие в этой трапезе.
Все это мы запили несколькими кружками легкого мингрельского вина, которого можно выпить без всяких нежелательных последствий целую пинту, и снова сели в сани, предварительно поинтересовавшись, хороша ли дорога от деревни до станции.
– Превосходная, – ответил трактирщик.
Услышав это обнадеживающее заявление, мы выехали.
Через сто шагов двое из нас уже были в снегу, а третий в воде.
Решив на этот раз проделать оставшуюся часть пути пешком, мы в разгар ужасающей метели подошли к станции.
Еще одна верста – и мы не добрались бы туда; вся гора, казалось, дрожала словно от землетрясения.
Два часа спустя приехал посланец от Тимофея, сообщивший нам, что телега не могла даже попытаться переехать гору и что мы должны послать сани и волов, если у нас есть желание снова увидеть наши вещи и Тимофея.
Я не очень дорожил Тимофеем, хотя и ценил по достоинству его как диковинку, но очень дорожил своими вещами и потому велел сказать Тимофею, чтобы он не беспокоился и что на другой день к нему придут на помощь.
LIV. МОЛИТ
Вещи были перенесены из саней в комнату станции. У Муане и Григория, разбитых усталостью, даже не хватило духу расстелить на лавке свои тулупы и лечь на них: они рухнули на чемоданы и прямо на них уснули.
Наделенный в большей степени, чем они, способностью сопротивляться усталости, я кое-как приготовил себе постель и прилег.
Всю ночь станционный дом, хотя и прочно построенный, сотрясался от ветра, словно желавшего сорвать его с места. Два раза я вставал и подходил к двери: снег падал беспрерывно.
Наконец рассвело, если только можно было назвать это светом.
Я попросил прислать мне расторопного казака, который за рубль согласился бы отправиться в деревню, где мы накануне ужинали, нанять там лошадей или волов и послать их в Ципу.
Казак явился с тем рвением, какое всегда проявляют казаки, желая заработать рубль, но через час вернулся.
Ветер был такой, что буквально валил его с ног.
В три часа верхом на лошадь в свою очередь сел Григорий. Буря немного утихла; он добрался до деревни и переговорил там со старшиной.
Старшина пообещал послать сани и волов, как только представится такая возможность.
Мы положились на это обещание, и день прошел в ожидании.
Около четырех часов прибыл на санях какой-то кутаисский имеретин; его сопровождали, как и всякого дворянина, каким бы бедным он ни был, два нукера.
Мне редко приходилось видеть кого-нибудь красивее этого человека в белом тюрбане, конец которого был пропущен у него под горлом, и в башлыке, наброшенном поверх тюрбана. Он носил грузинский наряд с длинными рукавами, бешмет под архалуком, турецкий кушак с висевшими на нем шашкой, кинжалом и пистолетом, и, наконец, широкие шаровары из лезгинского сукна, заправленные в доходившие до колен сапоги.
Он ехал из Гори и сообщил мне две новости.
Первая новость касалась того, что почтовый курьер прибыл в Гори с моими ключами, но не решился переправиться через Лиахву.
Вторая состояла в том, что Тимофей, закутавшись в три свои шинели и тулуп и сидя возле жаркого очага, спокойно ждал обещанной помощи.
Он остался без лошадей и ямщика: возница, привезший его из Сурама, увидел, как он уютно расположился у очага, и рассудил, что в нем и в его упряжке вряд ли скоро может возникнуть надобность.
Возница уехал, а исполненный благодушия Тимофей позволил ему это сделать.
Я попросил еще раз рассказать мне историю почтового курьера, не решившегося переправиться через реку, через которую обычные путешественники, не подгоняемые служебным долгом, как это должно было происходить с ним, переправились хотя и с трудом, но без всяких происшествий.
Такое случается только в России.
Однако, спросите вы, что будет с письмами, которые он вез?
Так вот, они будут доставлены, когда почтальон оправится от страха!
В этот раз наша походная кухня была с нами. Мы пригласили имеретина к ужину, но, поскольку этот день был постный, он отказался.
У него были с собой две соленые рыбы, одну из которых он отослал мне: я ни в коем случае не стал отказываться от этого подарка, предложенного столь по-братски.
Сам же он и два его нукера съели на ужин вторую рыбу.
Скромность этих разорившихся вельмож невероятна; вот вы встречаете путешествующим такого князя или дворянина, при том что почти все они князья: он на коне, с соколом на плече, играет на мандолине и поет какую-то протяжную и грустную песню, позади него два нукера, сверкающие золотом и серебром и обвешанные великолепным оружием. У одного из нукеров в корзинке две или три соленые рыбы на постные дни, у другого – соленая курица на скоромные дни. Они останавливаются на почтовой станции и требуют подать им чай, обязательный здесь напиток; потом, пользуясь лишь собственными пальцами и одним стаканом на всех, они съедают втроем полрыбы, если день постный, или пол курицы, если день скоромный, и до того же часа следующего дня ничего больше не едят.
Прибыв к месту назначения, то есть проделав тридцать или сорок льё за два дня, они издерживают всего пятьдесят копеек.
У нашего имеретина не было с собой сокола, но мандолина у него была; вечером, закончив ужинать, мы услышали звуки его мандолины и, войдя к нему под предлогом поблагодарить его за подаренную рыбу, увидели, что он сидит в углу комнаты, по-турецки скрестив под собой ноги; два нукера, лежа рядом с ним и глядя на него, внимали ему.
Повторю снова, что я не видел никого красивее, привлекательнее и поэтичнее этого человека.
При нашем появлении он хотел встать, но мы заставили его снова сесть; он хотел отложить свою мандолину в сторону, но мы упросили его петь и играть, и он играл и пел столько, сколько мы пожелали.
Все эти песни – простые переливы голоса, протяжные и грустные, однако их можно без устали слушать целыми часами. Они убаюкивают вас, не усыпляя, и заставляют вас грезить наяву.
Я забыл сказать, что начиная с Ципы мы были уже не в Грузии, а в Имеретии.
Правда, Имеретия – это тоже Грузия, однако местный язык отличается от грузинского примерно так же, как провансальский отличается от французского. Некогда Имеретия составляла часть Колхиды, история которой переплетается порой с историей римлян, порой с историей персов и почти всегда с историей грузин; она была отделена от Колхиды, чтобы составить часть Абхазского царства, своего рода удел, принадлежавший на законном основании наследнику грузинского престола, подобно тому как герцогство Уэльское принадлежит на законном основании наследнику английского престола, но в 1240 году Имеретия стала независимой страной, имевшей своих правящих государей; последним из них был Соломон II, умерший в Трапезунде в 1819 году.
Помимо Имеретии, Колхида включала в себя два других княжества, также независимых: Гурию и Мингрелию;
нам еще предстоит затронуть уголок одной и пересечь вторую.
В Европе не имеют никакого представления о красоте населения Колхиды; особенно красивы мужчины, отличающиеся великолепной внешностью и живописным видом; самый ничтожный нукер здесь выглядит, как князь.
Однако от самых границ Имеретии в наряд местных жителей начинает проникать тюрбан, заменяя собой папаху, которая исчезает. В настоящее время имеретины, гурийцы и мингрельцы более турки, чем русские.
Тем не менее турки ведут с ними жестокую войну; не проходит и дня, чтобы лазы не пересекли границу и не похитили какую-нибудь женщину или какого-нибудь ребенка, чтобы затем продать их в Трапезунде. Несколько месяцев назад они похитили целое семейство; поскольку гурийцы отличаются храбростью, вся деревня пустилась в погоню за лазами. Опасаясь, что дети будут кричать, похитители заткнули им рты кляпами: одна девочка умерла, задохнувшись, а другую, сумевшую избавиться от кляпа, они бросили в реку, где она и утонула.
Совсем недавно консулу в Батуме, чья главная обязанность состоит в том, чтобы препятствовать торговле белыми рабами, удалось вернуть свободу матери и дочери, которые были похищены вместе, а проданы порознь; когда мать и дочь встретились и бросились другу в объятия, то оказалось, что они говорят уже на разных языках.
В отличие от черкесских женщин, которые, находясь в жалком положении у себя дома, почитают за великое счастье, если их куда-нибудь продадут, грузинки, имеретинки, гурийки и мингрелки дрожат при одной мысли об этом, а потому защищаются и сражаются, как мужчины, чтобы не оказаться похищенными.
Впрочем, поскольку почти все они очень красивы, их нередко покупают султанские сановники и богатые турки, что позволяет невольницам приобрести состояние.
Мужчины одеваются или в грузинский наряд, или в черкесский, однако вместо остроконечной грузинской папахи или круглой черкесской они носят тюрбан, какой носил Лука – так звали нашего имеретина, – или прелестную маленькую ермолку, которая имеет форму крупной пращи, да и является на самом деле не чем иным как пращой, но вдвое больших размеров. У простонародья этот головной убор черный, обшитый красным или зеленым галуном; у князей и знатных вельмож – белый, красный или голубой, шитый золотом.








