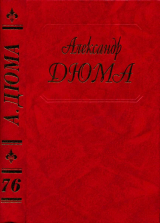
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц)
– Да, простого, если только простое происхождение не искупается некоторыми высокими качествами.
– Черт побери, дорогой друг! Я весь в нетерпении: ну же, поскорее расскажите историю этого ребенка.
– Тогда слушайте: история коротка, и ее следует рассказывать как можно проще.
Мать девочки, беременную ею, и ее семидесятилетнюю бабушку захватили в плен лезгины. Благодаря усилиям всей семьи была собрана сумма, которую Шамиль потребовал в качестве выкупа. Обе женщины отправились домой, причем мать в это время кормила грудью четырехмесячного ребенка, которым она разрешилась в плену. Однако в то самое время, когда они должны были покинуть вражеский край, бабушка умерла, а перед смертью обратилась к дочери с последней просьбой, умоляя не оставлять ее тело в земле неверных. Дочь полагала, что сделать это будет чрезвычайно просто и что, выкупив мать живой, она имеет право увезти ее с собой и мертвую. Однако похитители рассудили иначе и оценили труп старухи в шестьсот рублей.
Тщетно дочь умоляла, плакала – ей так и не удалось ничего добиться.
Тогда она попросила позволить ей увезти с собой тело матери, поклявшись всем, что есть у нее святого, отправить им требуемый выкуп или возвратиться к ним и стать их невольницей.
Горцы отказались, заявив, что они согласятся отдать ей тело старухи лишь на одном условии, а именно, если мать оставит им в залог своего ребенка.
Дочерняя любовь взяла верх над материнским чувством: мать оставила своего ребенка – с криками, рыданиями, слезами и страхами, но все же оставила.
Она вернулась в Тифлис, похоронила мать в освященной земле, как это желала старуха, и, поскольку ее семья совершенно разорилась после первого выкупа, стала ходить, облаченная в траур, из дома в дом и просить подаяние, чтобы таким образом собрать шестьсот рублей, которые требовали у нее лезгины за возвращение ей ребенка.
Нужные шестьсот рублей были собраны в течение одной недели.
Располагая этими деньгами, мать не пожелала медлить ни одного часа; она отправилась в путь пешком и добралась до аула, где оставался ребенок. Но там, поскольку сердце ее было разбито печалью, а тело было разбито усталостью, она упала, чтобы никогда больше уже не встать.
Через три дня после своего прихода в аул мученица скончалась.
Лезгины, верные своему обещанию, взяли шестьсот рублей и возвратили мать и дочь начальнику русских военных постов; мать похоронили, а ребенка передали экзарху.
Этот ребенок – та самая маленькая сирота, которую вы только что видели и которую княгиня Орбелиани удочерила.
Так что, как видите, я был прав, говоря вам на ухо: «Посмотрите внимательно на эту маленькую девочку».
XXXIX. ПИСЬМО
Ровно в три часа дня мы явились к князю Барятинскому.
Хотя князь Барятинский носит одно из самых знаменитых русских имен – его род происходит от святого Михаила Черниговского, потомка Рюрика в двенадцатом колене и святого Владимира в восьмом, – он всем обязан лишь самому себе.
При императоре Николае он долгое время находился в немилости, несмотря на любовь, которую питал к нему наследник престола, а может быть, как раз вследствие этой любви.
В чине поручика он прибыл на Кавказ, императорским наместником и единоличным правителем которого ему было предначертано однажды стать, и командовал сначала сотней линейных казаков, затем батальоном и, наконец, Кабардинским полком. Будучи командиром этого полка, он создал команду тех знаменитых кабардинских охотников, с которыми в Хасав-Юрте мы ходили в ночную экспедицию, о чем уже было рассказано выше, потом стал начальником штаба при Муравьеве, затем, в свою очередь, стал полным генералом, подал в отставку, вернулся в Петербург и, наконец, с восшествием на престол нового императора вернулся в Тифлис как наместник Кавказа.
Ему около сорока двух лет, у него красивая внешность и чрезвычайно приятный голос, которым он очень остроумно рассказывает как свои собственные воспоминания, так и чужие забавные истории; он приветлив и любезен, хотя и остается всегда знатным вельможей, что следует подчеркнуть особо. Как сейчас станет понятно, такая мягкость не исключает в нем громадной энергии.
Еще будучи полковником, князь Барятинский командовал экспедицией против одного аула. Как правило, такие экспедиции происходят летом, однако князь предпринял свой поход зимой, при пятнадцати градусах мороза, и у него были на то основания.
Летом горцы удаляются в лес и спокойно выжидают, пока русские не покинут их аул, что те всегда в конечном счете и делают; потом, как только русских в ауле не остается, горцы снова вступают во владение им, даже когда аул приходится восстанавливать, если русские сожгли его или разрушили.
Однако зимой, при пятнадцатиградусном морозе, все случилось иначе. Горцы, проведя под открытым небом неделю в лесу, пресытились этим и изъявили готовность покориться.
Князь Барятинский принял их капитуляцию. На площади аула горцы сложили ружья, кинжалы и шашки, из которых составилась огромная груда.
Потом их привели на эту площадь и заставили принять присягу на верность русскому императору.
После того как присяга была принесена, князь велел возвратить им оружие.
Это было исполнено.
«Но это еще не все, – заявил им князь. – Вот уже целая неделя, как по вашей вине мои солдаты и я лишены сна; я иду спать, а поскольку мои солдаты утомлены, охранять меня будете вы».
И князь Барятинский отпускает русских часовых, ставит у входа и внутри своего жилища чеченских часовых и в течение шести часов спит или притворяется спящим, находясь под охраной своих врагов.
Ни одному из них даже не пришло в голову изменить только что данной ими присяге.
Князь принял нас в небольшой очаровательной гостиной в персидском стиле, которая с бесконечным вкусом отделана графом Соллогубом, одним из самых видных русских писателей, украшена великолепным оружием, серебряными вазами изумительной формы и баснословной цены, грузинскими музыкальными инструментами с восхитительной инкрустацией и вся сияет подушками и коврами, вышитыми грузинскими дамами, теми прелестными ленивицами, какие берут иглу в руки лишь для того, чтобы усыпать золотыми и серебряными звездами седла и пистолетные чехлы своих мужей.
Князь Барятинский давно ждал моего приезда. Я уже говорил, что вдоль всего моего пути им были разосланы приказы принимать меня как князя или как артиста – как сочтут нужным.
О моем приезде его известила графиня Ростопчина, письмо от которой, а скорее даже пакет, он мне вручил.
Князь продержал нас у себя целый час и пригласил к себе на обед на тот же день.
Было уже четыре часа, а на обед нас пригласили к шести. Временем я располагал лишь на то, чтобы вернуться к себе и посмотреть, что пишет мне бедная графиня.
Я состоял в литературной переписке с графиней еще до своего знакомства с ней в Москве. Когда ей стало известно о моем приезде, она нарочно приехала из деревни и прислала сказать мне, что ожидает меня.
Я поспешил к ней и нашел ее очень больной и погруженной в мрачные мысли, в первую очередь потому, что болезнь, которой она страдала, была смертельна.
Признаться, она произвела на меня именно такое впечатление; ее лицо, всегда столь прелестное, уже несло на себе ту первую печать, какой смерть заранее отмечает свои жертвы, – жертвы, которых она явно алчет тем больше, чем драгоценнее их жизнь.
Я пришел к ней с дневником и карандашом, чтобы записать ее воспоминания, относящиеся к политике и литературе; из области политики меня интересовали сведения о ее свекре, знаменитом графе Ростопчине, всю жизнь боровшемся с обвинением в сожжении Москвы – обвинением, которое он без конца отвергал, но которое, словно сизифов камень, без конца обрушивалось на него; однако, вместо того чтобы записывать, я все свидание беседовал с ней; беседа с этой обаятельной, хотя и больной женщиной была увлекательной; графиня обещала прислать мне все то, что она сочтет достойным моего внимания, а поскольку через два часа я решил удалиться, чувствуя, что этот долгий разговор утомил ее, она взяла мой дневник и написала на его первой странице:
«Никогда не забывайте русских друзей, и в их числе Евдокию Ростопчину.
Москва. 14/26 августа 1858 года».
И в самом деле, несколько дней спустя графиня прислала мне из деревни, куда она вернулась на другой день после нашей встречи, свои записки.
Записки сопровождались письмом; я привожу его полностью, чтобы дать представление об уме этой доброй, ироничной и поэтической женщины, которая стала моим другом, хотя мы виделись лишь один день, и память о которой я сохраню на всю свою жизнь; она писала по– французски, и в стихах, и в прозе, не хуже наших самых прелестных женских дарований.
«Вороново, понедельник, 18/30 августа 1858 года.
Душенька Дюма! (Что означает это ласковое русское словечко, я вам, разумеется, не скажу хотя бы для того, чтобы заставить вас поискать его в словарях.) Вы видите, что я женщина, которая держит слово и в то же время умеет держать в руках перо, ибо Вы получили теперь новости обо мне и одновременно доказательства невиновности моего свекра в отношении пожара Москвы, пламя которого так жестоко опалило его на этом свете, что, надеюсь, за это он будет избавлен от пламени ада.
Остальное придет в свое время.
При моем возвращении сюда меня приняли почти так же, как был принят Каин после происшествия с Авелем. Все семья бросилась ко мне, спрашивая, где Вы, что я с Вами сделала и почему не привезла к себе. Настолько все пребывали в уверенности, что это желанное похищение должно было быть мною задумано и успешно осуществлено. Муж и дочь крайне сожалеют, что они не смогли увидеться с Вами; состояние моего здоровья было так плачевно, что мне позволили ехать, теперь я могу Вам в этом признаться, лишь с условием, что я возвращусь вместе с Вами. Все интересуются у меня малейшими подробностями, касающимися Вашей драгоценной особы; все хотят знать, похожи ли Вы на свои портреты, свои книги и на представление, которое у них сложилось о Вас; словом, вся семья, как и я сама, всецело поглощена мыслями о нашем прославленном и милом путешественнике, которому мы заранее признательны за то, что он войдет в число наших друзей. Я совершенно разбита после дороги, к тому же своим чередом идет лихорадка, но это не мешает мне изо всех моих слабых сил пожать ту крепкую руку, которая с открытой ладонью совершила столько добрых поступков, а сжатая в кулак написала столько всего прекрасного, и возвратить собрату по ремеслу и даже брату поцелуй, запечатленный им на моем лбу.
Безусловно до встречи, ибо, если ее и не будет на этом свете, она непременно случится на том.
Ваш друг вот уже тридцать лет
Евдокия Ростопчина».
Письмо, которое графиня обещала мне написать, и записки, которые она должна была мне прислать в свое время, с очаровательным простосердечием передал мне князь Барятинский – наместник императора, ставший посредником между двумя людьми искусства.
Вот это второе письмо; оно еще более грустное, чем первое.
Между двумя датами – 18/30 августа и 27/10 сентября – бедная графиня еще на несколько шагов приблизилась к могиле.
«Вороново, 27/10 сентября 1858 года.
Вот, милый Дюма, обещанные записки: в любое другое время для меня было бы удовольствием составить их для Вас и передать новому другу воспоминания о двух своих старых друзьях, но теперь лишь потому, что дело касалось Вас и меня, я смогла довести до конца эту писанину. Поймите, ведь я нездорова более, чем прежде, и испытываю такую слабость, что почти не могу уже вставать с постели, а в голове у меня царит путаница, едва позволяющая мне сознавать себя. И все же не сомневайтесь в правдивости даже малейших подробностей, которые я Вам сообщаю; они были продиктованы памятью сердца, а она, поверьте мне, крепче памяти рассудка. Рука, которая передаст Вам это письмо, послужит Вам доказательством того, что я уже отрекомендовала Вас должным образом.
Прощайте! Не забывайте меня.
Евдокия.
Я перечитала свое письмо и нашла его глупым. Разве можно писать так пошло?! Но, вероятно, у меня будет превосходный повод оправдаться в Ваших глазах.
Дело в том, что, когда Вы получите это письмо, я уже умру или буду при смерти».
Признаться, это письмо заставило мое сердце больно сжаться. Мне вспомнилось, как, вернувшись к своим добрым друзьям, у которых я жил в Петровском парке, я сказал тогда:
«Бедная графиня Ростопчина! Через два месяца она умрет».
Провозвестник несчастья! Неужели мое пророчество так точно сбылось?
Я тяжело и печально вздохнул, думая о бедной графине, и бросил взгляд на записки, которые она мне прислала.
Эти записки касались преимущественно Лермонтова, лучшего русского поэта после Пушкина, хотя некоторые ставят его даже выше Пушкина.
Поскольку Лермонтов прежде всего поэт Кавказа, куда он был сослан, где он писал, где он сражался и где, наконец, он был убит, то воспользуемся этим случаем, когда его имя уже во второй или в третий выходит из-под нашего пера, и скажем несколько слов об этом гениальном человеке, которого я первый сделал известным во Франции, опубликовав в «Мушкетере» перевод его лучшего романа «Печорин, или Герой нашего времени».
Я дословно привожу заметку, присланную в Тифлис графиней Ростопчиной; что же касается стихотворений, которые мне предстоит цитировать дальше, то они переведены мною.
«МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ.
Лермонтов родился в 1814 или в 1815 году и происходил от богатого и почтенного семейства; потеряв еще в малолетстве отца и мать, он был воспитан бабушкой со стороны матери; г-жа Арсеньева, женщина умная и достойная, питала к своему внуку самую безграничную любовь, настоящую любовь бабушки; она ничего не жалела для его образования; в четырнадцать или пятнадцать лет он уже стал писать стихи, которые далеко еще не предвещали будущего блестящего и могучего таланта.
Созрев рано, как и все современное ему поколение, он уже мечтал о жизни, не зная о ней ничего, и таким образом теория повредила практике. Ему не достались в удел ни прелести, ни радости юношества; одно обстоятельство, уже с той поры, повлияло на его характер и продолжало иметь печальное и значительное влияние на всю его будущность. Он был очень дурен собой, и эта некрасивость, уступившая впоследствии силе выражения и почти исчезнувшая, когда гениальность преобразила простые черты его лица, была поразительна в его самые юные годы.
Она-то и решила образ мыслей, вкусы и направление молодого человека с пылким умом и неограниченным честолюбием. Не имея возможности нравиться, он решил соблазнять или пугать и драпироваться в байронизм, который был тогда в моде. Дон Жуан сделался его героем, мало того, его образцом: он стал бить на таинственность, на мрачное и на колкости. Эта детская игра оставила неизгладимые следы в его подвижном и впечатлительном воображении; вследствие того что он представлял себя Ларой и Манфредом, он привык быть таким. В то время я два раза видела его на детских балах, где я прыгала и скакала, как настоящая девочка, какою я и была, между тем как он, одних со мною лет, даже несколько моложе меня, занимался тем, что старался вскружить голову одной моей кузине, очень кокетливой, с которой у него, как говорится, игра шла на равных; я все еще помню странное впечатление, какое производил на меня этот бедный мальчик, гримировавшийся в старика и опередивший года страстей посредством утомительного подражания им. Кузина поверяла мне свои тайны; она показывала мне стихи, которые Лермонтов писал ей в альбом; я находила их дурными, особенно потому, что они не были правдивы. В то время я была в полном восторге от Шиллера, Жуковского, Байрона, Пушкина и сама пробовала заняться поэзией. Я написала оду Шарлотте Корде, но у меня достало благоразумия впоследствии сжечь ее. Короче, я даже не имела желания познакомиться с Лермонтовым, настолько малосимпатичным он мне казался.
Он был тогда в благородном пансионе, служившем приготовительной школой при Московском университете.
Позднее он вступил в Школу гвардейских подпрапорщиков; там его жизнь и его вкусы приняли другое направление. Будучи язвительным, насмешливым и ловким, он полностью отдался всякого рода проказам, шалостям и шуткам; вместе с тем, исполненный самого блистательного остроумия, богатый и независимый, он сделался душой общества молодых людей высшего круга; он был зачинщиком развлечений, непринужденных разговоров, безумных кутежей – словом, всего того, что составляет жизнь в этом возрасте.
По выходе из Школы он поступил в гвардейский егерский полк, один из самых блестящих и отлично сформированных; и там живость, ум и жажда удовольствий опять поставили Лермонтова во главе его товарищей; он импровизировал для них целые поэмы на самые обыденные темы из их лагерной или казарменной жизни. Эти стихотворения, которых я не читала и которые не предназначались для женщин, искрятся, как говорят, блистательным остроумием и сверкающей пылкостью автора. Поскольку он давал всем прозвища, то справедливо было, что и он получил свое. Из Парижа, откуда к нам приходит все, к нам пришел пошлый тип, которого Лермонтов весьма напоминал внешне: горбатый Майё. Лермонтова прозвали Майё вследствие его маленького роста и большой головы, что придавало ему своего рода фамильное сходство со знаменитым уродцем.
Веселая холостяцкая жизнь, которую он вел на широкую ногу, не препятствовала ему посещать и светское общество, где он забавлялся тем, что кружил головы женщинам, чтобы затем покинуть их и оставить томиться в тщетном ожидании, и расстраивал находящиеся в зачатке партии, в течение нескольких дней изображая наигранную страсть. Короче, он явно старался доказать самому себе, что женщины могут его любить, несмотря на его малый рост и некрасивую наружность. Мне случалось слышать признания нескольких из его жертв, и я не могла удержаться от смеха, даже при виде слез моих подруг, смеясь над его оригинальными приемами и комическими развязками, которые он давал своим коварным донжуанским проделкам.
Однажды, помнится, он, забавы ради, вздумал заместить одного богатого жениха, и, когда тот уже отошел в сторону и все полагали Лермонтова готовым занять его место, родители невесты вдруг получили анонимное письмо, в котором их умоляли указать Лермонтову на порог и рассказывали о нем тысячи мерзостей. Это письмо он написал сам и с тех пор в дом, куда оно было отправлено, более не являлся.
Тем временем умер Пушкин; Лермонтов, негодуя, как и вся русская молодежь, против той дурной части светского общества, которая натравливала друг на друга двух противников, написал посредственное, но пылкое стихотворение, где он обращался прямо к императору, требуя мщения. При всеобщем возбуждении умов этот поступок, столь естественный для молодого человека, был истолкован неверно. Новый поэт, выступивший в защиту умершего поэта, был посажен под арест на гауптвахту и в конечном счете переведен в полк на Кавказ.
Эта катастрофа, столь оплакиваемая друзьями Лермонтова, обратилась в значительной степени в его пользу. Оторванный от пустоты петербургской жизни, поставленный перед необходимостью строго исполнять долг в условиях постоянной опасности и перенесенный на театр непрекращающейся войны, в новую для него страну, прекрасную до великолепия, вынужденный, наконец, сосредоточиться в самом себе, поэт внезапно вырос, и талант его сильно развернулся. До того времени все его опыты, хотя и многочисленные, были как будто лишь ощупывания, но тут он стал трудиться, по вдохновению и из самолюбия, чтобы иметь возможность показать что-нибудь свое свету, знавшему его лишь по ссылке и ничего еще не читавшему из его сочинений.
Здесь уместно провести параллель между Пушкиным и Лермонтовым как поэтами и сочинителями.
Пушкин – это порыв, это стремительный бросок; мысль исходит, а лучше сказать, извергается из его души и его мозга, во всеоружии с головы до ног; затем он ее переделывает, исправляет, подчищает, но она остается все той же цельной и точно определенной.
Лермонтов же ищет, сочиняет, улаживает; разум, вкус, мастерство указывают ему на средство округлить фразу, усовершенствовать стих; но его первоначальная мысль всегда незавершенная, неполная и вычурная; даже и теперь в полном собрании его сочинений встречаются один и тот же стих, одна и та же идея, одно и то же четверостишие, включенные в два совершенно различных произведения.
Пушкин тотчас осознавал, каким в итоге будет даже самое маленькое из его стихотворений и как прийти к нужной цели.
Лермонтов же набрасывал на бумагу пришедшие ему в голову стих или два, не зная сам, что он с ними дальше сделает, а потом вставлял их в то или другое стихотворение, к которому, по его мнению, они подходили. Главная его прелесть заключалась прежде всего в описании пейзажей; поскольку он сам был хорошим пейзажистом, художник дополнял в нем поэта; но долгое время обилие материалов, производивших брожение в его мыслях, мешало ему привести их в порядок, и только со времени его вынужденного досуга на Кавказе начинается полное обладание им самим собой, осознание своих сил и, так сказать, продуманное использование различных своих способностей. Окончив, пересмотрев и исправив очередную тетрадь своих стихотворений, он отсылал ее к своим друзьям в Петербург; эти пересылки – причина того, что мы должны оплакивать утрату нескольких из лучших его произведений. Курьер из Тифлиса, нередко подвергаясь нападению со стороны чеченцев или кабардинцев и рискуя свалиться в горные реки или в пропасти, которые он преодолевает по мосткам или переходит вброд, иногда, чтобы спасти самого себя, бросает доверенные ему пакеты, и именно таким образом пропали две или три тетради Лермонтова. В частности, это случилось с последней его тетрадью: Лермонтов отправил ее к своему издателю, и она затерялась, так что у нас остались лишь наброски содержавшихся в ней законченных стихотворений.
На Кавказе юношеская веселость сменилась у Лермонтова припадками черной меланхолии, которая глубоко проникла в его мысли и наложила отпечаток особой сокровенности на все его поэтические произведения.
В 1838 году ему было разрешено вернуться в Петербург, а так как его талант, а равно и ссылка уже соорудили ему пьедестал, то свет поспешил оказать ему радушный прием.
Несколько успехов у женщин, несколько салонных флиртов[5] вызвали против него вражду мужчин; спор о смерти Пушкина свел его лицом к лицу с г-ном Барантом, сыном французского посла; вследствие этого спора была назначена дуэль, уже вторая, за столь короткое время, между русским и французом; однако женщины выболтали, и о дуэли стало известно прежде, чем она совершилась; чтобы покончить с этой международной враждой, Лермонтов был снова отправлен на Кавказ.
Со времени его второго пребывания в этой стране войны и величественных красот ведут отсчет лучшие и самые зрелые произведения нашего поэта. Поразительным скачком он вдруг превосходит самого себя, и его великолепные стихи, его великие и глубокие мысли 1840 года как будто не принадлежат молодому человеку, еще только пробовавшему свои силы в предшествующем году; в нем видишь теперь большую правдивость и большую искренность с самим собой; он в большей степени осознает себя и лучше себя понимает; мелочное тщеславие исчезает, и если он сожалеет о свете, то лишь потому, что там остались его привязанности.
В начале 1841 года его бабушка, г-жа Арсеньева, выхлопотала ему разрешение приехать в Петербург, чтобы увидеться с ней и принять от нее благословение: преклонные года и болезнь понуждали ее как можно скоре возложить руки на голову ее любимого мальчика.
Лермонтов прибыл в Петербург 7 или 8 февраля, но, по горькой насмешке судьбы, его бабушка, г-жа Арсеньева, жившая в отдаленной губернии, не смогла добраться до него из-за дурного состояния дорог, раскисших от преждевременной оттепели.
Именно в это время я познакомилась лично с Лермонтовым, и двух дней было довольно, чтобы связать нас дружбой; одним днем более, чем с Вами, дорогой Дюма, а потому не ревнуйте. Принадлежа к одному и тому же кругу, мы без конца встречались с утра до вечера; доверие между нами установилось окончательно, когда я открыла ему все, что мне было известно о его юношеских проказах, отчего, вдоволь посмеявшись над ними вместе, мы вдруг сошлись так, словно были знакомы с того самого времени.
Три месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самыми счастливыми и самыми блестящими в его жизни. Радушно принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие– нибудь прекрасные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа пробудилось в нем опять в этой дружественной обстановке; каждый день он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и благодаря его неисчерпаемой веселости мы проводили целые часы в безумном смехе.
Однажды Лермонтов объявил, что прочтет нам новый роман под заглавием «Штосс». Он рассчитал, что на это ему понадобится, по крайней мере, четыре часа, и потребовал, чтобы все собрались рано вечером и, главное, чтобы двери были заперты для посторонних. Все поспешили исполнить его желания, и избранники сойтись числом около тридцати; Лермонтов входит с огромной рукописью под мышкой, лампа принесена, двери заперты, чтение начинается, но спустя четверть часа оно уже окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне и занявшей около двадцати страниц.
Остальная часть тетради состояла из чистых листов. Роман на этом остановился и никогда не был окончен. Тем временем отпуск его приходил к концу, а бабушка все не приезжала. Стали ходатайствовать об отсрочках; сначала в них было отказано, но затем, благодаря штурму, предпринятому высокопоставленными покровителями, отсрочек удалось добиться.
Лермонтову очень не хотелось ехать: у него были всякого рода дурные предчувствия.
Наконец, в конце апреля или в начале мая мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути. Я одна из последних пожала ему руку. Мы ужинали втроем, за небольшим столом, он и другой друг, который тоже погиб насильственной смертью в последнюю войну. Во время всего ужина и при расставании с нами Лермонтов только и говорил о своем близком конце.
Я заставляла его молчать, пытаясь смеяться над его предчувствиями, казавшимися пустыми, но они поневоле влияли на меня и тяготили мое сердце.
Два месяца спустя они осуществились, и пистолетный выстрел во второй раз похитил у России одну из самых драгоценных ее национальных знаменитостей.
И ужаснее всего было то, что на этот раз смертельный удар исходил от дружеской руки.
Прибыв на Кавказ и находясь в ожидании экспедиции, Лермонтов отправился на воды в Пятигорск. Там он встретился с одним из своих приятелей, который уже давно сделался жертвой его шуток и розыгрышей. Он возобновил их, и в течение нескольких недель Мартынов был мишенью всех безумных выдумок поэта.
Однажды, увидев Мартынова украшенным по черкесскому обычаю то ли одним, то ли двумя кинжалами, что вовсе не шло к кавалергардскому мундиру, Лермонтов в присутствии дам подошел к нему и, смеясь, воскликнул: «Ах, как ты хорош Мартынов! Ты похож сразу на двух горцев».
Эта шутка переполнила чашу терпения; последовал вызов, и на другой день два приятеля дрались на дуэли. Секунданты пытались примирить их, но тщетно: в дело вмешалась судьба.
Лермонтов не хотел верить, что ему предстоит драться с Мартыновым.
«Возможно ли, – сказал он секундантам, когда они передавали ему заряженный пистолет, – чтобы я в него целил ?»
Целил ли он? Или не целил? Известно лишь, что раздалось два выстрела и что пуля противника смертельно поразила Лермонтова.
Вот так окончил жизнь в двадцать восемь лет, и той же смертью, поэт, который один мог облегчить безмерную потерю, понесенную нами со смертью Пушкина.
Странное дело! Дантес и Мартынов оба служили в Кавалергардском полку.
Евдокия Ростопчина».
Я окончил это чтение, когда за мной пришел Фино. Было шесть часов. Мы сели на дрожки и отправились к князю.
Там нас ожидал самый узкий круг гостей.
– Князь, – сказал я хозяину дома, вытаскивая из кармана письмо графини Ростопчиной, – прошу вас, помогите мне прочитать название деревни нашего друга.
– Для чего? – спросил меня князь.
– Для того, чтобы ответить ей: она написала мне очень милое письмо.
– Как, вы не знаете?.. – удивился князь.
–Что?
– Она умерла!
XL. ЦИТАТЫ
Дадим теперь читателю представление о даровании человека, физический и нравственный портрет которого столь красочно изобразило нам перо бедной графини Ростопчиной.
Оценить мужчин и перевести то, что они сочинили, могут мужчины, но рассказывать о них всегда следует женщинам.
Мы не стали долго выбирать, а просто взяли наудачу несколько стихотворений Лермонтова, сожалея, что у нас нет возможности познакомить наших читателей с его главной поэмой «Демон», как мы познакомили их с его лучшим романом «Печорин»; но его гений проявляется везде, и, вполне вероятно, гений этот будет лучше оценен при виде его способности претерпевать изменения и принимать разнообразные формы.
Начнем со стихотворения, озаглавленного «Дума»; это сетование, где автор, возможно несколько мизантропически, оценивает поколение, к которому принадлежал он сам.
ДУМА
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно, Меж тем, под бременем познанья и сомненья, В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели, Ошибками отцов и поздним их умом, И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы; Перед опасностью позорно малодушны И перед властию – презренные рабы. Так тощий плод, до времени созрелый, Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, Висит между цветов, пришлец осиротелый, И час их красоты – его паденья час!
Мы иссушили ум наукою бесплодной, Тая завистливо от ближних и друзей Надежды лучшие и голос благородный Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья, Но юных сил мы тем не сберегли; Из каждой радости, бояся пресыщенья, Мы лучший сок навеки извлекли.
Мечты поэзии, создания искусства Восторгом сладостным наш ум не шевелят; Мы жадно бережем в груди остаток чувства – Зарытый скупостью и бесполезный клад. И ненавидим мы, и любим мы случайно, Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, И царствует в душе какой-то холод тайный, Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы, Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы, Глядя насмешливо назад.








