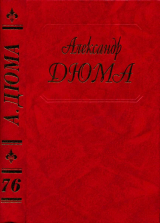
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
– Да, ваше сиятельство, я хотел сказать, что, когда мы встретились, я принял вас за бедного русского офицера, равного мне, и отказался от десяти рублей, которые вы мне предлагали; но теперь, когда выяснилось, что вы князь, вельможа и богаты, как падишах, мне кажется, что дело обстоит совсем иначе и я могу получить от вас то, что вы хотели мне дать.
Князь счел требование справедливым, однако вместо десяти рублей он дал грузину двадцать.
Мы рассказали эту забавную историю потому, что она представляется нам очаровательной в своей простоте и превосходно рисующей нравы этой страны.
Говоря выше о дороге от Тифлиса до Владикавказа и vice versa[12], пересекающей Кавказ во всю его ширину, я повторил распространенную поговорку:
«Если собрать деньги, издержанные на дорогу от Тифлиса до Владикавказа, то можно было бы вымостить всю эту дорогу рублями».
Именно в Пасанауре начинается та новая дорога, какая должна идти напрямую из Пасанаура к Казбеку, оставляя в стороне Кайшаур и Коби, то есть две почтовые станции, на которые, а точнее говоря, между которыми обрушиваются снежные лавины. Трудно сказать, сколько лет строится эта дорога, протянувшаяся на сегодня на пятнадцать или восемнадцать верст, но, вероятно, она полностью разрушится с одного конца, когда будет завершен другой.
Если когда-нибудь строительство этой дороги завершится, она окажется широкой, ровной и удобной; она будет виться среди гор, не пугающих своей высотой и не имеющих крутых склонов, и на ней, следовательно, почти не придется опасаться снежных лавин и камнепадов.
Небольшую долину, вдоль которой идет эта новая дорога, в пяти-шести верстах от Казбека внезапно преграждает высокий холм, не позволяющий его обогнуть; через него дорога пройдет зигзагами, как на горе Ахсу; это не сократит путь, а лишь сделает его более удобным.
Ночью нам стали известны новости о дороге: в горах три дня шел снег, и нас уверяли, что высота снежного покрова там должна быть, по крайней мере, футов в пять или шесть. Продолжать путь в тарантасе было уже невозможно, но вряд ли его можно было проделать и на санях.
Мы поменяли наш тарантас на сани, в которые впрягли пять лошадей; нас предупредили, что, по всей вероятности, в Квишете нам придется заменить этих лошадей волами.
Все шло хорошо до Квишета; мы ехали по довольно ровной местности, имея по правую руку от себя Арагви, а по левую – поросшие лесом холмы. Но вскоре мы переправились через реку, и теперь, напротив, холмы оказались справа от нас, а Арагви – слева.
За Квишетом начался почти отвесный подъем протяженностью в шесть верст; наших лошадей выпрягли и вместо них в сани запрягли двенадцать волов. Эти волы на каждом шагу проваливались в снег по брюхо и с огромным трудом тащили сани, которым приходилось, чтобы проехать, перемещать пласт снега на всю свою ширину.
Нам нужно было проехать двадцать две версты, то есть пять с половиной льё, а ушло у нас на это более шести часов. Дважды нам попадались встречные сани. Дорога была настолько узкая, что приходилось принимать всякого рода предосторожности, чтобы ни те, ни другие сани не свалились в пропасть, склон которой скрывался под снегом.
К счастью, наше положение на дороге позволяло нам держаться правой стороны, и, вместо того чтобы зависать над пропастью, мы прижимались к скале.
Однажды первая пара волов, тянувших встречные сани, потеряла почву под ногами, и пассажирам пришлось выпрыгнуть на дорогу; не знаю, каким обра юм проводнику удалось удержать животных. Страх волов оыл так велик, что, вновь оказавшись на твердом грунте, они стали дрожать всем телом, а один из них даже лег.
По мере того как мы поднимались вверх, снег казался нам все более ярким; из-за этого яркого снега все те, кого мы встречали на своем пути, носили большие козырьки, напоминавшие абажуры и придававшие им чрезвычайно смешной вид.
Фино предупредил нас о явлении, с которым нам предстояло столкнуться, и по его совету мы запаслись вуалями из зеленого тюля, какие надевают наши амазонки, отправляясь на прогулку в Булонский лес, и лондонские коммивояжеры, отправляясь на Эпсомские скачки. Лишь те, кто принимает такую меру предсторож– ности или же предусмотрительно приделывает к своей шляпе козырек, о котором мы только что говорили, не подвергается риску заработать воспаление глаз.
Прибыв в Кайшаур, надо остановиться и осмотреться вокруг себя, а главное, оглянуться назад.
Вокруг тебя вечные снега, позади тебя – равнины Грузии.
Не знаю, какой вид принимает здешний пейзаж летом, но зимой он печален и величествен; все обладает ослепительной белизной. Облака, небо, земля – все это безмерная пустота, бесконечное однообразие, мертвая тишина.
Черными пятнами выделяются лишь части скал, чересчур острые пики которых не дают удержаться на них снегу, или стены какой-нибудь уединенной хижины, построенной на крутой и неприступной скале. Впрочем, эти черные пятна служат для путешественников единственным средством дать себе отчет о пройденном расстоянии, иначе так и оставшемся бы неясным.
Глядя на эти одинокие хижины, на три четверти занесенные снегом, и не видя ни ведущей к ним тропинки, ни дымящейся трубы, можно подумать, что эти жилища покинуты их обитателями.
Если вы найдете какую-нибудь точку опоры или вам удастся уцепиться за что-нибудь, чтобы взглянуть вниз, вы увидите, как там в глубокой долине змеится река Арагви, но не сверкающая, как это бывает летом, словно длинная серебряная лента, извивающаяся на темном фоне земли, а как чернеющий водный поток цвета полированной стали, резко контрастирующий с белизной снега.
Почтовая станция в Кайшауре и все окружающие ее постройки были полностью покрыты снегом; крыши, того же самого цвета, что и весь остальной пейзаж, вздымались буграми посреди этого снега, словно могильные курганы. Что же касается окон, оказавшихся более чем на метр ниже уровня снега, то, чтобы дневной свет и воздух доходили до них, обитателям домов пришлось проделать в снегу траншеи. Можно было подумать, что ты находишься в Сибири.
Мы остановились в Кайшауре. В этот день нельзя было и думать том, чтобы ехать дальше, ведь тогда нам пришлось бы переезжать через Крестовую гору ночью, а между тем никто не мог поручиться, что мы переедем через нее даже днем.
Было три часа пополудни.
Сани распрягли, и, поскольку никто не отважился отправиться в горы в подобную погоду, нам досталась лучшая комната на станции, а это немало значит.
На другой день мы отправились в путь в девять часов утра. До нас уже прошло двое или трое саней, так что можно было рассчитывать на нечто вроде проложенной дороги.
Благодаря моей подорожной и особому приказу, отданному князем Барятинским, в наше распоряжение предоставили двенадцать волов, десять солдат-пехотинцев и десять казаков.
Едва отъехав на две версты от Кайшаура, мы встретили ингушского вельможу, ехавшего верхом со свитой из четырех нукеров.
Еще четверо сопровождающих, тоже верхом, ехали позади них, держа на привязи шесть больших великолепных борзых.
Князь – а мне сказали, что это князь, – был в старинном снаряжении наших крестоносцев, то есть он носил кольчугу и головной шлем с железной сеткой, которая свешивалась на плечи, оставляя открытым только лицо, а вооружен был прямой шашкой и небольшим кожаным щитом.
И в самом деле, мы уже находились в осетинском округе Гуда.
Если только вы не ученый такого масштаба, как Клапрот или Дюбуа, вам трудно будет принять осетин за ингушей, их победителей.
Ингуши не являются ни магометанами, ни христианами; религия их чрезвычайно проста: они деисты.
Их бог называется Дала, но он не окружен ни святыми, ни апостолами. Они отдыхают по воскресеньям, соблюдают большой и малый посты, совершают паломничества к определенным священным местам, которые почти все представляют собой церкви времен царицы Тамары. Жрецом у них старик, которого они называют цанин-стаг («чистый человек»); он не женат, приносит жертвы и читает молитвы.
Русские миссионеры из Осетинской комиссии потратили много труда, пытаясь обратить их в христианство, но не преуспели в этом.
С другой стороны, два брата-ингуша были проданы в Турцию, приняли там мусульманскую веру, ходили на поклонение в Мекку, а затем вернулись на родину; там они отыскали свою мать, которая была еще жива, и обратили ее в исламизм, после чего стали проповедовать его своим соотечественникам.
Однако те сказали им:
– Вы проповедуете веру, которую вы узнали, находясь в рабстве; мы не хотим такой веры. Уходите и не показывайтесь больше в наших краях.
Братья удалились, и никто никогда их больше не видел.
Подобно калмыкам, ингуши заимствуют свои имена от животных; например, они зовутся Пу а, что значит «собака», Уст – «бык», Кака – «свинья».
Они имеют по пять, по шесть и даже по семь жен, пользуясь в этом отношении большей свободой, чем мусульмане, которые вправе иметь лишь четырех жен.
Ингуши разделяются на «больших» и «малых»: первые живут на равнине, вторые – в горах.
Что же касается осетин, о которых выше было сказано несколько слов и которые носят, что меня особенно поразило, колпаки, в точности похожие на колпаки наших пьеро, то вскоре мы познакомились и с ними. Их заставили расчищать дорогу, что они и делали, крича, распевая, ссорясь и бросая друг в друга лопаты снега.
Многие античные и современные путешественники писали об осетинах. Дюбуа посвятил половину тома вопросу об их происхождении, но в конце концов вынужден был признаться, что ему не удалось найти решительно никаких сведений на этот счет, за исключением тех, что сообщают русские авторы, знающие, впрочем, об этом предмете не больше, чем он сам.
Невероятно, в каком безвыходном лабиринте блуждают ученые, охваченные страстью доказывать происхождение того или другого народа.
По словам Дюбуа, осетины, или осеты, это древние меоты, те самые, что были известны некогда под именами ассов, яссов, аланов, а позднее – команов. Он ищет, проявляя упорство, свойственное человеку, которому не удается найти то, что он силится отыскать, определенное сходство между языками, нравами и обычаями осетов и финнов и делает вывод, что эстонцы происходят от осетов или, по крайней мере, являются их очень близкими родственниками. Чтобы доказать это, Дюбуа пускается в цитирования историков, погружается в этимологические изыскания, кажущиеся ему правдоподобными, и в конце концов объявляет, что осеты – это скифы, подобно тому, как он доказал, что мидяне происходят от Мидая, сына Иафета.
Осетины, живущие рядом с главной стратегической дорогой Грузии, зарабатывают много денег. Но, будучи транжирами, картежниками и пьяницами, они всегда крайне плохо одеты, а скорее, не одеты вовсе. Они живут в землянках, в развалинах старых башен, в закоулках заброшенных крепостей. Все, что они зарабатывают, тратится ими на табак и водку. Во время сильных морозов они греются у нескольких тощих головешек, дающих не огонь, а дым, и среди них невозможно отличить богатых от бедных, ибо одежда у тех и других одинаково скверная.
Некогда, в царствование Тамары, осетины, как и ингуши, были христианами, но теперь сами не могут сказать, кто они такие. Приспособив по собственной прихоти все верования, о каких им приходилось слышать, они позаимствовали оттуда все, что могло потворствовать их желаниям, и отвергли то, что противоречило их причудам. Во всем мире, даже в Океании, даже у идолопоклонников внутренней части Африки, напрасно было бы искать подобное смешение дикарских представлений и разнородных верований.
Но это тоже имеет свои исторические причины. Через сто лет после смерти царицы Тамары и, следовательно, спустя век после того, как осетины сделались христианами, равнины Кавказа и Закавказья двумя потоками наводнили монголы; перед этими волнами неведомых прежде варваров осетины отступили и удалились в горы, которые они уже больше не покидали.
Оказавшись там, они утратили все связи с Грузией и постепенно снова погрузились в свое прежнее невежество, сохранив от христианской религии лишь определенные ритуалы и понятие о Боге и Иисусе Христе, пророком которых они считают Магомета; вместе с тем они верят в ангелов, духов, магию, практикуют многобрачие и приносят языческие жертвоприношения.
Перевес христианства над исламизмом ощущается у них прежде всего в том, что касается женщин. Женщины у осетин не прячутся от взглядов мужчин, сидя в своем жилище, и не выходят из дома, завернувшись в покрывала, в то время как еще и сегодня христианская Грузия, а особенно Армения, испытавшие политическое и духовное влияние Персии, оставляют женщин почти такими же невольницами и затворницами, как если бы они жили по закону Магомета.
С другой стороны, в горах, где господствует вооруженный разбой, где жители рассчитывают больше на воровство, чем на труд, женщины должны полностью отречься от собственной воли, нести все бремя домашних работ, заботиться о пище и платье своих мужей, которые тем временем рыщут в поисках поживы и бродят по горам. И потому осетин покупает одну, двух, трех, даже четырех жен, если ему позволяют средства; он платит за них калым, жестоко обращается с ними и возлагает на них все домашние и полевые работы.
Если он недоволен ими, то прогоняет их от себя.
Дочери не имеют никакого права на наследство; отец не дает за ними приданого, а напротив, продает их как домашнюю скотину, выросшую в его доме; поэтому в семье печалятся, если родится девочка, и радуются, если родится мальчик. Вот почему осетины всегда приносят на свои брачные церемонии новорожденного мальчика, и молодые супруги несколько раз простираются перед ним ниц, моля своего бога, кто бы он ни был, даровать им первенца мужского пола.
Вследствие тем же самых нравственных устоев убийство женщины считается наполовину менее важным преступлением, чем убийство мужчины.
Один лишь закон и один лишь обычай неизменен у них, а именно, закон кровной мести: око за око, зуб за зуб – закон первобытных обществ, закон, можно сказать, природы, последний, который удастся уничтожить цивилизации, какой бы она ни была. И в самом деле, без строгого соблюдения этого закона никто не был бы уверен в безопасности своей жизни среди этих диких народов, подчиняющихся лишь влечению собственных страстей.
Как было сказано, мы остановились в одной или двух верстах за Кайшауром, чтобы взглянуть на этих славных осетин, с заступом в руках расчищавших для нас дорогу. Однако осетины и снежные лавины представляют собой те два любопытнейших явления, какими следует интересоваться не в Париже, когда вы прогуливаетесь по улице Мира, Гентскому бульвару или Елисейским полям, а на Кавказе, когда вы находитесь между станцией Кайшаур и станцией Коби и поднимаетесь на Крестовую гору.
И прежде всего интересоваться надо снежными лавинами.
С крутых склонов Кавказа снег еще чаще, чем с менее крутых гор Швейцарии, сходит огромными пластами и заваливает целые версты дороги; если же снежные лавины останавливаются на своем пути и соединяются в одно целое с землей, то ветер поднимает с их поверхности плотные облака снега, разбрасывая их по всем направлениям, и там, где эти облака проносятся, снег заваливает пропасти, сравнивает провалы, так что существующая дорога совершенно исчезает, а поскольку никакие столбы ее не обозначают, то путешественник, достаточно отважный, чтобы странствовать по Кавказу с декабря по март, ежеминутно подвергается опасности провалиться в ущелье глубиной в две или три тысячи футов, тогда как он полагает, что его экипаж находится посреди дороги.
Достаточно двух или трех снежных дней, чтобы дорога стала непроходимой.
Как раз в таком положении оказались мы, и потому возникла необходимость использовать осетин, встретившихся на нашем пути.
Однако осетины находятся в слишком хороших отношениях со снегом, чтобы всерьез бороться с ним. В действительности, они двигают руками, лишь находясь под непосредственным наблюдением смотрителя; однако стоит ему отвернуться от них, чтобы пойти наблюдать за другими рабочими, которые трудятся на версту подальше, как лопата и заступ отправляются на отдых, откуда хозяева возвращают их лишь с большой неохотой.
В трех верстах от Кайшаура мы встретили русскую легкую почту, то есть обычный каретный кузов, снятый с колес и поставленный на полозья; порой, если дороги делаются непроходимыми и для саней, русская легкая почта принимает форму обычного всадника, который иногда бывает вынужден превратиться в пешехода.
Почту везли три лошади, запряженные цугом, а так как она спускалась по крутому склону Крестовой горы, то ее придерживали сзади пять или шесть человек, не давая ей ехать чересчур быстро.
Мы поинтересовались у курьера состоянием дороги, но он в ответ лишь состроил весьма неутешительную гримасу; наконец после настойчивых расспросов он сообщил нам, что в трех-четырех верстах от того места, где мы находились, слышался какой-то грохот, который, по его мнению, произвела лавина, завалившая у него за спиной дорогу.
Поделившись с нами этими сведениями, он продолжил свой путь, оставив нас весьма обеспокоенными своим будущим.
И в самом деле, нам с трудом удалось проехать четыре версты от Кайшаура: у нас ушло более двух часов, чтобы преодолеть это расстояние, так как уже на второй версте появилась угроза, что шесть наших лошадей не повезут нас дальше, и к ним пришлось присоединить еще четырех волов, тянувших не только сани, но и лошадей.
Нашему ямщику, а точнее, нашим ямщикам пришлось идти пешком по краю пропасти, щупая дорогу железными палками. К полудню мы не проехали еще и половины дороги, которую нам предстояло преодолеть, а подъем все еще продолжался.
Ямщики сомневались, что нам удастся приехать в Коби до наступления ночи.
– Если мы туда приедем, – каждый раз говорили они.
Это «если мы туда приедем» требовало разъяснений.
Калино с огромным трудом удалось добиться их от ямщиков, чьи предсказания оказались весьма неутешительными.
– В два часа начнется туман, а с ним, вероятно, и метель.
Теоретически я знал, что такое метель, но она не была известна мне на практике, ведь метель в Темир-Хан– Шуре нельзя было считать настоящей.
На этот раз я находился в подходящих условиях для того, чтобы свести с ней знакомство.
Однако в голову мне пришла дурная мысль, что ямщики сказали это с целью напугать нас, и я приказал им ехать вперед.
Они повиновались, но дали нам напоследок совет: хранить в пути полнейшее молчание.
Поскольку у меня есть склонность просвещаться, я поинтересовался у них, чем вызван такой совет.
Как выяснилось, они опасались, что если мы будем громко разговаривать, то сотрясение воздуха, произведенное нашими голосами, сорвет со склона какую-нибудь снежную глыбу, и она, катясь вниз, может быстро превратиться в лавину, которая, двинувшись, естественно, на тех, кто ее пробудил, безжалостно поглотит нас.
Мне показалось, что в этом было куда больше суеверия, чем правдоподобия, но ведь такие же разговоры я слышал в Швейцарии, и, когда теперь на другом конце света мне довелось встретиться с тем же укоренившимся мнением, это поразило меня.
Впрочем всякое более или менее глубокое убеждение, пусть даже и суеверное, воспринимается в зависимости от обстоятельств, в каких ты находишься. Тот, кто не поверит в него, сидя у камина в своей гостиной, поставив ноги на подставку для дров, завернувшись в халат и держа в руках газету, будет смотреть на все иначе, находясь в одном из ущелий Кавказа, на сорокапятиградусном склоне, на краю пропасти, когда снег валит на голову и лежит под ногами.
Независимо от того, поверили мы этому или нет, нам, тем не менее, показалось разумнее хранить молчание.
Впрочем, предсказание ямщиков сбылось; но, видимо, чтобы не заставлять нас ждать, туман начался не в два часа дня, а около часа. За пять минут он заволок все кругом.
По прошествии этих пяти минут мы видели уже только крупы двух лошадей, запряженных в наши сани.
Остальные четыре лошади и все четыре быка терялись в тумане.
Было темно и холодно, ветер яростно свистел в ушах, и сквозь этот мрак и этот свист до нас доносился только нежный серебристый звон колокольчика, подвешенного к чересседельнику лошади, которая шла в оглоблях.
Через минуту мы были вынуждены остановиться. Без предварительного прощупывания дороги наши ямщики больше уже ни за что не ручались.
Звон колокольчика прекратился, но мы услышали звон церковного колокола, поднимавшийся из глубины ущелья и докатывавшийся до нас.
Я спросил у одного из наших конвойных, откуда мог исходить этот звон, столь грустный, столь печальный и в то же время столь утешительный посреди снежной пустыни, в которой мы находились.
Он ответил мне, что звонили в деревне, расположенной на берегу небольшой реки Байдары.
Признаюсь, что я испытал поразительное чувство, слыша дрожащие звуки этого колокола, доносившиеся до нас среди этой страшной пустоты, этой ужасной беспредельности, в которой мы были так же затеряны и в которую мы были так же погружены, как если бы оказались среди бегущих волн океана.
На этот нежный и печальный призыв человеческого сострадания к Божьему милосердию ветер отвечал еще более пронзительным завыванием; плотное облако снега обрушилось на нас: мы оказались посреди урагана, посреди вихря.
Последний проблеск света исчез окончательно.
Конвойные столпились вокруг наших саней. Для чего они так поступили? Чтобы защитить нас от урагана или потому, что в опасности человеку естественно искать соседства с другими людьми?
Я поинтересовался, сколько верст нам осталось до Коби.
Оказалось, что впереди еще было девять верст: это приводило в отчаяние.
Ветер дул с такой яростью, снег обрушивался на нас с такой силой, что быстрее чем через четверть часа он доходил лошадям уже до колена. Было очевидно, что если мы останемся здесь еще на час, снег будет нам по грудь, а через два часа поднимется выше головы.
Ямщики не возвращались. Несмотря на данный ими совет не говорить, я стал громким голосом звать их, но тщетно: они не откликались. Не заблудились ли они, не упали ли в какую-нибудь пропасть?
Правда, посреди подобного содома, в котором смешиваются все стенания природы, человеческий голос самый слабый из всех звуков.
И тогда я решил испытать, не будет ли слышен мой карабин лучше, чем мой голос, но едва я выказал свое намерение, как десять рук потянулись ко мне для того, чтобы помешать исполнению этого замысла: уж если голос мог вызвать сход лавины, то куда большее действие способен был произвести ружейный выстрел.
Я пояснил свой страх в отношении наших ямщиков и спросил у конвойных, не согласится ли кто-нибудь из них за вознаграждение в три-четыре рубля отправиться на поиски пропавших.
Вызвались двое. Мне показалось, что лучше будет отправить двоих вместо одного: по крайней мере, если произойдет что-нибудь непредвиденное, один сможет прийти на помощь другому.
Через четверть часа они вернулись и привели с собой ямщиков.
Как выяснилось, дорогу завалила страшная снежная лавина; это ее шум слышал почтовый курьер.
Невозможно было сохранять надежду ехать дальше.
Мы с Калино стали совещаться.
Обсуждение было непродолжительным.
Вслед за возможным я пойду куда угодно.
Перед лицом невозможного упорство превращается в нелепость.
И я дал приказ вернуться в Кайшаур.
Три дня спустя я был в Тифлисе; там меня считали замерзшим в снегах и рассчитывали отыскать только весной.
Что же касается Тифлиса, то погода все это время не менялась там ни на минуту: в городе по-прежнему было двадцать градусов тепла и по-прежнему было голубое небо.
В мое отсутствие приходила депутация французской колонии, чтобы узнать, приму ли я от моих соотечественников приглашение на обед и бал.
Я ответил, что это приглашение будет встречено с благодарностью.
И обед, и бал состоялись, к великому удовольствию пригласивших и приглашенного, в воскресенье 2 января 1859 года по нашему стилю (русские и грузины, как известно, отстают от нас на двенадцать дней).
Я рассчитывал ехать в следующий четверг, но человек предполагает, а Бог располагает.
XLIX. ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА. ВОДОСВЯТИЕ
Наш отъезд был назначен на 29 декабря по русскому календарю, то есть на 10 января по французскому стилю, но, явившись 28-го к князю Барятинскому, чтобы попрощаться с ним, я услышал от него категоричное заявление, что он как кавказский наместник не позволит мне ехать до тех пор, пока я не встречу с ним Новый год.
Встретить Новый год в России означает провести вместе в одном и том же зале ночь с 31 декабря на 1 января и находиться рядом, когда часы бьют полночь.
Князь попросил меня передать приглашение и Муане.
Я стал приводить в качесте возражения намеченную мной поездку в Эривань, где генерал Колюбакин ожидал нас к 5 января.
Однако Фино взялся написать генералу Колюбакину, что меня задержал князь Барятинский; в итоге, с приятным чувством поддавшись совершенному надо мной насилию, я подчинился и пообещал князю остаться.
Эта задержка ставила под угрозу поездку в Эривань и задуманную мною прогулку к горе Арарат. Со времени моего приезда в Тифлис погода была чересчур хороша, чтобы в такую пору года подобная ясность неба продолжалась еще долго, а день или два снегопада сделали бы поездку невозможной из-за Делижанского ущелья и скверных дорог вокруг Александрополя.
Предчувствие меня не обмануло. Днем 31 декабря прекрасное лазурное небо, улыбавшееся нам пять недель, начало бледнеть и хмуриться.
Однако это было лишь предвестие опасности, и, возможно, все еще могло обойтись благополучно.
В десять часов вечера, в назначенное время, мы подъехали к дому князя.
По обе стороны парадной лестницы, на каждой ее ступени, стояли по два казацких урядника из княжеского конвоя.
Мне никогда не доводилось видеть ничего более щегольского, чем этот двойной ряд мундиров.
На голове у каждого урядника была белая папаха, одет он был в белую черкеску с патронными гнездами золотого или вишневого цвета, а на поясе носил кинжал и пистолет с серебряной рукояткой и шашку в сафьяновых ножнах, вышитых золотом.
Проходя между двумя подобными шеренгами, мы в своих черных фраках выглядели чрезвычайно унылыми и бесцветными, но увиденное нами на лестнице оказалось лишь великолепным предисловием к чудесной поэме.
Залы дворца наместника были наполнены грузинами в национальных нарядах, великолепных по покрою, цвету и изяществу, и женщинами в сверкающих платьях, с длинными вуалями, шитыми золотом и грациозно ниспадающими с бархатной повязки, которая опоясывала голову.
Оружие сверкало за поясами мужчин, бриллианты сверкали на головах женщин. Мы отступили во времени, перенесясь в шестнадцатый век.
Элегантные мундиры русских офицеров и очаровательные дамские туалеты, при посредстве г-жи Бло прибывшие из Парижа, дополняли это ослепительное зрелище.
Лишь несколько фраков черными пятнами выделялись на этом разноцветье.
Разумеется, мы с Муане были двумя такими пятнами.
Князь Барятинский принимал гостей в залах своего дворца, проявляя ту любезность вельможи, какую за тысячу лет выработали его предки. Он был в русском мундире, с лентой и звездой ордена Святого Александра Невского и с Георгиевским крестом.
Князь был одет едва ли не проще всех в этом собрании, однако стоило вам войти сюда, как вы сразу ощущали, что он здесь властелин, и не столько по тому, какие ему оказывали почести, сколько по манере, с какой он их принимал.
Излишне добавлять, что здесь находились самые красивые и самые грациозные тифлисские дамы. Однако скажем мимоходом, что там присутствовали две или три европейские дамы, имена которых я назвал бы, если бы не боялся встревожить немецкую скромность, и которые даже в своих современных туалетах, ставящих их в невыгодное положение, ни в чем не уступали грузинкам, славящимся своей красотой.
До полуночи гости прогуливались по залам и беседовали. Несколько друзей дома удалились в персидский кабинет князя и любовались там его прекрасным оружием и великолепным столовым серебром.
За несколько минут до полуночи в залы вошли слуги с подносами, заполненными бокалами для шампанского, в которых сверкало, словно жидкий топаз, золотистое кахетинское. Здесь считается неприличным пить по случаю наступления Нового года иностранное вино, пусть даже французское.
Я обратил внимание, что один бокал приходился не менее чем нг десять человек. В Грузии принято ставить на стол один бокал или одну кулу, даже если за ним собираются десять сотрапезников; здесь пьют обычно из больших серебряных чаш и из круглых ложек с длинной ручкой, которые напоминают наши суповые половники и на дне которых, как я уже говорил, прикреплена непонятно зачем голова оленя с позолоченными подвижными рогами.
С первым ударов часов, отбивавших полночь, князь Барятинский взял бокал, сказал несколько слов по-русски, выражавших, как мне показалось, пожелание долгой жизни и счастливого царствования императору, прикоснулся губами к бокалу и передал его даме, находившейся рядом с ним.
Те, кто стоял возле подносов, протянули руку, взяли бокалы, в свою очередь прикоснулись к ним губами, а затем передали соседу или соседке, сопровождая это действие пожеланием счастья в Новом году.
Потом друзья и родственники обнялись.
Минут через десять объявили, что ужин подан.
Было накрыто примерно шестьдесят столов; князь сам приглашал мужчин, которых он хотел видеть за своим столом, и указывал каждому, какую даму тот должен взять под руку. Я тоже получил такое приглашение, сопровождаемое именем г-жи Капгер, супруги тифлисского губернатора.
Это была одна из тех трех или четырех европейских дам, имена которых я не назвал выше из опасения уязвить их скромность, но, поскольку теперь речь идет уже не только о красоте, я называю ее имя, принадлежащее одной из самых остроумных и самых грациозных особ на свете.
Такое же приглашение, как и мне, было сделано Муане, но он, не зная дамы, которая была ему назначена, предоставил заботу проводить ее к столу другому кавалеру, а сам, заметив в углу князя Уцмиева, нашего бакинского знакомца, расположился вместе с ним за отдельным столом.
Около двух часов ночи все разъехались. Князь носит траур по своей матери, которую он горячо любил, и не устраивает никаких официальных приемов, кроме обязательных.
Покидая князя, я, несмотря на его настойчивые просьбы остаться до 6 января, то есть до Водосвятия, попрощался с ним, ибо у меня было твердое решение ехать на другой день утром.
Однако два обстоятельства помешали моему решению осуществиться.
Во-первых, всю ночь шел снег.
А во-вторых, Муане, вставший еще до рассвета, обдумывал рисунок, который должен был представлять зал князя Барятинского в ту минуту, когда часы бьют полночь и все пьют за счастливый Новый год и обнимаются.








