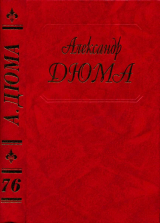
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
Из-за нашей европейской чувствительности первые куски прошли с некоторым трудом, но, признаться, следующие глотались уже гораздо легче.
Решительно, нужно потратить куда больше труда и времени на то, чтобы вознести существо, горделиво называющее себя подобием Божьим, из животного состояния в человеческое, чем на то, чтобы низвергнуть его из человеческого состояния в животное. И хуже всего было то, что, умирая от голода, я в конце концов счел курятину и хлеб превосходными.
А в это время, точно так же как накануне неизвестно откуда явился человек с курицей, в уничтожение которой я внес свой посильный вклад, другой человек, пришедший, вероятно, из того же места, что и первый, вошел в конюшню, держа в руках кувшин вина.
Выше уже было сказано несколько слов о прекрасном легком мингрельском вине, пять или шесть стаканов которого я выпил на Молитской станции. И теперь я поступил с вином так же, как турок поступил с курицей: я им завладел; но, следуя поданному мне примеру человеколюбия, я сделал это с намерением поднести его своим сотрапезникам как дань уважения.
К несчастью, половину компании составляли турки: они вежливо, но твердо отказались от моего предложения.
Другая половина приняла его.
Я потребовал второй кувшин, третий.
Это я-то, кто никогда не пьет вина!
Дело в том, что я был совсем не прочь напиться.
Время тянулось для меня так же медленно, как для изнывающего от своего однообразного одиночества узника, которому пришли сообщить, что его вскоре подвергнут пытке.
«Хорошо, – отвечает он, – по крайней мере, хоть на минуту будет развлечение».
Прошел час. Я один выпил целый кувшин вина, но, осушив этот кувшин, опьянел не больше, чем если бы выпил равное количество воды.
Однако должен признаться, что я повеселел.
Тем временем турок, который оказался хлеботорговцем из Ахалциха, и его люди оседлали лошадей, взяли в руки оружие и каждый из них весьма картинно прицепил его к своему поясу.
Выглядели они очень грозно.
Особенно грозным видом отличался их предводитель: его вооружение составляли кинжал, шашка и пистолет– тромблон с ружейным прикладом, искусно инкрустированным слоновой костью и перламутром, а сверх всего еще какой-то непонятный тесак в форме полумесяца, висевший у него за спиной, словно маятник часов.
Во Франции он показался бы нелепым.
Но здесь, в Мингрелии, поскольку он был прямодушен, поскольку в нем ощущалась подлинная решимость защищать себя, он казался просто-напросто страшным, и у меня нет сомнений, что он произвел бы такое впечатление на тех, кто вознамерился бы напасть на него.
Турок направлялся в Поти, и мы дали друг другу слово встретиться в этом городе.
Он и три его спутника сели на коней и уже через минуту скрылись из виду.
Все птицы улетели одна за другой, и на месте остались лишь три наши совы, которые никак не могли решиться уехать.
Наконец рассвело. Рискуя десять раз сломать себе шею, мы погрузились в лодку; на этот раз, поскольку не было известно, к которому часу нам удастся добраться до Поти, мы купили хлеба и вина, так что материальная сторона нашей жизни была обеспечена.
Не выказывая свои опасения столь явно, как это делал наш милый розовый князь, мы все же испытывали некоторое беспокойство: нам следовало прибыть в Поти утром 21-го, а было уже 22-е, и мы могли попасть туда лишь после обеда; возможно, князь Барятинский еще не прибыл, но пароход, несомненно, уже ушел.
Я не решался даже подумать о такой перспективе, стоило мне только вообразить печаль Муане, так торопившегося снова увидеть Францию.
Нам не раз говорили в Марани и не раз повторяли в Шеинской, что расписание парохода не является абсолютно точным и, несмотря на то что его прибытие объявлено на 21-е, он вполне может прибыть 22-го, а отплыть 23-го; такое предположение делало наш отъезд возможным, но Муане утверждал, что на этот раз, исключительно назло ему, пароход будет точен, и, хотя и пытаясь обнадежить его, я, признаюсь, в глубине души придерживался того же мнения.
Но кто мог подозревать, что у нас уйдет тринадцать дней на то, чтобы проделать семьдесят пять льё?
И словно для того, чтобы помучить нас, скопцы, которые, желая отправиться накануне в девять часов утра, как это было удобно им, уверяли, что мы будем в Поти на следующий день около десяти-одиннадцати часов утра, теперь заявили, что из-за слабого течения реки они не обещают нам быть там ранее двух часов.
Мы знали их уже достаточно давно, чтобы понимать, что говорить с ними бесполезно, а если даже и сказать им что-нибудь, они все равно не сделают ни одного лишнего удара веслом.
К тому же сам я испытывал то утреннее недомогание, какое бывает у человека, который не спал всю ночь и в тот неясный час, когда его посреди холодных речных туманов застал рассвет, тщетно пытается согреться.
Так что Муане я предоставил возможность роптать, нашим скопцам – грести как им угодно, а Григорию, не имевшему больше дроби, – впустую переводить порох, стреляя по уткам.
Эти проклятые птицы, хотя они и не слывут за чудо ума в мироздании, казалось, догадывались, что мы можем производить шум, но ничего другого сделать не в состоянии: вместо того чтобы улететь, как накануне, далеко за пределы досягаемости наших ружей, они играли и резвились вблизи нас, выстраивались в ряд, просто чтобы освободить нам дорогу, и с любопытством, высунув из воды красновато-коричневые, с золотым отливом шеи, смотрели на нас, когда мы проплывали мимо.
Дело дошло до того, что изящные белые цапли, чьи перья идут на плюмажи для касок наших офицеров и эгретки для шляпок наших дам, по-видимому нутром почувствовали, что мы уже не представляем для них опасности, и шли параллельно нам по берегу, передвигаясь на своих длинных ногах быстрее лодки и словно говоря нам: «Будь у нас желание, мы, даже не пуская в ход крылья, появились бы в Поти прежде вас».
И, судя по тому, с какой скоростью мы плыли, это была правда: наши чертовы гребцы, казалось, сговорились, чтобы мы опоздали на пароход.
Я был разъярен тем более, что наш путь пролегал по прекраснейшей местности, к которой Муане из-за своей озабоченности оставался равнодушен. По левую руку от нас виднелись горы, покрытые снегом ослепительной белизны и под первыми лучами солнца принимавшие нежно-розовую окраску, словно в первый день творения. По обоим берегам Фазиса леса становились все гуще, образуя непроходимую чащу, в которой, чувствовалось, кишели всякого рода дикие животные.
В другое время Муане не выпускал бы из рук свой карандаш и сделал бы двадцать рисунков.
Что же касается меня, то мне не было нужды делать заметки, ибо все окружающее запечатлевалось в моих глазах и в моей памяти.
Словно сама история, все было безмолвно на берегах Риона. Хотя ему лучше было бы называться Фазисом, чтобы его осветил луч античности – тот луч, что блистал здесь более трех тысяч лет тому назад.
Наконец солнце полностью поднялось; под его нежным теплом мы прилегли и немного вышли из своего оцепенения.
Неожиданно нам повстречалась лодка, первая с того времени, как мы выехали из Марани. Она поднималась по Риону и плыла мимо нас.
Мы спросили у тех, кто сидел в ней, сколько еще верст нам осталось плыть до Поти.
– Тридцать, – ответили они.
Это составляло семь льё. Мы делали одно льё в час, так что нам предстояло плыть еще семь часов.
Было уже полседьмого утра; следовательно, мы не могли прибыть в Поти ранее трех или четырех часов пополудни.
И, если только пароход не проявит невероятной услужливости, к этому времени он уже отплывет.
О, как я жалел о своем тарантасе, о ямщиках, которых можно было наказать, если они ехали недостаточно быстро, об оврагах, в которые мы спускались, словно лавина, о каменистых и шумных горных реках, русла которых мы пересекали, и даже о песчаном море Ногайских степей, которое, по крайней мере, имело берега!
Тогда как на этой реке с поэтическим названием, но почти неощутимым течением, нам приходилось двигаться по прихоти двух медлительных гребцов, являвшихся одновременно символом бессилия и его воплощением!
Между тем часы проходили; солнце, восход которого мы видели, достигло своего зенита и начало клониться к западу, освещая все время один и тот же пейзаж: великолепные горы, девственные и необитаемые леса, которым я начал предпочитать холмистые берега Луары.
Наконец около трех часов дня мы стали различать сквозь огромный просвет Фазиса – начиная с утра река явно стала расширяться – если и не равнину, то огромное болото, окаймленное тростником, и, хотя моря еще не было видно, его близость, тем не менее, уже ощущалась.
Мы круто повернули налево, в своего рода канал, огибавший какой-то остров и соединявший два рукава Фазиса.
Невозможно представить себе ничего прелестнее, даже в зимнее время, чем этот канал, окаймленный деревьями причудливой формы, ветки которых сплетались в виде свода над скользящими по воде лодками.
Вскоре мы оказались в каком-то озере и в версте перед собой заметили реи судна.
Мы закричали от радости: пароход еще не отплыл!
По мере продвижения вперед мы искали под этими реями трубу, но тщетно; потом в голову нам пришло, что Поти – это морской порт, а в морском порту не может находиться лишь одно судно.
И в самом деле, вскоре стало понятно, что реи принадлежат не пароходу, а небольшому торговому бригу водоизмещением от двухсот пятидесяти до трехсот тонн.
Что же касается парохода, то, насколько хватало глаз, и следа его видно не было.
У меня оставалась лишь одна надежда: я читал, не помню где, быть может у Аполлония Родосского, что на Фазисе есть мель, непреодолимая для судов сколько– нибудь значительной осадки; возможно, наш пароход стоит за этой мелью и мы увидим его с какой-нибудь другой точки.
А пока отдадим должное правдивости автора поэмы об аргонавтах, удостоверив точность, с какой он описывает устье Фазиса:
К ночи, знаниям Арга доверясь, приплыли герои К широководному Фазису, Понта конечным пределам. Рею и парус убрав, их поспешно вниз положили, Мачту, сперва наклонив, туда же в гнездо опустили. После на веслах ввели корабль в речную стремнину. Перед ними с журчаньем поток расступился. А слева Виден был могучий Кавказ с Китаидой Эета.
После они увидали дол и ну Ареса и рощу Бога священную, змей где руно охранял неусыпно. В реку стал Эсонид из кубка лить золотого Чистым вином возлияния, меду подобные вкусом, Гее, подземным богам и душам усопших героев. Их преклоненно молил он на помощь героям явиться И принять якоря корабля своим благостным сердцем. Вслед за ним и Анкей такое вымолвил слово: «Мы пришли к Колхидской земле и Фазийскому устью. Ныне настала пора о деле задуматься нашем; Либо мирно мы захотим поладить с Эетом, Либо иной какой-нибудь путь придется нам выбрать!» Так он сказал. Ясон, советам Арга внимая, Им приказал увести корабль с якорями поглубже. Он вошел в болото заросшее с берегом рядом. Там в ночной темноте на ночлег разместились герои. Эос, которую ждали с тревогой, вскоре явилась.[17]
За исключением города Эя и золотого руна, висящего в роще, это описание точно еще и сегодня.
Кавказ все на том же месте; долина Ареса – это обширная топкая равнина, где возвышается Поти, а лес стоит такой же густой, как и во времена Ясона. Мы проплыли по речной стремнине и, приближаясь к устью Фазиса, обратили внимание на заросшее болото, где аргонавты спрятали свой корабль.
Однако как Кутаис может быть Эей, если город Эя был виден в устье Фазиса и высился над ним?
Впрочем, дорогие читатели, это не мое дело: я ведь не ученый, а просто кое-что знаю, только и всего.
Так что улаживайте эту несуразицу с д’Анвилем.
Наконец наш каюк – так называют лодки, на которых перевозят людей и грузы по Риону, – причалил к берегу, один из лодочников сошел на землю, подтянул лодку, и мы наконец-то ступили на столь желанный Потийский полуостров, для начала увязнув по колено в тине.
Мы немедленно справились о пароходе.
Он пришел 20-го и отплыл 21-го, то есть накануне.
Так что наш отъезд из Поти откладывался на усмотрение Господа Бога.
Опустив голову, я направился к десяти или двенадцати деревянным лачугам, из которых состоял город.
На Муане я не осмеливался смотреть.
LX. ПОТИ, СТАВШИЙ ГОРОДОМ И МОРСКИМ ПОРТОМ ПО УКАЗУ АЛЕКСАНДРА II
Впрочем, идти с опущенной головой оказалось совсем неплохо, поскольку, идя с опущенной головой, приходилось смотреть себе под ноги.
Мне неизвестно, что представляла собой долина Ареса во времена Ясона, но теперь это болото из зыбкой тины, в которой вы рискуете полностью скрыться, если останетесь на одном и том же месте всего лишь на полчаса.
Подняв глаза, чтобы перепрыгнуть через какую-то рытвину, я увидел перед собой, по другую ее сторону, розового князя, его нукера и трех его людей.
Но великий Боже! В каком состоянии находилась его прекрасная белая черкеска: она вся была испещрена пятнами грязи!
Это был теперь не наш прекрасный розовый князь из волшебной сказки, а князь-леопард.
Он пребывал в подавленном настроении: князя Барятинского на пароходе не оказалось.
Но все же в этом отсутствии было и утешительное для розового князя обстоятельство, ведь если бы брат наместника там оказался, то он, вероятно, уже выехал бы из Поти ко времени приезда туда князя.
Князь Нижарадзе чрезвычайно обрадовался нашему появлению и выразил надежду, что мы, естественно, будем составлять ему компанию вплоть до прибытия следующего парохода.
Это заставило меня предположить, что развлечений в Поти не так уж много.
Я спросил у князя, как он проделал путь и в котором часу приехал.
Князь и его свита прибыли в одиннадцать часов вечера: князь и нукер – верхом, а трое его людей – пешком.
– А разве вы не могли достать для них лошадей? – спросил я его.
– Не знаю, были ли лошади, – отвечал он, – но, если бы даже они и были, эти люди не захотели бы ехать верхом.
– И почему же они не захотели бы ехать верхом? – поинтересовался я.
– Потому что их повинность состоит в том, чтобы идти пешком, – ответил князь.
Не поняв, что он имеет в виду, я попросил его разъяснить мне смысл слова «повинность» и узнал следующее.
Князья имеют в своем окружении определенное число вассалов, которые помимо поземельной подати и оброка обременены еще и личными повинностями.
Одни должны следовать за князем верхом – это их повинность.
Другие должны следовать за ним пешком – это их повинность.
Одни должны шить ему сапоги на левую ногу – это их повинность.
Другие должны шить ему сапоги на правую ногу – это их повинность.
Одни должны прогонять мух, когда он ест.
Другие должны чесать ему пятки, когда он спит.
И ничто на свете не заставит того, кто должен следовать за князем верхом, идти за ним пешком.
Ничто на свете не заставит того, кто должен следовать за князем пешком, ехать за ним верхом.
Никакая сила не принудит того, кто должен шить сапог на правую ногу, сшить сапог на левую ногу.
Никакая сила не принудит того, кто должен шить сапог на левую ногу, сшить сапог на правую ногу.
И нет таких угроз и наказаний, которые заставили бы гонялыцика мух чесать пятки, а чесальщика пяток гонять мух.
Князь не имел при себе своего гонялыцика мух, поскольку сейчас стояла зима.
Зато чесальщик пяток при нем был, так как чесать пятки ему следовало в любое время года.
В Мингрелии и Имеретии, где нет дорог, по которым могли бы проехать экипажи, женщины выезжают верхом, как и мужчины, и как знак своего общественного положения носят длинные плащи.
Плащ княгини Дадиан, которую я имел честь видеть в Петербурге, был красный.
Точно так же, как мужчины имеют свиту – нукеров и сокольников, верховых и пеших, у женщин есть своя свита.
Свита княгинь состоит, как правило, из исповедника и двух дам, а также из пяти-шести вооруженных слуг, как пеших, так и конных; в случае необходимости священники тоже стреляют из ружей.
Княгиня Дадиан имела двенадцать придворных дам, сопровождавших ее почти всегда.
Кроме того, она имела две резиденции: зимнюю и летнюю.
Зимней резиденцией был Зугдиди, а летней – Горди.
Мингрелия – это небольшое княжество из тридцати тысяч семей, в котором около ста двадцати тысяч подданных.
К Мингрелии следует причислить часть Сванетии, именуемую Дадиановской.
Другая часть Сванетии называется Вольной.
Наконец, есть еще третья часть Сванетии, принадлежащая князьям Дадешкелианам.
Один из этих князей два или три года тому назад убил князя Гагарина, кутаисского губернатора.
В этой части Кавказа, прилегающей к Эльбрусу, встречаются случаи необычайно жестокой вражды.
Другой князь Дадешкелиан, желая доставить неприятность своему двоюродному брату, поджег ночью его дом.
В этом пожаре сгорела бабушка его противника.
Лишь на следующий день он сообразил, что бабушка его противника приходилась бабушкой и ему самому.
Но было поздно: старуха погибла.
Сванеты могут жить только в горах: русские попытались сформировать из них милицию, но, едва оказавшись на равнине, милиционеры умерли от различных болезней.
Сванеты сохраняют христианские обычаи. Русские крестили некоторых из них, и есть предположение, что в одной из их церквей погребена царица Тамара.
Как и у обитателей кантона Вале, среди них встречаются больные кретинизмом и зобом.
Между Мингрелией и Абхазией расположена небольшая свободная местность, в которой проживает примерно две тысячи семейств.
Называется она Самурзаканью.
Там сохраняется во всей силе обычай кровной мести.
Три или четыре года тому назад один старый местный князь женился на юной девушке; однако у него был сын почти одинаковых лет с его женой, который, подобно дон Карлосу, влюбился в свою мачеху, а она, по-видимому, не осталась равнодушна к его любви.
Старый князь, вовремя предупрежденный об этой кровосмесительной связи, отослал жену к ее семье.
Такое оскорбление вызвало кровную месть.
Случилось все это самое большее два или два с половиной года тому назад; старый князь, его жена и его сын еще живы.
Однако тридцать четыре человека с обеих сторон уже убиты.
Говоря о сванетах, мы забыли упомянуть одну подробность, связанную с их нравами: когда у них родится столько дочерей, сколько им хотелось иметь, они всех появляющихся затем на свет девочек убивают, чтобы избежать хлопот и издержек на их воспитание.
По другую сторону Мингрелии расположена Гурия, одна половина которой принадлежит русским, а другая – туркам; обитатели русской части носят тюрбан в сочетании с военной шинелью. Это кавказские тирольцы. Они поют фальцетом, и гортанные переливы их голоса похожи на швейцарские.
Та часть Гурии, что принадлежит Турции, находится, естественно, во враждебных отношениях с русской частью; в итоге даже самые близкие родственники ненавидят друг друга и ссорятся между собой.
Все это, как нетрудно понять, есть следствие весьма сомнительного просвещения и глубокого невежества. Во время последней войны с Россией доморощенные политики из Марани спорили по поводу происходивших в мире событий, и один старый, почти столетний князь, здешний Нестор, взял слово и сказал:
«Французы, как нам известно, дерутся хорошо, но это народ легкомысленный, и мы без труда с ними справимся.
Англичане – это торгаши, деньги для них все, это тоже известно; так что с помощью денег мы заставим их сидеть смирно.
Что же касается австрийцев, то на них вообще не стоит обращать внимания, ибо за те девяносто лет, что я себя помню, о них никогда и разговора не было».
При жизни князя Дадиана – мужа мингрельской владетельницы, с которой я виделся в Петербурге, – главный праздник года, Пасха, отмечался вполне феодальным образом. Правящий князь созывал местных князей, и они все вместе пировали в течение трех дней, сидя под шатровым навесом в турецком стиле. Располагались они в середине этого шатра.
В круговых галереях, служивших оградой шатра, размещались дворяне и помещики.
Дворян и помещиков окружало кольцо, состоявшее из вассалов.
Дальше располагались крестьяне разных разрядов.
Каждый, какого бы звания он ни был, приносил с собой хлеб, вино и мясо.
Так что празднество было великолепно и в то же время обходилось дешево.
Во время праздника устраивались бои, сражения, состязания в беге и лошадиные скачки. Все мингрельцы, мужчины и женщины, являлись на него в своих лучших нарядах.
Следует сказать, что мингрельские женщины – особенно блондинки с черными глазами и брюнетки с голубыми – самые прекрасные создания на земном шаре.
Выше мы описали похороны бедняка, увиденные нами в Шеинской; что же касается княжеских похорон, то они помпезны.
Если покойник был убит на войне или просто с оружием в руках, его приходят поздравлять с такой прекрасной смертью целые депутации; затем, закончив поздравлять покойника, поздравляют его семью.
Стенания тянутся бесконечно, и, за исключением княжеских и знатных фамилий, вдовы носят траур всю жизнь.
Когда умер последний Дадиан – отец того очаровательного мальчика, что подарил мне свою шапочку, – каждый родственник и друг покойного должен был входить в церковь, поддерживаемый двумя людьми и на подгибающихся ногах, словно падая в обморок; он должен был вопить, кричать, бить себя в грудь, рвать на себе платье – короче, выказывать все возможные признаки горя.
Следствием этого обычая стал один забавный случай.
Сосед покойного, правящий князь Абхазии Михаил Шервашидзе, хотя он и был его смертельным врагом, считал себя в качестве родственника обязанным разделить эту печаль, по крайней мере внешне. Поддерживаемый двумя людьми, князь вошел в церковь и всеми полагающимися в таких случаях кривляньями стал демонстрировать свое горе: он кричал, плакал, вопил.
Внезапно недалеко от церкви послышались восклицания, отличавшиеся большей искренностью: люди князя Шервашидзе приехали на лошадях, украденных у мингрельцев, и хозяева, узнав своих лошадей, потребовали вернуть их; однако они получили от вдовы приказ не настаивать на своем, ибо пошлые частные интересы должны были отступить перед великим несчастьем, постигшим страну.
После Чолокского сражения, в котором мингрельцы и русские под предводительством князя Андроникова разбили турок, победители бросились грабить лагерь паши; некий священник, принимавший участие в сражении и пожелавший принять участие в грабеже, случайно натолкнулся на шатер казначея; в шатре стоял сундук с ключом в замке; священник открыл сундук: он был полон золота.
Сундук был слишком тяжелым, чтобы священник мог его унести; к тому же тогда его увидели бы, а ему этого не хотелось. И потому он принялся запускать руки в золото, набивая им свои карманы и кармашки и сыпля его себе за пазуху. Он успел набрать уже, наверное, тысяч двадцать франков, когда появились солдаты.
– Идите, идите, друзья мои! – крикнул им священник. – Вот золото, берите его сколько вашей душе угодно; что же касается меня, то я стремлюсь к благам не от мира сего.
И он презрительным жестом указал им на сундук, давая знать, что намерен удалиться.
Однако столь редкое бескорыстие тронуло солдат до слез.
– Что ж, отлично! – сказали они. – Вот так молодец священник!
И поскольку одно из самых главных свидетельств симпатии, которые может дать русский солдат, равно как и одна из самых главных почестей, которые он может оказать тому, кого он любит или кем он восхищается, состоит в том, что этого человека качают на руках, солдаты подхватили попа и принялись подбрасывать его под самую крышу шатра.
Но при этом к их великому изумлению произошло нечто совершенно неожиданное: из карманов летавшего вверх и вниз священника хлынули спрятанные там монеты и настоящим золотым дождем посыпались на подбрасывавших его солдат.
Вначале солдаты поверили в чудо и удвоили свое рвение, но затем, увидев, что в какой-то момент золото из попа сыпаться перестало, они начали понимать, что это чудо состояло всего лишь в возвращении украденного.
Шарден, путешествовавший по Персии и Кавказу примерно двести лет тому назад, нашел Мингрелию в семнадцатом веке весьма похожей на ту, какой она остается в девятнадцатом веке.
Он рассказывает, что в его время мингрельский посланник, прибывший в Константинополь со свитой из двухсот невольников и ставший заметной фигурой в турецкой столице, по мере надобности распродавал свою свиту, так что, когда он ехал назад, при нем оставалось всего лишь трое или четверо прислуживавших ему челядинцев.
Шарден добавляет, что однажды, заметив у продавца детских игрушек маленькую музыкальную трубу и, вероятно, находя ее звук приятным или оригинальным, тот же мингрельский посланник купил ее и по пути с базара домой всю дорогу играл на ней.
Шевалье Гамба, чья сестра еще жива и владеет крупными поместьями в Мингрелии, совершил в 1817 и 1818 годах такое же путешествие по Кавказу, какое я проделал там в 1858 и 1859 годах, но в обратном направлении, то есть он ехал из Поти в Баку и из Баку в Кизляр, тогда как я ехал из Кизляра в Баку и из Баку в Поти. Так вот, он рассказывает, что один гурийский князь, придя в восторг от представления, данного в его присутствии немецкими бродячими акробатами, пожаловал им сто арпанов земли и дюжину невольников, с условием, что немцы будут три раза в неделю давать свои представления у него на дворе и научат плясать на веревке тех из его рабов, кто обнаружит способности к этому упражнению.
Однако на чем же я остановился, позволив себе увлечься всей этой болтовней?
Ах да, вспомнил: мы встретили нашего милого розового князя, сделавшегося пятнистым князем.
LXI. ГОСТИНИЦА АКОБА
Князь, прибывший в Поти накануне, уже располагал жильем.
Он нашел себе комнату у лавочника-мясника – не скажу вам, на какой улице, поскольку в Поти еще нет улиц, – чья деревянная лачуга стояла в ста шагах от берега Фазиса.
Она была видна с того места, где мы встретились с князем.
Мясник имел еще одну свободную комнату; я мог бы занять ее один, так как мне нужно было работать, а свою комнату князь готов был разделить с Муане.
Григорий же будет спать где придется; он ведь был здесь своим: тем хуже для него! Кто его просил им быть?
Между тем молодой и красивый подручный мясника, подстерегавший у своей двери путешественников, как паук на краю своей паутины подстерегает мух, заметил, что мы высадились из лодки и беседуем с князем, и, держа в руках свою остроконечную шапку, подошел к нам, чтобы присоединить свои доводы к настояниям князя.
Однако я решительно настаивал, чтобы перед нашим вселением к красавцу-мяснику Григорий условился с ним о цене, ибо я ничего так не боюсь, как лачуг: в них не только гораздо хуже, чем в порядочной гостинице, что естественно, но, как правило, они еще и стоят намного дороже.
Григорий ответил, что это напрасная предосторожность и что грузин неспособен злоупотребить нашим положением.
После Марани это было уже второе с его стороны проявление лени, и в итоге оно принесло нам еще больше вреда, чем первое.
Правда, скопцы, торопившиеся вернуться обратно, торопили нас поскорее выбрать место для выгрузки наших сундуков.
А с сундуками дело обстояло не так уж просто: их было у нас тринадцать.
Так что под предводительством князя Соломона Нижа– радзе мы направились к нашему будущему жилищу.
Обращало на себя внимание, что, в то время как я продолжал величать Нижарадзе князем, Григорий уже стал называть его просто Соломоном.
Я без конца замечал в Грузии подобную фамильярность между низшим и высшим сословиями и все время ей удивлялся.
Мы шли с величайшей осторожностью, выписывая круги, словно лошадь, которую гоняют на корде, переходили по мосткам, переброшенным через сточные канавы, полные воды, и совершали зигзаги почти в четверть льё для того, чтобы преодолеть расстояние в сто шагов по прямой линии.
Повсюду в этой огромной луже копошились свиньи.
Поти – это земной рай для свиней.
На каждом шагу нам приходилось отгонять их ногой или плеткой. Свинья отходила в сторону и, хрюкая, словно говорила: «Чего тебе здесь надо? Ты же прекрасно видишь, что я у себя дома».
И в самом деле, она была здесь у себя дома, причем по самые уши.
Наконец мы прибыли к нашему хозяину Акобу, читайте: Иакову, ибо этот негодяй явно был евреем, так что мы не причиним ему особого вреда, прибавив к его имени букву «И».
Дом его заслуживает отдельного описания. Если вы, дорогой читатель, узнаете его по моему описанию и, узнав, не войдете туда, то я оказал вам услугу.
Если же, узнав его, вы войдете туда, то вы более чем неблагоразумны – вы безрассудны.
Это деревянная лачуга, куда входят по четырем или пяти ступенькам; над этими ступеньками тянется балкон из сосновых досок, без всякого ограждения: вероятно, со временем он будет устроен во всю длину фасада.
В этом фасаде пробиты дверь и два окна; дверь расположена ровно посередине между окнами.
Войдя через эту дверь, вы увидите:
на первом плане, слева, – мелочную лавку,
на первом плане, справа, – питейное заведение;
затем как границу, отделяющую первый план от второго, – столб, на котором висят обрезки мяса;
на втором плане, слева, – тюки,
на втором плане, справа, – груду сушеных орехов, наваленных от пола до потолка;
затем – коридор;
в коридоре – две двери без запоров, закрывающиеся с помощью веревочек и гвоздей.
В этих комнатах с щелеватым полом, выходивших окнами на грязный черный двор, куда хозяйские и соседние свиньи удалялись на ночь, всю обстановку составляли лишь походная кровать, чугунная печка, хромой стол и два деревянных табурета.
Как я уже говорил, комната справа была предназначена мне.
Комнату слева, в которой уже расположился князь, он должен был разделить с Муане.
Каждая из этих комнат стоила десять копеек в день, что было явной переплатой.
Другой фасад дома, украшенный таким же балконом, что и над входом, был обращен к грязной клоаке, пышно именуемой двором.
Бревно, положенное ниже пяти ступенек, вело от них, словно мост, перекинутый через болото, к сараю, служившему конюшней и кухней; сарай занимали лошади постояльцев и какой-то человек, который обосновался там навсегда и с утра до вечера вытапливал бараний жир.
Вот в этом доме нам и предстояло остановиться, вот в этом доме нам и предстояло жить.
Я велел поставить наши тринадцать багажных мест в заднюю комнату лавки, там, где лежали тюки, и дал нашим гребцам шестнадцать рублей, что составляло оговоренную плату, и еще два рубля сверх того.
Однако они стали уверять меня, что мы условились о двадцати четырех рублях.
К счастью, князь Нижарадзе был в курсе нашей договоренности; я подозвал его, он пришел, подтвердил мою правоту и выгнал двух этих мошенников.
Они удалились, обливаясь слезами.
Гнусное племя! К счастью, оно не размножается.
Я расположился в своей комнате и, предчувствуя, что, несмотря на обещанный приход сюда через два дня парового судна, мне предстоит пробыть в этом доме по крайней мере неделю, приготовился продолжать, насколько это было возможно, свое «Путешествие по Кавказу».








