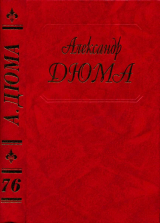
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц)
– О, дела идут к лучшему!
Дела пошли совсем хорошо, когда, разойдясь по комнатам, мы обнаружили войлочные подстилки на своих постелях и свечи в стенных нишах, в то время как нежное и ласкающее тепло, проникая сквозь толстые перегородки печей, распространялось по всему дому.
И тогда мне вспомнилось, что по дороге сюда мы видели, насколько можно было что-либо видеть в темноте, дома, терявшиеся в огромных садах, улицы, обсаженные великолепными деревьями, ручьи, текущие повсюду с тем веселым и непокорным шумом, какой присущ естественным водопадам.
– А ведь в конечном счете Нуха, должно быть, прекрасный городок, – отважился произнести я.
– Да, летом, – ответил Муане.
Я привык к такому ответу. Зябкий характер Муане – чтобы лучше выразить свою мысль, я хочу приложить этот эпитет, чисто физический, к понятию чисто нравственному – так вот, повторяю, зябкий характер Муане отзывался этим возражением на все мои похвалы местностям, через которые мы проезжали.
Правда, он говорил как пейзажист, и в этой постоянной жалобе, которая слышалась от него со времени нашего приезда в Петербург и которую можно было извинить, если только она нуждалась в извинении, тремя или четырьмя приступами лихорадки, ощущалось в равной степени сожаление, что нельзя увидеть листву, и недомогание, вызванное ощущением холода.
После того как в отношении столь неожиданных и столь поздних гостей, как мы, были проявлены все мыслимые заботы, в нашу комнату вошел нукер и поинтересовался, не нужно ли нам что-нибудь еще.
– Все прекрасно, – ответил я, – мы здесь, словно во дворце Махмуд-бека.
– Нам недостает лишь баядерки, – со смехом произнес Муане.
Нукер попросил объяснить слова француза, и Калино перевел их ему на русский язык.
– Сейчас, – ответил нукер и вышел.
Мы не обратили никакого внимания на это двусложное слово, которое в России, а в расширительном смысле и на Кавказе, звучит, словно эхо, после любой вашей просьбы.
Нукер ушел, и каждый из нас стал устраиваться на своем месте.
Муане и Калино заняли самую большую комнату, а я – самую маленькую.
Луна только что взошла, и я видел, как ее лучи слегка касаются моих окон, словно испуганные горящим в комнате светом. Вокруг всего дома тянулся большой балкон. Я вышел на него, чтобы в предвкушении завтрашнего дня полюбоваться пейзажем.
К моему великому удивлению, в глаза мне бросился прежде всего часовой, прохаживавшийся под моими окнами.
Он не мог быть поставлен здесь для охраны нашего багажа, поскольку весь наш багаж внесли в дом.
Он не мог быть поставлен здесь и для оказания почестей моему чину: вспомним, что в моей подорожной я значился в ранге генерала, но ведь никто в Нухе не видел моей подорожной.
Неужели я арестован и являюсь пленником, сам того не зная? Однако это предположение было наименее вероятным из всех возможных.
Поскольку лишь оно одно могло вызывать у меня тревогу, но было при этом маловероятным, я вернулся в комнату, лег в постель и, погасив свечу, заснул сном человека, который ни в чем не может себя упрекнуть, за исключением нескольких глав, посвященных императору Павлу, и при этом вовсе себя за них не упрекает.
Сон этот продолжался минут десять—пятнадцать, как вдруг я услышал, что моя дверь отворилась: раздавшийся при этом шум, каким бы легким он ни был, тотчас разбудил меня.
Я посмотрел в ту сторону, откуда донесся шум, и увидел нашего нукера, сопровождавшего женщину под большим татарским покрывалом: при свете свечи ее глаза сверкали сквозь щель в покрывале, словно два черных алмаза.
– Баядерка! – произнес нукер.
Признаться, сначала я ничего не понял.
– Баядерка, – повторил он, – баядерка!
И тут я вспомнил, как в ответ на произнесенные мной слова «Мы здесь, словно во дворце Махмуд-бека» Муане промолвил: «Нам недостает лишь баядерки».
На что нукер ответил: «С е й ч а с».
Этот славный человек принял пожелание Муане всерьез и привел с собой, причем даже скорее, чем обещало привычное «сейчас», то единственное, чего нам недоставало, чтобы вообразить себя во дворце Махмуд-бека или в раю Магомета.
Однако вовсе не я требовал баядерки, и, следовательно, у меня не было на нее никакого права.
Я поблагодарил нукера и во всю силу легких крикнул:
– Кто желает баядерку?!
– Я! – отозвался Калино.
– Тогда отворите дверь и раскройте объятия.
Дверь напротив моей отворилась, а моя закрылась. Но раскрылись ли объятия Калино так же, как открылась дверь? Вполне вероятно. Что же касается меня, то я снова повернулся к стене и заснул во второй раз, полагая, что святой Антоний чересчур легко удостоился канонизации.
Правда, если верить Калло, баядерки, искушавшие святого Антония, были окутаны покрывалом куда меньше, чем моя.
В первом часу ночи я был разбужен криком петуха.
В этом крике не было бы ничего удивительного, если бы он не раздался так близко от моих ушей, что я вполне мог подумать, будто петух сидит в нише, примыкавшей к изголовью моей постели.
Решив, что нукер, которому пришла мысль впустить в мою комнату баядерку, не сообразил выпустить из нее петуха, вселившегося в пустовавшее помещение и ставшего его главным жильцом, я стал оглядываться по сторонам, намереваясь так или иначе выселить этого беспокойного соседа, не имевшего причин быть привязанным ко мне, как к святому Петру.
Но, насколько можно было судить об этом при свете луны, комната была совершенно пуста.
Если бы в моей комнате были шкафы вместо ниш, я подумал бы, что кто-то из моих спутников возложил на меня обязанность запереть петуха в один из этих шкафов; но такое предположение было еще более невероятным, чем мысль о моем аресте: оно было просто невозможным.
В эту минуту крик послышался во второй раз, а затем стал повторяться, удаляясь каждый раз шагов на сто, пока, наконец, не затих где-то вдали.
Крик раздавался снаружи, но совсем близко от моего окна.
Не часовой ли, увиденный мной, подтверждал таким образом непреклонность, с какой он выполнял обязанности стража? И не были ли крики, затихавшие в бесконечных далях, отзывом его товарищей, этих людей природы, которые, считая петуха символом бдительности, петушиным криком давали знать, что они тоже бдят?
Каждое из этих предположений все дальше и дальше выходило за пределы возможного. Я погружался в полнейшую фантастику.
Бывают такие минуты, такое душевное состояние, когда ничто не представляется в истинном свете. И вот теперь я находился в подобном состоянии и для меня настала одна из таких минут.
Однако на этот раз мне захотелось вникнуть в вопрос поглубже. Я соскочил с постели полностью одетым – такой способ спать имеет, по крайней мере, то преимущество, что не лишает ваших побуждений их естественности, – и вышел на балкон.
Часовой стоял, прислонившись к дереву, завернувшись в бурку, нахлобучив папаху до подбородка, и, казалось, никоим образом не был расположен подражать пению петуха.
К тому же это пение слышалось на уровне моего изголовья.
Подняв глаза, я взглянул на дерево, высившееся рядом с домом, и мне тотчас открылась вся эта тайна.
Мой певец, обладавший превосходным басом, спал, а лучше сказать, бодрствовал, усевшись на этом дереве вместе со всем своим гаремом.
В Нухе еще не изобретены курятники. Каждый петух выбирает себе одно из множества деревьев, покрывающих своей тенью дома, располагается на нем со своими курами, проводит там ночь и спускается оттуда лишь утром.
Возможно, они читали басню Лафонтена «Лиса и виноград» и заняли место винограда, чтобы в свой черед оказаться для кого-нибудь чересчур зелеными.
Обитатели Нухи привыкли к этому пению, разбудившему меня, точно так же как жители предместья Сен– Дени и улицы Сен-Мартен привыкли к шуму экипажей и уже не обращают на него никакого внимания.
Я снова лег в постель, решив поступить так же, как поступают они.
Нельзя сказать, что благодаря этому решению я больше не слышал пения петуха, но, по крайней мере, оно меня не будило.
На рассвете я открыл глаза и в то же мгновение поднялся на ноги.
Что касается воды, то здесь она лилась потоками. Однако начиная от Москвы эта жидкость совершенно несовместима со спальными комнатами. Отсутствие воды и борьба, которую мне приходилось каждый день начинать, продолжать и вести до конца, чтобы добыть ее, безусловно было на всем пути от Москвы до Поти, за исключением нескольких домов, тем, что более всего утомляло меня и приводило в неизбывное отчаяние.
Я не раз вернусь к этой теме, ибо не знаю, как еще предостеречь моих читателей, если их когда-нибудь охватит желание совершить путешествие, подобное моему, относительно кое-каких удобств нашей цивилизации, совершенно неизвестных в России, за исключением больших городов, и неизвестных там даже в некоторых больших городах.
В Испании у меня был испанский словарь. Я искал и нашел в нем слово «вертел», так и не сумев найти его там на кухнях. Правда, на кухнях я искал предмет, а не слово.
У меня не было с собой русского словаря. Но я призываю тех, кто имеет счастье владеть им, поискать в нем слово «таз».
Однако, даже если они найдут там такое слово, пусть все же это не помешает им в случае путешествия дополнить тазом свой дорожный несессер.
Правда, я обнаружил один таз у князя Тюменя: таз и кувшин были серебряные. Их вытащили из несессера, где они были спрятаны, и очень заботливо поставили на мой стол. Однако кувшин был пуст.
Вечером, ложась спать, я попросил дать мне воды, но меня, видимо, не поняли. Наутро, когда я стал проявлять настойчивость, один из калмыков взял кувшин, возна– меревшись пойти и наполнить его водой в Волге. Минут через десять у меня был полный кувшин воды, которую я изо всех сил сберегал, чтобы не утруждать этого славного человека, заставляя его совершать еще два или три похода на расстояние в четыреста или пятьсот шагов.
Запомните раз и навсегда, что во всей России, за исключением опять-таки Петербурга и Москвы, вода имеется только в реках, причем некоторые из них, как, например, Кума, пользуются этой привилегией, лишь когда тает снег.
Это, однако, не мешает им значиться на картах в качестве настоящих рек. И заметьте, что почти то же самое я могу сказать и о прославленной Волге с ее протяженностью в три тысячи шестьсот верст, с ее шириной в три, четыре или пять верст и с ее семьюдесятью двумя устьями: это обманчивая река, глубину которой нужно измерять каждый миг, по которой никто не осмеливается плавать ночью, опасаясь сесть на мель, и ни по одному из семидесяти двух устьев которой судно водоизмещением в шестьсот тонн не может пройти из Астрахани в Каспийское море.
В русских реках есть что-то от русской цивилизации: они широки, но не глубоки.
Принято говорить, что Турецкая империя – всего лишь фасад.
Россия – всего лишь видимость.
Возможно, русские, путая землю с ее обитателями, скажут, что я проявляю неблагодарность, говоря так о стране, столь замечательно принявшей меня. Я отвечу на это, что меня хорошо приняли люди, а не страна. Я признателен за это русским, а не России.
Необходимо подчеркнуть это отличие в пользу людей, настолько хорошо чувствующих правоту только что сказанных мною слов, что получать образование они отправляются за границу и говорят на иностранном языке, как если бы собственного языка им было недостаточно для потребностей образования, доведенного до класса риторики, и культуры, доведенной до уровня комфорта и чистоты.
Очень мало стоило бы правительству, уже обязавшему все почтовые станции иметь два деревянных дивана, два табурета, стенные часы и стол, обязать их также иметь кувшин, таз и воду в этом тазу.
Лет через пять или шесть можно будет ввести в употребление и полотенца: нельзя требовать слишком много всего сразу.
Однако я обязан сказать, воздавая должное истине, что мне было достаточно сделать знак нашему нукеру, уже в шесть часов утра находившемуся на своем посту, на котором мы видели его накануне в одиннадцать вечера, и он принес мне воду в медном кувшине изумительной формы, но вмещавшем едва ли четыре или пять стаканов.
Чтобы воспользоваться этим кувшином, нужно протянуть руки: слуга льет вам воду на ладони, и вы трете их под этим импровизированным краном.
Если у вас есть носовой платок, вы вытираете им руки. Если у вас его нет, вы оставляете их обсохнуть естественным образом.
Вы спросите меня, а как же при таком подходе умывают лицо? Простолюдины поступают следующим образом: они набирают в рот воду, выпускают ее себе в горсть и ладонями трут лицо, повторяя такое прысканье каждый раз, когда ладонь проходит по рту, и до тех пор, пока во рту еще остается вода.
О том, чтобы утереться, никто и не думает, это уже дело свежего воздуха; так поступают простолюдины. Ну а как поступают порядочные люди?
Порядочные люди – это проникнутые стыдливостью особы, которые запираются и прячутся, занимаясь своим туалетом. Так что я не могу сказать вам, как они умываются.
Ну а иностранцы?
Иностранцы ждут дождя, а когда дождь начинается, они снимают шляпу и повыше задирают голову.
Но как мне приступить теперь к другому вопросу? Ах, черт побери, ничего не поделаешь! Я ведь поклялся говорить обо всем! Долой эту напрасную стыдливость слов, как сказал Монтень, ведь она приводит к тому, что путешественник, который едет вслед за вами, держа в руках описание вашего путешествия, каждую минуту бросает книгу в сторону, говоря: «На кой черт мне знать, на какой широте я нахожусь? Мне нужно знать, что на этой широте я не найду ни таза, ни ...»
Ну вот, несмотря на цитату из Монтеня, я вдруг остановился, удерживаемый той напрасной стыдливостью слов, которая не остановила его и позволила ему рассказать, как Гелиогабал, после того как он – и все это на случай победоносного восстания против него – велел сплести петлю из золота и шелка, чтобы повеситься; после того как он велел выдолбить изумруд, чтобы хранить в нем яд; после того как он велел выковать меч с узорчатым клинком, чтобы заколоться; после того как он велел вымостить двор мрамором и порфиром, чтобы броситься вниз и разбиться, – после всего этого был застигнут врасплох в тогдашнем ватерклозете, не имея возможности воспользоваться ни одним из этих средств самоубийства, и ему пришлось удавиться там губкой, которой – это говорит Монтень, а не я – римляне подтирали задницу.
Коль скоро у меня вырвалось это выражение Монтеня, я полагаю возможным приступить к обсуждаемому вопросу.
Нет никого из числа моих читателей во Франции, кто не имел бы у изголовья своей постели, причем не только для того, чтобы поставить на него, отходя ко сну, свечу или ночник, но еще и с другой целью, небольшой предмет мебели – произвольной формы, круглый у одних, квадратный у других, имеющий вид столика для рукоделия у этих и переносного книжного шкафчика у тех, изготовленный из орехового, красного, палисандрового или лимонного дерева, а может быть, и из корней дуба, короче, затейливый как по материалу, так и по форме; вам ведь знаком этот предмет мебели, не правда ли, дорогие читатели?
Я не обращаюсь к вам, мои прекрасные читательницы: общепризнанно, что вы никоим образом не нуждаетесь в подобной мебели, а если она и находится в вашей спальне, то лишь как предмет роскоши.
Так вот, эта мебель есть не что иное, как футляр, шкаф, а порой и ларец, настолько сокрытый в нем предмет может быть, если он вышел из старинных севрских мануфактур, восхитительным по форме и богатству орнамента.
Эта мебель содержит в себе предмет обстановки, который она скрывает, но который содействует тому, чтобы вы спокойно спали, сознавая, что он находится возле вас и вам надо лишь протянуть руку, чтобы взять его.
Увы! Подобная мебель, как вместилище, так и скрытое в нем содержимое, полностью отсутствует в России, а поскольку здесь в равной степени отсутствуют и ватерклозеты, несомненно с тех пор как у Екатерины II случился в ее ватерклозете апоплексический удар, то вам приходится в любой час ночи и в любой холод выходить на открытый воздух и предаваться там астрономическим и метеорологическим наблюдениям.
Однако московские торговцы скобяных товаров, надо отдать им справедливость, в этом нисколько не виноваты. Их лавки содержат целые груды медных емкостей настолько сомнительной формы, что, покупая вместе с одной хорошо знакомой мне дамой, живущей в России уже пятнадцать лет, самовар, я попросил ее осведомиться у торговца, что это за сосуды и для чего они могут служить.
Она задала на русском языке вопрос торговцу, а когда он ответил ей, принялась смеяться и слегка покраснела.
Видя, что она не переводит мне его ответ, я спросил ее:
– Ну, так что это за кофейники?
– Не знаю, как вам это сказать, – отвечала она, – но могу дать совет купить одну такую вещицу, а точнее, один такой предмет.
– Стало быть, он относится к мужскому роду?
– Как нельзя более мужскому, мой милый друг.
– И вы не можете сообщить мне его название?
– Я могу написать его вам, но с условием, что вы прочтете его без меня. Это условие sine qua non[1].
– Пусть так, пишите.
– Дайте мне карандаш и клочок бумаги из вашего дневника.
Я вырвал из своего дневника клочок бумаги и подал ей его вместе с карандашом.
Она написала на этом обрывке несколько слов, сложила его и вернула мне, а я засунул сложенный листок между двумя чистыми страницами дневника.
Потом мы делали покупки, бегали из магазина в магазин, так что я забыл об этом листке бумаги и, следовательно, так и не купил предмета, о каком идет речь.
И только два месяца спустя, в Саратове, дойдя до страниц, между которыми была спрятана сложенная записка, я нашел ее и развернул, не зная, что она содержит, и совершенно забыв о разговоре в лавке скобяных товаров.
Записка содержала лишь одну короткую строчку:
«Это дорожные ночные горшки: не забудьте купить один из них».
Увы! Было уже слишком поздно. В Саратове их не продают.
Такими предметами запасаются в Каире или Александрии, перед тем как отправиться в плавание по Нилу или отважиться странствовать по пустыне.
Что бы ни говорили русские, их цивилизации далеко до цивилизации народа, который еще сто лет тому назад, не желая упустить ни слова из проповедей отца Бурдалу, пользовавшихся чрезвычайной известностью и чрезвычайно длинных, изобрел, чтобы ходить в церковь, предметы хотя и несколько иной формы, но употреблявшиеся подобно тем, какие жители России изобрели для путешествия из Москвы в Астрахань.
Я привожу эту занятную подробность для этимологов, которые через пятьсот, тысячу, две тысячи лет будут искать происхождение названий «бурдалу» и «рамбюто», приложенных: одно – к сосуду, другое – к будке.
Первое название будет для них провожатым ко второму.
Однако мы слишком удалились от Нухи. Вернемся туда; было бы досадно покинуть этот город, не рассказав вам о нем то, что мне следует о нем рассказать.
XXXI. КНЯЗЬ ТАРХАНОВ
Нукер ждал нас, чтобы передать нам слова князя Тарханова, испытывавшего крайнее сожаление, что накануне его не разбудили и нам пришлось провести ночь в казенном доме. Князь выразил желание, чтобы наши вещи были немедленно перенесены к нему в дом и мы расположились там и только там. Он ждал нас к чаю.
Я уже говорил, что дом князя находился как раз напротив казенного дома, так что наш переезд на другое место не должен был быть ни долгим, ни трудным. Впрочем, вначале мы переселились сами, предоставив нукерам и слугам позаботиться о переносе багажа.
Вход в дом князя был необычайно живописен: главные ворота, поставленные наискось, чтобы их легче было оборонять, и калитка в этих воротах, устроенная так, что только один человек мог пройти через ее узкий проем, свидетельствовали о мерах предосторожности, принятых на случай штурма.
Ворота вели в обширный двор, засаженный огромными платанами; у подножия каждого из этих деревьев били копытом о землю две-три лошади, полностью снаряженные к бою. Среди лошадей прохаживались взад и вперед около двух десятков есаулов; на плечах у каждого из них была бурка, на голове – остроконечная папаха, на левом боку – шашка и кинжал, на правом – пистолет.
Командир этих есаулов, человек лет сорока, небольшого роста, но крепкого сложения, разговаривал с двенадцатилетним мальчиком, одетым в черкесское платье и вооруженным кинжалом.
У мальчика была очаровательная внешность; в нем легко было распознать грузинский тип во всей его чистоте: черные волосы, опускающиеся до самых бровей, как у Антиноя; черные брови и ресницы; бархатные глаза, прямой нос, алые чувственные губы и великолепные зубы.
Заметив меня, он направился прямо в мою сторону.
– Вы, верно, господин Александр Дюма? – произнес он на чистейшем французском языке.
– Да, – отвечал я, – а вы, верно, князь Иван Тарханов?
Я узнал мальчика по тому, как мне описал его Багратион.
Он обернулся к командиру есаулов и что-то живо сказал ему по-грузински.
– Могу ли я спросить вас, князь, что вы сказали этому офицеру?
– Разумеется. Я сказал ему, что узнал вас по тому, как мне вас описали. Сегодня утром, когда нас известили, что в казенном доме остановились путешественники, я сказал отцу: «Наверняка, это господин Александр Дюма». Нас предупредили о вашем прибытии, но, поскольку вы очень задержались, мы опасались, что вы предпочли дорогу через Елисаветполь. Папа, папа! – закричал он пятидесятилетнему мужчине могучего телосложения, облаченному в повседневный мундир русского полковника. – Папа, это господин Александр Дюма!
Тот кивнул и стал спускаться по лестнице балкона, выходящего на двор.
– Вы позволите мне обнять молодого хозяина, который так сердечно меня принимает? – спросил я мальчика.
– Конечно! – ответил он и бросился мне на шею. – Из-за своей лени я не читал еще ни одной вашей книги, но теперь, познакомившись с вами, прочту все, что вы написали.
Тем временем его отец уже сошел во двор и приближался к нам.
Иван вприпрыжку бросился к нему навстречу, радостно хлопая в ладоши:
– Ну вот, я же говорил тебе, папа, что это господин Александр Дюма! Так и есть, и он проведет у нас целую неделю.
Мальчик перевел мне свои слова, и я улыбнулся:
– Мы уедем сегодня вечером, князь, или, самое позднее, завтра утром.
– Нет, сегодня же вечером, если это возможно, – произнес Муане.
– Во-первых, мы не позволим вам уехать сегодня вечером, потому что не хотим, чтобы вас зарезали лезгины. Что же касается завтрашнего дня, то это мы еще посмотрим.
Я приветствовал отца молодого человека. Он поздоровался со мной, заговорив по-русски.
– Мой отец не говорит по-французски, – сказал мальчик, – но я буду вашим переводчиком. Отец просит передать вам, что он очень рад видеть вас в своем доме, а я отвечаю от вашего имени, что вы принимаете гостеприимство, которое он вам предлагает. Дмитрий говорит, что у вас превосходнейшие ружья. Мне очень нравятся ружья. Вы мне их покажете, не правда ли?
– С величайшим удовольствием, князь.
– Идемте же, чай вас уже ждет.
Иван сказал несколько слов по-грузински отцу, и тот указал нам дорогу, стараясь пропустить нас вперед.
Мы дошли до лестницы. По обе ее стороны тянулась открытая галерея.
– Вот комната для этих господ, – сказал мальчик, – а ваша там, наверху. Ваши вещи положат в третью комнату, чтобы они вам не мешали. Проходите же: отец ни за что не пойдет впереди вас.
Я поднялся по лестнице и оказался на балконе. Мальчик побежал вперед, чтобы открыть нам дверь в гостиную.
– Теперь, – произнес он, приветствуя нас, – вы у себя дома.
Все это говорилось с оборотами речи, которые я стараюсь передать, с галлицизмами, невероятными в ребенке, родившемся за полторы тысячи льё от Парижа, в Персии, на краю Ширвана, и никогда не покидавшем своего родного края.
Я был восхищен, и это в самом деле казалось чудом.
Мы сели за стол, на котором кипел самовар.
Взяв стакан чая – мне кажется, я уже упоминал, что в России, а следовательно, и во всех подвластных ей краях мужчины пьют чай из стаканов и лишь женщины имеют право пить его из чашек, – так вот, повторяю, взяв стакан чая, я выразил князю свою признательность и задал ему несколько полагающихся в таких случаях вопросов. Сын переводил отцу мои слова по мере того как я их произносил, причем делал он это с удивительной легкостью, как будто всю свою жизнь служил переводчиком.
Внезапно на ум мне пришло воспоминание о часовом.
– Кстати, – сказал я, обращаясь к князю Ивану, – уж не из опасения ли, что мы сбежим, поставили этой ночью часового у наших дверей?
– Нет, – со смехом отвечал молодой человек (я не смею больше называть его мальчиком), – нет, это было сделано для нашей безопасности.
– Что значит «для нашей безопасности»? Нашей безопасности что-нибудь угрожало?
– И да, и нет. Нас предупредили, что лезгины намерены совершить набег на шелковую фабрику в Нухе, и добавили ...
– А кто же вас предупредил? – прервал я юного князя.
– Наши лазутчики. У нас есть лазутчики среди лезгин, так же как и они имеют их на нашей стороне.
– Так что же они добавили? – спросил я.
– Что лезгины были бы не прочь заодно похитить меня. Мой отец принес им немало вреда: он собственной рукой отрубил три десятка их голов. Когда счет дошел до двадцати двух, император Николай прислал ему перстень. Папа, покажи свой перстень господину Дюма.
Последние слова были произнесены по-грузински. Полковник, улыбаясь, встал и вышел. Казалось, что он, старый лев, счастлив повиноваться этому молодому голосу и этим свежим устам.
– Как, эти разбойники хотят похитить вас, милый князь?
– Кажется, да, – ответил мальчик.
– И в отместку отрубить эту очаровательную головку?
Я обнял мальчика и от всего сердца поцеловал его, задрожав от только что высказанной мною мысли.
– О! Отрубить мне голову? Они не настолько глупы. Для них предпочтительнее хороший выкуп, и им известно, что если бы они меня похитили, то отец, относящийся ко мне с великой любовью, продал бы все до последней пуговицы своего мундира, чтобы выкупить меня. К тому же, лезгины не рубят головы – это обычай чеченцев.
– А что же тогда они рубят? Ведь не может быть, чтобы они что-нибудь да не рубили?
– Они рубят правую руку.
– Ах, так! И что же они делают с отрубленными руками?
– Прибивают их к своим дверям. Тот, у кого их на дверях больше, чем у всех других, считается самым уважаемым человеком в ауле.
– И они назначают его мэром?
– Кого вы так называете?
– Местного судью.
– Да, именно так.
Полковник вернулся, держа в руках перстень.
Перстень состоял из четырех превосходных алмазов и был украшен в середине императорским вензелем.
– Когда я отрублю три головы, – произнес юный князь таким тоном, как если бы он сказал: «Когда я сорву три ореха», – отец подарит мне его, он так обещал.
– Подождите, пока вы не отрубите двадцать две головы, дорогой князь, и после этого напишите императору Александру: он пришлет вам другой перстень, похожий на тот, какой император Николай прислал вашему отцу, и тогда в семье будут два таких перстня.
– О, кто знает, – с прежней своей беззаботностью произнес мальчик, – представится ли мне такой случай? Теперь ведь с каждым днем становится все менее опасно, и многие аулы уже покорились. Наверное, мне придется удовольствоваться тремя головами. Я уверен, что за свою жизнь убью трех лезгин. Да и кто не убивал столько лезгин?
– Например, я, дорогой князь.
– Ну, вы не местный житель, и вас это не касается. Скажем, тот, с кем я разговаривал, когда вы вошли во двор, уже довел свой счет до одиннадцати и надеется, что через три-четыре дня, если только лазутчики нам не солгали, он доведет его до дюжины. Вот почему у него есть Георгиевский крест, как и у моего отца. У меня тоже когда-нибудь будет Георгиевский крест.
И глаза мальчика вспыхнули огнем.
В возрасте этого юного князя, над которым каждую минуту нависает угроза, что его похитят разбойники, и который говорит о рубке голов, как о самом простом деле, наши дети еще играют с куклами и, когда их пугают ночным страшилищем, прячутся между коленями своих матерей.
Правда, здешним детям кинжал на бок прикрепляют уже в том возрасте, когда нашим еще режут еду на их тарелке, чтобы не дать им дотронуться до ножа.
Я видел сына князя Меликова в белой папахе, которая была выше его самого, в безукоризненном черкесском наряде, с патронными гнездами на груди, наполненными порохом и пулями, и с острым как бритва кинжалом на боку.
Ему не было еще и двух лет, а он уже вытаскивал свой кинжал, чтобы показать клинок с клеймом знаменитого Муртаз-Али, чье имя ребенок произносил с гордостью.
Французская мать упала бы в обморок, увидев такое оружие в руках малыша, едва способного произнести «папа» и «мама».
А княгиня Меликова улыбалась и сама говорила ему:
– Покажи свой кинжал, Георгий.
Вот почему, как видите, в десять лет здешние мальчики уже мужчины.
Я возвращаюсь, однако, к лезгинам. Подробность, касающаяся отрубленных рук, была для меня новостью.
Князь сказал мне, что в Нухе было человек двенадцать, у которых недоставало правой руки, как у трех кривых календеров из «Тысячи и одной ночи» недоставало правого глаза.
Для лезгина левая рука в счет не идет, если только ему не повезет настолько, что он встретит врага без правой руки.
Однажды лезгины совершили набег на Шильду и напали на дом местного начальника Додаева, писарем у которого служил армянин по имени Ефрем Сукьясов. В разгар резни, желая с помощью уловки спасти свою жизнь, он упал и притворился мертвым. Какой-то лезгин споткнулся в темноте о его тело, распознал в нем врага и отрубил ему левую руку. У армянина хватило не то чтобы мужества, но сил удержаться от крика; к несчастью, лезгин, выйдя на свет, сразу же заметил свою ошибку: только что отрубленная им рука служила скорее символом позора, а не победы.
Он вернулся и отрубил ему другую руку.
Ефрем Сукьясов пережил эту двойную ампутацию. В настоящее время он служит полицмейстером в Телаве.
Когда юный князь закончил рассказывать мне эту историю, в комнату вошел высокий, худощавый и бледный мужчина. Князь Тарханов принял его приветливо, как принимают друзей дома.
Я вопрошающе взглянул на Ивана, который прекрасно понял меня.
– Это Мирза-Али, – сказал он, – татарский переводчик при моем отце. Вы ведь любите истории, не правда ли?
– Особенно когда их рассказываете вы, дорогой князь.
– Так вот, спросите его, почему он дрожит.
И в самом деле, я заметил, что рука Мирзы-Али, когда он протянул ее князю, заметно дрожала.
– Говорит ли он по-французски? – спросил я Ивана.
– Нет.
– Как же, по-вашему, я могу задать ему этот вопрос?
– Я задам его от вашего имени.
– А ответ?
– Я переведу его вам.
– На таком условии я согласен.
– Тогда возьмите ваш карандаш и ваш дневник.
– Стало быть, это целый роман?
– Нет, это подлинная история. Не правда ли, Мирза– Али?








