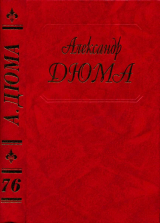
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц)
Все они стали старше на пять лет, прошедших с того времени, как наш офицер был в Ведене.
Другие его жены – с последней из них он недавно развелся из-за ее бесплодия – это Заидат, Шуанат и Аминат.
Заидат – дочь одного старого татарина, который, как говорят, воспитал Шамиля и к которому, во всяком случае, он питает большую привязанность. Этого старого татарина зовут Джемал-Эддин. Шамиль дал его имя своему любимому сыну.
Заидат двадцать девять лет. После смерти Фатимат она стала первой женой Шамиля, что дало ей превосходство над остальными его женами. Все дети имама и его слуги повинуются ей, как самому имаму. Она хранит ключи и распределяет съестные припасы и одежду.
У Шамиля от нее есть двенадцатилетняя дочь с безукоризненно красивым лицом и с чрезвычайно развитым умом, однако ноги ее повернуты носками внутрь и по виду совершенно безобразны; зовут ее Наджават.
Имам чрезвычайно любит всех своих детей, но, вероятно из-за ее физического недостатка, он питает к Наджават более сострадательную нежность, чем ко всем другим. Хотя она бегает, как мальчик, и с необыкновенной ловкостью скачет на своих кривых ногах, Шамиль обычно носит ее на руках. Рано или поздно Наджават подожжет аул, поскольку ее самое большое удовольствие состоит в том, чтобы вытащить из очага или печки пылающую головешку и, держа ее в руке, бегать по балкону. Когда же Заидат бранит ее, Шамиль удерживает мать, говоря:
«Оставь ее в покое; Бог всегда с теми, кого он карает, и если те, кого он карает, безгрешны, с ними не случается несчастий».
Шуанат, второй жене Шамиля, тридцать шесть лет; она среднего роста, очень красива, но фигуру имеет заурядную; у нее белая кожа, очаровательный рот и изумительные волосы, однако слишком крупные кисти рук и широкие ступни. Она дочь богатого армянина из Моздока. Двадцать лет тому назад Шамиль захватил Моздок, похитил Шуанат со всем ее семейством и привез ее с отцом, матерью, братьями и сестрами в Дарго, свою тогдашнюю резиденцию. Потом Дарго был взят и разрушен генералом графом Воронцовым, и Шамиль удалился в Ведень. Армянский купец предлагал за себя и свою семью выкуп в сто тысяч рублей. Шамиль влюбился в Шуанат, звавшуюся тогда Анной. Он отказался от пятисот тысяч, но предложил вернуть свободу всему семейству, выставив условием, что он возьмет в жены Анну. Девушка, со своей стороны, вовсе не питала отвращения к имаму и согласилась на эту сделку. Ей было тогда шестнадцать лет.
Семейство было отпущено на свободу. В течение двух лет Анна изучала Коран, отреклась от армянской веры и стала женой Шамиля, давшего ей имя Шуанат.
Позднее, потеряв отца и мать, она вытребовала свою долю родительского наследства и отдала ее Шамилю.
Шуанат служит ангелом-хранителем пленникам Шамиля и особенно его пленницам. Оказавшись в неволе, княгиня Чавчавадзе и княгиня Орбелиани, эти две знаменитые пленницы, обрели в ней покровительницу, которой они были обязаны всем облегчениям, внести какие в их положение имела возможность Шуанат.
Третьей женой Шамиля является, а точнее, являлась, Аминат; ей двадцать пять лет, и она все еще остается бездетной; это поставили в вину бедной женщине, более красивой и, главное, более молодой, чем две другие жены имама; она вызывала у них ревность, особенно у Заидат, без конца упрекавшей Аминат в бесплодии и со злым умыслом приписывавшей его недостатку у нее любви к имаму.
У Аминат правильной овальной формы лицо, крупный рот, украшенный, однако, настоящими жемчужинами, и ямочки на щеках и подбородке, причем одна из этих ямочек, которые поэт восемнадцатого столетия не преминул бы сравнить с гнездышками любви, придает ее вздернутому носику еще более лукавое выражение.
По происхождению она татарка; ее похитили в пятилетием возрасте, и ее мать, не имея возможности выкупить девочку, попросила позволения разделить с ней неволю и получила на это милостивое согласие.
Гарем имама включает в себя, помимо трех жен, старуху по имени Баху: это бабушка Джемал-Эддина, которого Шамиль потерял теперь во второй раз, и мать Фати– мат. Она имеет свои отдельные покои, свою отдельную провизию – мясо, рис, муку – и ест одна, тогда как другие женщины едят вместе.
Три жены Шамиля не только не имеют никаких преимуществ друг перед другом, но к тому же еще ни в чем по своему положению не отличаются от жен наибов. Однако лишь они имеют право войти к Шамилю, когда он молится или держит совет со своими мюридами. Мюриды приезжают со всех концов Кавказа, чтобы посовещаться с имамом, и гостят у него сколько им заблагорассудится, однако он не ест вместе с ними.
Само собой разумеется, что гость, кем бы он ни был, не проявит нескромность и не переступит порога женской половины.
Любовь трех жен Шамиля к своему господину – а это слово повсюду на Востоке куда более подходящее, чем «муж», – необычайна, хотя она и по-разному проявляется в соответствии с их различными характерами. Заидат, ревнивая, как европейка, так и не смогла обрести привычку разделять с кем-либо еще любовь имама; она ненавидит двух своих подруг и сделала бы их несчастными, если бы любовь к ним имама, а вернее, его любовь к справедливости, не оберегала их.
Что же касается Шуанат, то ее любовь в самом деле проистекает из страсти и доходит до беспредельной самоотверженности: когда Шамиль идет мимо нее, ее глаза воспламеняются; когда он говорит, она жадно внимает его словам; когда она произносит его имя, ее лицо сияет.
Большая разница в возрасте, существующая между Шамилем и Аминат, тридцать пять лет, заставляла Аминат любить Шамиля скорее как отца, чем как мужа; главным образом на нее, из-за ее молодости и красоты, и была обращена ревность Заидат. Поскольку у Аминат не было детей, Заидат беспрестанно угрожала ей, говоря, что она добьется ее развода. Аминат смеялась над этой угрозой, которая, тем не менее, все же осуществилась: из опасения, что его любовь к бесплодной женщине могут счесть за распутство, суровый имам, хотя его сердце и страдало от этого, несколько месяцев тому назад удалил ее от себя.
Шамиль неукоснительно следует заповеди Магомета, предписывавшего всякому доброму мусульманину посещать свою жену по крайней мере раз в неделю. Утром того дня, когда должен состояться этот визит, имам велит передать той из своих жен, какую ему хочется посетить, что он придет к ней вечером.
Людовик XIV, менее нескромный, довольствовался тем, что втыкал булавку в шитую золотом бархатную подушечку, которую клали с этой целью на ночной столик.
После ночи, когда он посетил одну из своих жен, Шамиль целый день и целую ночь проводит в молитвах.
Аминат, взятая в плен, как мы уже сказали, в пятилетием возрасте, воспитывалась вместе с детьми Шамиля; разлученная в возрасте восьми лет с Джемал-Эддином, она перенесла свою привязанность к нему на Гази– Мохаммеда, который к тому же был близок ей по годам.
Два года назад Гази-Мохаммед женился на прелестной девушке Каримат и обожает ее; она дочь Даниял-бека, племянника которого мы встретим в Нухе. Благородное происхождение заметно в манерах, в походке и даже в голосе Каримат; она лезгинка и всегда носит богатый и изящный наряд, богатство и изящество которого вызывает большие упреки со стороны Шамиля: наполовину смеясь, наполовину бранясь, имам каждый раз, как только она приходит к нему с визитом, бросает в огонь какие-нибудь из самых красивых ее украшений.
Когда Гази-Мохаммед приезжает в Ведень, он поселяется и спит в комнате отца, а Каримат, со своей стороны, поселяется то у Заидат, то у Шуанат; все это время Шамиль не наносит никаких визитов своим женам, а Гази-Мохаммед – своей: эту жертву отеческой стыдливости и сыновьего почтения каждый из них приносит друг другу.
Гази-Мохаммед слывет самым красивым и искусным наездником на всем Кавказе. Возможно, он не уступает как наездник самому Шамилю, чья слава в этом отношении неоспорима.
И в самом деле, как я уже упоминал, все уверяют, что нет никого красивее, чем Шамиль, когда он отправляется в один из своих походов.
Аул окружен тремя стенами, и каждая из них образует оборонительную линию, имеющую только одни ворота, под которыми всадник не может проехать, если он держит голову высоко поднятой.
Шамиль пересекает эти три стены галопом, наклоняясь к шее своего коня каждый раз, когда ему нужно преодолеть очередные ворота; но, как только ворота преодолены, он тотчас выпрямляется, чтобы наклониться снова перед очередным препятствием и снова выпрямиться, когда это препятствие остается позади.
Таким образом он в одно мгновение оказывается за пределами Веденя.
Когда Гази-Мохаммед наносит один из своих визитов отцу в Ведень, там, чтобы оказать ему честь, созывают всех местных наездников. Обычно сбор происходит на ближайшей к аулу поляне, и все изысканные, трудные и невероятные упражнения, какие только способна изобрести восточная фантазия, исполняются там черкесскими, чеченскими и лезгинскими всадниками с таким умением и ловкостью, что это привело бы в изумление самых искусных наездников наших цирков и возбудило бы у них зависть.
Эти праздники продолжаются два или три дня; красивое ружье, славный конь или богатое седло служат обычно наградой тому, кто исполняет самые трудные упражнения.
Все эти награды доставались бы Гази-Мохаммеду, если бы он с присущим ему великодушием не уступал их своим товарищам, сознавая при этом свое превосходство над ними.
Несмотря на крайний недостаток денег и нехватку боевых припасов, порох и пули на такого рода праздниках никогда не жалеют.
Правда, какое-то время тому назад Шамиль устроил в горах пороховую фабрику.
Когда какая-нибудь из девушек, относящихся к свите жен имама, выходит замуж, это празднуют не только в гареме, но и во всем ауле. Все домочадцы женского пола получают в связи с этим событием коралловые или янтарные бусы, четки и браслеты, а также полный набор одежды.
Что же касается свадебных обрядов, то вот что рассказал нам бывший пленник, присутствовавший на нескольких таких праздниках.
На невесту надевают новые шальвары, рубашку, покрывало и красные сафьяновые сапожки, а поверх них – сандалии на высоких каблуках.
Потом устраивается трапеза.
Однако, вместо того чтобы принимать в ней участие, невеста сидит, спрятавшись за толстым ковром. Ей полагается воздерживаться от пищи, и у нее, как и у ее жениха, это воздержание длится три дня.
Угощение подается на ковер, лежащий на полу. Оно состоит из шашлыка – единственного мясного блюда, которое там фигурирует, – плова с изюмом, меда, пресных лепешек и воды: как подслащенной медом, так и чистой.
Хлеб – пшеничный, нередко замешиваемый на молоке.
Мы уже говорили в другом месте, что такое шашлык и как приготовляется это блюдо, лучшее из всех, какие мне встретились за все время моего путешествия, и лишь одно достойное того, чтобы быть присоединенным к числу блюд, уже известных во Франции.
Шашлык будет ценным нововведением в особенности для охотников.
Вернемся, однако, к татарской свадьбе.
Все гости едят руками, ногти на которых выкрашены хной (привычка к ней встречается как в северных, так и в южных странах Востока).
Лишь некоторые женщины, проявляя невероятную ловкость, едят рис маленькими палочками, похожими на те, какими пользуются китайцы.
Трапеза начинается в шесть часов вечера.
В десять часов женщины встают.
Подруги невесты выходят вперед, чтобы принять подарки жениха.
Они состоят из кувшина, с которым ходят за водой; медной чашки для черпания воды; ковра из овечьей шерсти, служащего одновременно тюфяком; чана для стирки и небольшого сундучка, изготовленного горскими мастерами: он покрашен в красный цвет и грубо разрисован цветами; если же сундучок привезен из Макарьева, то он сделан из листового железа, покрытого желтым и белым лаком, и обтянут жестяными обручами, которые, пока они новые или пока за ними хорошо ухаживают, могут сойти за серебряные.
К этим предметам обычно добавляют еще покрывало, зеркало, две или три фаянсовые чашки, головной платок и шелк для шитья и вышивания. Невеста садится на коня; женщины, держа в руках фонари, освещают шествие и провожают новобрачную в ее новую семью, в ее будущее жилище; на пороге ее ожидает и принимает жених.
Однако невеста печется о том, чтобы не покидать родительский дом, пока она не получит свое приданое, составляющее ее полную собственность.
Это приданое для девушки составляет двадцать пять рублей, для вдовы после первого брака – двенадцать, а для вдовы после второго брака – шесть рублей.
Разумеется, эти цифры никоим образом не являются безусловными и цена зависит от богатства невесты и ее красоты; о приданом торгуются, особенно когда речь идет о вдове.
Шамиль обожает детей, и в течение всего времени, пока длился плен княгини Чавчавадзе и княгини Орбе– лиани, он каждое утро приказывал приносить ему маленьких князей и маленьких княжон.
По целому часу он играл с ними и никогда не отпускал их от себя, не сделав им каких-нибудь подарков.
Дети, в свою очередь, привыкли к Шамилю и плакали, прощаясь с ним.
Что же касается Джемал-Эддина, то наш офицер не мог сообщить о нем никаких сведений. Джемал-Эддин был в то время пленником русских, и потому офицер не видел его.
Но мы, будьте уверены, увидим его, когда придет очередь рассказать о похищении и пленении грузинских княгинь.
XXIX. ДОРОГА ИЗ ШЕМАХИ В НУХУ
Как и было условлено накануне, ровно в полдень мы простились с нашим милейшим комендантом и его семейством.
Он снабдил нас конвоем из двенадцати человек под командой храбрейшего из своих есаулов – Нурмат– Мата.
Нурмат-Мат должен был сопровождать нас до Нухи. Лезгины уже начали боевые действия. Ходили разговоры о похищенном скоте и об уведенных в горы жителях равнины. Нурмат-Мат отвечал за нас своей головой.
Наш выезд из Шемахи, благодаря тому что впереди нас ехали два сокольника с соколами на руке, имел вполне средневековый облик, который доставил бы удовольствие всем еще оставшимся во Франции приверженцам исторической школы 1830 года.
От Шемахи до Ахсу – Новой Шемахи – дорога несколько напоминает шоссейную, так что она не совсем уж скверная; кроме того, по обеим ее сторонам начинает появляться держи-дерево, то есть те знаменитые колючие кусты, противостоять которым способны одни лишь лезгинские сукна.
После Баку нам не встретилось ни одного дерева.
На дороге же из Шемахи мы снова увидели не только деревья, но и листву.
Воздух был теплый, небо чистое, а горизонт изумительно голубого цвета. За полтора часа мы проехали двадцать верст, отделявших нас от места охоты.
Мы узнали его издали. Два татарина ожидали нас, держа двух лошадей на поводу и трех собак на своре.
Вместе с ними нам предстояло принять участие в соколиной охоте.
Мы вышли из экипажа, но, поскольку вдоль всей дороги на глазах у меня резвились зайцы, я прямым ходом бросился в колючие кустарники, решив начать охоту с пушных зверей и вынудив тем самым последовать за мной татарина с моей лошадью.
Муане поступил точно так же.
Не успев сделать и ста шагов, каждый из нас убил по зайцу.
Кроме того, я поднял стаю фазанов и проследил, куда она опустилась.
После этого, сев на коня, я подозвал к себе сокольников.
Они тотчас примчались со своими собаками.
Я указал сокольникам место, где сели фазаны. Мы спустили собак со своры и поскакали туда же сами.
Подъехав к указанному мною месту, мы оказались прямо посреди стаи фазанов, взлетавших вокруг нас.
Сокольники спустили двух соколов.
Я двинулся вслед за одним, а Муане – за другим.
Стоило мне проехать двести шагов, как фазан, за которым я следовал, оказался в когтях сокола.
Я подоспел вовремя, чтобы вырвать у него фазана еще живым. Это был великолепный петух, лишь слегка раненный в голову.
Сокольник вытащил из кожаного мешка кусочек окровавленного мяса и дал его соколу, возмещая ему утраченную добычу.
Птица была явно ограблена человеком, но, тем не менее, казалась совершенно довольной и готовой возобновить охоту на тех же условиях.
Мы вернулись к нашему конвою. Муане посчастливилось так же, как и мне, и он возвращался с прекрасным фазаном-петухом, еще живым, но пострадавшим больше, чем мой.
Петуху тотчас свернули шею и бросили в багажный ящик экипажа, рядом с двумя убитыми зайцами.
Затем, отыскав самый высокий пригорок, господствующий над всеми окрестностями, мы застыли на нем, словно две конные статуи, а двух наших сокольников отправили на поиски дичи.
Они поскакали с соколами на руке и сворой собак, рыскавших в кустах.
Наконец, взлетел один фазан; сокольник спустил на него своего сокола, но фазан ускользнул от погони.
Затем поднялся другой фазан, и на него кинулся второй сокол. Фазан летел прямо на нас, как вдруг сокол, которому оставалось сделать три-четыре взмаха крыльями, чтобы настигнуть добычу, рухнул прямо в кустарник, как если бы ружейный выстрел перебил ему оба крыла.
Я поднял глаза, чтобы отыскать причину этого внезапного падения. В ста метрах над моей головой пролетал огромный орел. Сокол заметил его и, считая себя, без сомнения, браконьером перед лицом столь могущественного властелина, поспешил опуститься в кусты.
Орел спокойно продолжал свой полет, не проявляя к соколу никакого интереса.
Помчавшись к тому месту, где рухнул сокол, я с немалым трудом отыскал его; он спрятался в траве и весь дрожал.
Я насильно вытащил его из укрытия, но лапы у него так судорожно сжались, что он не мог держаться ни на моей руке, ни на моем плече. Мне пришлось положить его на свою согнутую руку.
Он со страхом озирался по сторонам.
Но орел был уже далеко, и небо было пусто.
Подъехавший сокольник взял сокола с моей руки и успокоил его, но тот лишь спустя полчаса решился возобновить травлю упущенного им фазана.
Несмотря на это неожиданное происшествие, которое, позволив мне сделать весьма поучительные наблюдения, оказалось для меня скорее приятным, чем досадным, мы добыли в течение двух часов трех фазанов.
День клонился к вечеру, а нам оставалось проделать еще тридцать верст до Турианчая, где мы должны были заночевать; кроме того, впереди была огромная гора, на которую предстояло взобраться и с которой потом следовало спуститься, причем спускаться необходимо было при свете дня; так что мы прекратили охоту, вручили несколько рублей сокольникам и простились с ними, увозя с собой дневную добычу, обеспечившую нас провизией на остальную часть пути.
Нам предоставили новый конвой, но Нурмат-Мат остался с нами. Приняв командование над двенадцатью казаками, он двух из них послал вперед, двух оставил позади, а с восьмью другими скакал рядом с нашим тарантасом.
Такого рода предосторожности принимают всегда, если дорога не совсем безопасна.
Мы осмотрели наш арсенал, который уменьшился на карабин с разрывными пулями, подаренный Багратиону, и на револьвер, подаренный князю Хасаю Уцмиеву, после чего, заменив заряды дробью на пули, отправились в путь.
У начала подъема тарантасу пришлось замедлить ход. Мы с Муане воспользовались этим, чтобы поменять теперь уже пули на дробь, и ринулись в разные стороны от дороги, причем каждого из нас сопровождали два казака.
В итоге этой прогулки были убиты фазан и турач.
Звук ружейного выстрела, донесшийся до нас непонятно откуда, и пуля, ударившая в землю у наших ног, послужили призывом вернуться в тарантас и держаться настороже.
Однако ничего за этим не последовало, и после подъема, продолжавшегося около часа, мы достигли вершины горы.
Гора эта казалась отвесной; однако, как это бывает в некоторых местах горного массива Мон-Сени, по ее крутому склону извивилась, словно огромная змея, дорога, и мы стали спускаться по ней.
По виду дорога была пугающей, хотя и достаточно широкой, чтобы на ней могли разъехаться два экипажа; однако открывающийся с нее горизонт был великолепен.
Так что он отвлекал нас от дороги.
Мы спускались между двумя хребтами Кавказа: у правого хребта подошва была лесистой, середина – голой и безжизненной, а вершина – заснеженной; левый, более низкий, имел лазоревую подошву и золотистую вершину; между хребтами лежала необъятная долина, а точнее говоря, равнина.
Картина была поразительной.
Однако, глядя на каждом повороте дороги вниз и измеряя расстояние, отделявшее нас от этой равнины, я не мог сдержать дрожь, пробегавшую по моим жилам. Что же касается нашего ямщика, то казалось, будто в него вселился дьявол; с той минуты, как мы начали спуск, он с похвальной привычкой своих сотоварищей, да еще и побуждаемый услышанным выстрелом, пустил упряжку в галоп, так что те казаки, что составляли наш авангард, вскоре пропали из виду; те, что сопровождали нас, остались позади, ну а тех, что были в авангарде, мы сначала догнали, а затем и опередили.
Тщетно кричал ему по нашей просьбе Калино, требуя придержать лошадей: ямщик даже не отвечал нам, а напротив, все сильнее хлестал лошадей, чтобы они мчались с той же скоростью или даже еще быстрее, если такое было возможно. При всем том он правил экипажем, как Нерон, с исключительным постоянством держась середины дороги, и, что успокаивало еще в большей степени, ему, восседавшему на козлах, опасность убиться грозила в десять раз больше, чем нам.
Этот бешеный спуск, на который нам следовало потратить часа два, был совершен за пятьдесят минут; мы приближались к равнине с такой скоростью, какая была сравнима лишь с нашим удовлетворением от этого. Наконец мы оказались на дне долины и вместо извилистого пути, всем поворотам которого нам только что приходилось следовать, увидели перед собой длинную прямую дорогу, заканчивавшуюся у окраины Ахсу.
Внезапно, в ту самую минуту, когда мы уже было решили, что опасность миновала, ямщик закричал Калино, сидевшему рядом с ним на козлах:
– Возьмите вожжи и правьте: у меня в голове помутилось, в голове помутилось!
Мы не поняли ни слова из того, что он сказал, но видели, что на наших глазах разыгрывается какая-то пантомима из числа самых пугающих.
Лошади, вместо того чтобы плавно свернуть на прямую дорогу, лежавшую перед ними, продолжали свой бег в косом направлении, то есть мчались прямо к оврагу с крутыми склонами.
Калино выхватил вожжи из рук ямщика, но было уже слишком поздно.
Затем, видимо, и у него в голове помутилось.
То, что случилось дальше, произошло с быстротой молнии.
Ямщик исчез первым; он скатился вниз, а лучше сказать, провалился и исчез между лошадьми.
Калино, напротив, был подброшен вверх: тарантас натолкнулся на скалу.
Этот толчок выбросил Муане из экипажа, но нежно, мило – на мягкую траву, впитавшую влагу небольшого ручейка.
Мне же удалось ухватиться обеими руками за ветвь дерева, так что я был выдернут из тарантаса, словно клинок, выдернутый из ножен.
Ветвь согнулась под моим весом, и я оказался в футе от земли.
Мне осталось лишь спрыгнуть, так что этим все и ограничилось.
Муане был уже на ногах.
Но с двумя другими все обстояло иначе.
Ямщик по-прежнему лежал под ногами у лошадей. Голова и руки у него были в крови.
Калино упал на вспаханную землю и пострадал не так уж сильно.
Однако его сильно беспокоило одно обстоятельство.
На нем были мои часы, довольно ценное украшение, изготовленное Рудольфи.
Ему поручалось сообщать нам по первому требованию, который сейчас час.
Вместо того чтобы прикрепить конец цепочки этих часов к пуговице жилета, он из щегольства прицепил его к рединготу.
Так вот, во время исполненного им акробатического прыжка крепкая и в то же время гибкая ветка подцепила цепочку и, выдернув часы из жилетного кармашка, забросила их неизвестно куда.
На пуговице осталась разорванная цепочка, однако часы исчезли бесследно.
Калино обрисовал мне затруднительное положение, в котором он оказался.
– Сначала поможем ямщику, – сказал я ему, – а часами займемся потом.
Калино отказывался понимать, что ямщик может быть важнее часов: для него, напротив, часы были важнее человека.
Однако я настоял на своем. К тому же Муане уже взялся за вожжи лошадей, пытаясь распрячь их.
Однако на Кавказе лошадей запрягают каким-то совершенно особым способом: то, что у нас ремень, – здесь веревка; то, что у нас пряжка, – здесь узел. Я вытащил кинжал и перерезал постромки.
Как раз в эту минуту подъехали казаки. Они издали увидели наши кувыркания и, не понимая, каким упражнениям мы предавались, бросились нам на помощь. Их ожидала радостная встреча, так как мы весьма в них нуждались.
Наконец, после того как выяснилось, что вытащить человека из-под лошадей невозможно, удалось стащить лошадей с человека. Голова и руки у него были поранены.
Однако его раны были не слишком опасны, так что наши носовые платки, смоченные в родниковой воде, послужили для них вполне приемлемым перевязочным материалом.
Пока я перевязывал раненого, Калино искал часы.
Как только с перевязкой было покончено, я пожелал узнать, какая все же муха укусила ямщика. Я стал расспрашивать его и дошел в своих расспросах до той минуты, когда он пустил лошадей в галоп и перестал нам отвечать.
И тогда ямщик признался мне, что в ту минуту у него закружилась голова; он машинально продолжал удерживать лошадей на середине дороги, а лучше сказать, лошади сами придерживались этого направления. Господу Богу было угодно, чтобы все шло хорошо вплоть до подножия горы, но, когда мы оказались там, ямщик почувствовал, что и силы, и воля разом изменили ему; вот тогда-то он и крикнул Калино: «Возьмите вожжи, у меня в голове помутилось!»
Объяснение было правдивым, и нам ничего не оставалось, как возблагодарить Господа за чудо, совершенное им ради нас.
Однако Господь удовольствовался лишь одним этим чудом, которого, впрочем, было вполне достаточно, и, к великому отчаянию Калино, не помог нам отыскать часы.
Как только наши двенадцать казаков собрались вокруг тарантаса, его уже нетрудно было поставить на колеса; он превосходно выдержал удар и готов был совершить второй прыжок, причем с вдвое большей высоты.
В тарантас впрягли лошадей, и они вытащили его на середину дороги. Мы сели внутрь экипажа, ямщик и Калино снова расположились на козлах, но поменявшись местами, так, чтобы Калино мог править.
Оставив часы там, куда их забросила ветка, мы тронулись в путь и четверть часа спустя были в Ахсу – Новой Шемахе.
Ахсу, население которого составляло прежде от тридцати пяти до сорока тысяч душ, теперь едва ли насчитывает три-четыре тысячи жителей и не стоит того, чтобы делать в нем остановку; так что мы лишь переменили там лошадей и продолжили путь.
В восемь часов вечера мы прибыли на станцию Тури– анчай; самым примечательным из того, что нам удалось там увидеть, был стенной ковер, висевший в комнате станционного смотрителя, позади его кровати, и воспроизводивший картину Конье «Ревекка, похищаемая рыцарем-храмовником Буа-Тильбером».
В семь часов утра мы были уже в дороге.
По мере того как мы продвигались вперед, растительность становилась все богаче. Восхитительное солнце ласково окутывало нас своим нежным теплом; короче говоря, в прекрасный летний день мы ехали по одной из живописнейших дорог.
И это происходило в ноябре!
В одиннадцать часов мы прибыли на почтовую станцию.
Перед нами стоял вопрос, что делать дальше. Переночевать здесь и на другой день проехать через Нуху, не делая там остановку? Или переночевать в Нухе и остановиться на день у князя Тарханова?
Я настоял, чтобы мы ночевали в Нухе и выехали оттуда на другой день, независимо от того, удастся нам увидеть князя Тарханова или нет.
Так что ямщикам было велено продолжить путь, невзирая на поздний час, и доставить нас к казенному дому в Нухе.
Тарантас помчался во весь опор и спустя пятнадцать минут, в течение которых мы переправлялись через несколько рек, преодолевали несколько ручьев и следили взглядом, как по обе стороны дороги мелькают деревья, дома, мельницы и фабрики, въехал в проулок между двумя оградами и остановился перед зданием с погашенными сумрачными окнами и запертой дверью.
Это не обещало нам особо щедрого гостеприимства.
XXX. КАЗЕННЫЙ ДОМ
Наш ямщик вошел в большой дом, стоявший напротив здания, где, по его словам, нам предстояло расположиться: он намеревался сообщить там, что путешественники прибыли и требуют ключи.
Я запретил ему называть мое имя, опасаясь, что в доме князя начнется переполох и князь непременно поднимется с постели, несмотря на неурочный час.
Ямщик вернулся с княжеским нукером; тот не спал, а скорее, видимо, бодрствовал, как бодрствуют часовые. Он был полностью вооружен: на левом боку у него висели шашка и кинжал, на правом – пистолет.
При виде нашего оружия он поинтересовался, заряжено ли оно и если да, то чем; мы ответили ему, что два ружья у нас заряжены крупной дробью, а три – пулями.
Этот ответ – хотя я и не мог уяснить себе, что именно вызвало у нукера удовлетворение, какое он, видимо, испытал, – явно доставил ему большую радость.
– Хорошо, хорошо, – повторил он два или три раза.
Я поклонился в знак согласия, не имея никакой причины противоречить этому славному человеку, который в ту самую минуту, когда мой желудок напомнил о себе, поинтересовался у меня, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь.
Три голоса вместо одного ответили утвердительно.
Нукер вышел, чтобы отыскать нам что-нибудь на ужин.
Тем временем мы стали осматривать наше новое жилище. Оно состояло из пяти или шести комнат, но ни в одной из них не было никакой другой обстановки, кроме трех положенных на козлы досок.
Зато в стенах там было множество ниш. В первый раз я видел это архитектурное украшение, хотя о его существовании мне дал знать еще Дандре, рассказывая историю врача, который по возвращении из лазарета наносил визиты своим нишам и брал в каждой из них по стакану пунша. К сожалению, никакая из здешних ниш не была украшена подобным образом.
Мы сели втроем на одну из наших постелей, поскольку стульев в доме не было, и стали ждать, дав себе твердое слово заложить рано утром тарантас и после визита к князю тотчас отправиться в путь.
Слуга, а точнее, нукер – между двумя этими званиями есть большая разница – вернулся с блюдом копченой рыбы, блюдом мяса, вином и водкой.
Мы начали есть, дрожа от холода, а в это время в печи, стоявшие в нашей комнате, стали засовывать поленья, которые, под тем довольно убедительным предлогом, что их накололи в этот самый день, отказывались загораться; но, как и во всех случаях, когда человек проявляет упорство, это препятствие было в конце концов преодолено.
Тем временем закипел самовар, внося своим паром посильный вклад в обогрев помещения.
Словом, эти пустые и нежилые комнаты оживились и наполнились людьми. Изначальное недомогание сменилось ощущением блаженства, которое всегда приносят пища, отдых и тепло, идущие вслед за голодом, усталостью и холодом. Чай, эта обжигающая жидкость, которую в неимоверных количествах пьют в России и которая, видимо, имеет своим предназначением привносить тепло в оцепеневшие тела обитателей Севера и лишь с этой целью, преодолевая пустыни, поступает с Востока, действенно способствовал улучшению нашего физического и душевного состояния, и мы начали издавать звуки «О-о!», «Э-э!» и все другие подобные восклицания, являющиеся не чем иным, как внешним свидетельством того, что человек начинает возвращаться в то спокойное и радостное расположение духа, какое в конце концов дает о себе знать пятью словами, произнесенными с одним и тем же радостным выражением:








