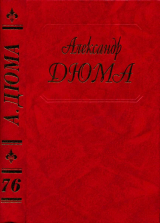
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
Их арестовали, затем арестовали мушу; всех троих предали суду и всех троих осудили на смерть: Шубашева и Исмаила как виновников преступления, мушу как их сообщника.
Преступление наделало много шуму и вселило в горожан сильный страх; князь Барятинский, наместник императора на Кавказе, торопил следствие, и оно прошло быстро: улики были неопровержимые.
Как locum tenens[4] императора, князь Барятинский имеет право помиловать приговоренного к смерти; лишь он один судит, в определенных случаях, уместно ли докладывать о них императору.
Никакое чрезвычайное обстоятельство не требовало отсрочки казни; однако князю показалось, что муше наказание должно быть несколько смягчено. Он был перс.
В итоге его приговорили к тысяче ударов батогами и, если он после этого выживет, к ссылке в сибирские рудники сроком на восемь лет.
Было вполне вероятно, что он выживет: грузин, армянин, перс могут выдержать тысячу ударов батогами, горец – тысячу пятьсот, русский – две тысячи.
Но ни один преступник, какой бы национальности он ни был, не может выдержать три тысячи ударов, которые равносильны смертной казни.
Однако решено было оставить мушу до последней минуты в убеждении, что он будет повешен.
Три виселицы установили ровно там, где были найдены тела приказчиков.
Такое расположение виселиц заключало в себе два преимущества.
Во-первых, казнь совершалась в том месте, где преступление было доведено до конца.
Во-вторых, эта голгофа, на сей раз позорная, была видна со всех концов города.
В день нашего приезда, ровно в полдень, трех осужденных привезли на телеге к месту казни; на них были белые штаны и смертные балахоны, руки их были связаны на груди, а головы непокрыты.
На шее у каждого висела табличка с текстом приговора.
Когда преступники остановились у подножия виселиц, им зачитали решение суда.
Одному из них, как мы уже сказали, наказание было смягчено.
После того как приговор был оглашен, палач и его подручный схватили того из осужденных, кто был моложе, и накинули ему на голову мешок таким образом, что из его нижнего отверстия виднелись только ноги.
Они не были связаны.
Мешок, дно которого лежало на голове осужденного, полностью скрывал его лицо.
Палач и его подручный поддерживали преступника, пока он поднимался на виселицу.
Две лестницы, поставленные бок о бок, опирались на поперечину виселицы.
Одна, стоявшая ближе к концу поперечины, с которого свисала веревка, предназначалась для осужденного.
Другая предназначалась для палача и его подручного.
Поднявшись на девятую ступеньку лестницы, осужденный остановился.
В ту же минуту палач накинул ему на шею, поверх мешка, петлю, заставил его подняться еще на две ступеньки и, толкнув рукой, отправил в вечность.
Тотчас же, пока первый повешенный еще раскачивался на веревке, лестницы переставили от одной виселицы к другой.
Средняя виселица оставалась свободной (напомним, что, хотя к смерти приговорили лишь двух преступников, виселиц было установлено три).
Казнь второго преступника прошла в том же порядке, что и казнь первого.
Первый еще не принял вертикального положения, а второй уже в свою очередь закачался в воздухе.
Смерть была медленной: во-первых, потому что мешок не давал веревке затянуться на шее так же туго, как если бы та была голой, а во-вторых, потому что палач, явно неопытный в своем ремесле, не тянул осужденных за ноги и не садился им на плечи.
Такую предупредительность, принятую на Западе, не считают нужным проявлять на Востоке.
Было видно, как на протяжении трех минут повешенные судорожно дергали локтями, потом движения их ослабли и, наконец, прекратились совсем.
И тогда пришла очередь муши.
Это был парень лет девятнадцати, смуглокожий, худой и слабого сложения; когда с него сняли рубаху, стало заметно, что все его тело дрожит.
От холода ли, как у Байи? Не знаю.
Тысяча солдат, поставленных в две шеренги по пятьсот человек в каждой, с промежутком между шеренгами в пять футов, стояли в ожидании, держа в руке по тонкому гибкому пруту толщиной с мизинец.
Руки осужденного привязали к прикладу ружья; унтер– офицер взялся за это ружье, приготовившись идти задом, чтобы приноровить шаги осужденного к своим; два солдата, которым тоже предстояло идти пятясь, приставили
штыки к его груди, в то время как два других стали позади него, упершись штыками в его спину.
Привязанный таким образом за руки и заключенный между четырьмя штыками, муша не мог ни ускорить шаг, ни замедлить его.
Распорядитель экзекуции подал первый сигнал.
Тотчас же тысяча солдат одновременно, словно на военных учениях, со свистом рассекли воздух батогами.
Этот свист, как уверяют, является если и не самой ужасной, то, по крайней мере, самой устрашающей подробностью экзекуции.
На сотом ударе кровь брызнула из десятков разрывов на коже, на пятисотом спина превратилась в одну сплошную рану.
Если боль превышает силы осужденного и он лишается сознания, экзекуцию приостанавливают, дают ему какое-нибудь подкрепляющее лекарство и затем продолжают ее.
Муша стойко выдержал тысячу ударов, не потеряв сознание. Кричал ли он? Это неизвестно: барабанщики, шедшие следом за осужденным и на ходу бившие в барабаны, не давали возможность слышать его крики.
На плечи ему набросили рубашку, и он пешком возвратился в Тифлис.
Недели через две он уже более не думал об этом и отправился отбывать восьмилетнюю каторгу в Сибирь.
Из всего этого он должен сделать вывод: если когда– либо ему придется еще раз закапывать труп, следует постараться, чтобы из-под земли не высовывалась нога.
XXXVII. ТИФЛИС: О ТЕХ, КОГО ЗДЕСЬ ЕЩЕ НЕ ВЕШАЮТ
Пока мы устраивались в своей новой квартире, барона Фино, находившегося в гостях у княгини Чавчавадзе, известили о нашем приезде, и он явился к нам с присущим ему хорошим настроением и веселым задором, которые известны всем знавшим его во Франции.
Консульское звание сделало его серьезным в отношении государственных дел и строгим в отношении интересов своих соотечественников, но в обычной жизни это все то же открытое сердце и все тот же очаровательный ироничный ум.
Я не виделся с ним с 1848 года. Он нашел меня потолстевшим, а я его – поседевшим.
В Тифлисе его просто обожают. Из ста пятидесяти трех француженок и французов, составляющих здешнюю колонию, нет ни одного и ни одной – а это неслыханно! – кто не отзывался бы о нем с похвалой, причем не с той пошлой похвалой, какую диктуют приличия, а идущей от всего сердца.
Что касается грузин, то они боятся лишь одного: как бы у них не отняли их барона Фино.
Если же говорить о грузинках, то я еще недостаточно долго прожил в столице Грузии, чтобы выяснить, что они думают о нашем консуле.
Барон поспешил прийти, чтобы предложить нам столоваться исключительно у него все то время, пока мы будем находиться в Тифлисе.
Я был настроен отказаться от этого предложения.
– Сколько времени вы намерены пробыть в Тифлисе? – спросил он.
– Ну, я хочу провести здесь месяц.
– А имеете ли вы три тысячи рублей на расходы в течение этого месяца?
– Нет.
– Что ж, тогда я советую вам принять мой стол, как вы приняли гостеприимство Зубалова. У меня налаженное домашнее хозяйство, так что я едва почувствую ваше присутствие, исключая то удовольствие, какое оно мне доставит, тогда как вы, каким бы образом вы ни питались, даже если вы станете есть лишь хлеб и масло – причем масло будет скверное, – все равно окажетесь разорены, покидая Тифлис.
Видя, что я продолжаю колебаться, он извлек из кармана какую-то бумагу и произнес:
– Вот, к примеру, смотрите, сколько издержала за шестьдесят шесть дней одна из наших соотечественниц, счета которой я оплатил позавчера. Это бедная горничная, привезенная сюда княгиней Гагариной. Взяв расчет у княгини, она не захотела идти в гостиницу, поскольку это было для нее слишком дорого, и в итоге поселилась у колбасника-француза, чтобы жить у него как можно бережливее. Так вот, за шестьдесят шесть дней она издержала сто тридцать два рубля серебром, или пятьсот двадцать восемь франков!
Все это не показалось мне достаточно убедительным доводом для того, чтобы в течение целого месяца создавать подобные неудобства милейшему консулу, как вдруг появился парикмахер, за которым я послал, чтобы он постриг мне волосы.
– Ну и что вы велите ему сделать? – поинтересовался Фино.
– Постричь меня, а заодно и побрить.
– После вас я, ладно? – вмешался в разговор Муане.
– Пожалуйста.
– Сколько вы платите в Париже за стрижку и бритье? – спросил меня Фино.
– Один франк, а в особых случаях полтора франка.
– Что ж, сейчас вы увидите, сколько это стоит в Тифлисе.
Парикмахер постриг и побрил меня, затем постриг Муане; что же касается Калино, который, будучи студентом, еще только ожидает, когда у него появится борода, и в ожидании этого стрижется под бобрик, то парикмахер до него даже не дотронулся.
– Сколько мы вам должны? – спросил я своего соотечественника, когда все было кончено.
– О Господи, сударь, три рубля.
Я попросил его повторить.
– Три рубля, – бесстыдно повторил он.
– Как? Три рубля серебром?
– Три рубля серебром. Вам сударь, должно быть известно, что указ императора Николая отменил рубли ассигнациями.
Я вынул из дорожной сумки три рубля и отдал их ему. Это составляло двенадцать франков нашими деньгами.
Парикмахер поклонился мне и вышел, попросив у меня разрешение сделать из моих остриженных волос булавочную подушечку для жены, которая была моей большой поклонницей.
– А если бы его жена не была моей большой поклонницей, – спросил я Фино, когда парикмахер вышел, – сколько бы это мне стоило?
– Это нельзя даже представить, – ответил Фино. – Угадайте, сколько цирюльник требует с меня за то, что он посылает ко мне три раза в неделю своего помощника– парикмахера? Я подчеркиваю, обратите внимание, парикмахера, потому что я ношу свободно растущую бороду.
– В Париже у меня есть брадобрей, который за шесть франков приходит ко мне из Монмартра каждый второй день.
– Полторы тысячи франков в год, мой милый друг!
– Фино, я столуюсь у вас!
– Ну а теперь, – произнес Фино, – поскольку мне удалось добиться всего, чего я хотел, а иных целей у моего прихода сюда не было, я возвращаюсь завершать обед у княгини Чавчавадзе, которой вы будете представлены мною завтра.
Фино не мог доставить мне одновременно большей чести и большего удовольствия.
Дело в том, что князья Чавчавадзе происходят от Андроника, низвергнутого императора Константинополя, а княгиня Чавчавадзе, урожденная принцесса Грузинская, – та самая дама, которая была похищена Шамилем и обменена в Чир-Юрте на его сына Джемал-Эддина.
– Кстати, – сказал Фино, снова появляясь в дверях, тогда как мне казалось, что он был уже далеко, – сегодня вечером я приду за вами и вашими спутниками, чтобы проводить вас в театр. У нас тут итальянская труппа: дают «Ломбардцев», и вы увидите наш театральный зал.
– Ваш зал? – со смехом спросил я. – Неужели вы стали провинциалом до такой степени, что говорите «наш зал» в Тифлисе, как говорят «наш зал» в Туре и в Блуа?
– Вы ведь, друг мой, видели в своей жизни немало театральных залов?
– Разумеется, я видел все театральные залы Франции, Италии, Испании, Англии, Германии и России; мне осталось увидеть лишь тифлисский театральный зал.
– Ну что ж, сегодня вечером вы его увидите, и будьте спокойны, вы произведете там сильное впечатление, хотя ваш чертов парикмахер слишком коротко остриг вам волосы. Ну да ладно, это пустяки: все подумают, что такова новая мода, которую вы привезли из Парижа. До встречи в восемь часов.
И он ушел.
Его слова навели меня на мысль посмотреться в зеркало, чтобы увидеть, что можно за три рубля сделать из моей головы.
При виде себя я вскричал от ужаса: парикмахер постриг меня под бобрик, причем так коротко, что моя голова стала похожа на щетку, но не на ту щетку, какой чистят платье, а на ту, какой натирают воском паркет!
Я подозвал Муане и Калино, чтобы они насладились моим обликом в его новом воплощении.
Взглянув на меня, они расхохотались.
– Вот это находка! – сказал Муане. – Если у нас не хватит денег, мы станем показывать вас в Константинополе как тюленя, выловленного в Каспийском море.
Муане, будучи художником, с первого взгляда угадал, с кем у меня и в самом деле есть сходство; я не могу отрицать, что, когда волосы у меня острижены очень коротко, моя физиономия несколько напоминает физиономию этого забавного зверя.
Утверждают, что каждый человек имеет сходство с каким-нибудь видом животных.
Так вот, по здравом размышлении я предпочту быть скорее похожим на тюленя, чем на какое-либо иное земноводное существо: он ведь очень кроток, безобиден и ласков, и к тому же из его тела добывают жир.
Не знаю, кроток ли я, безобиден и ласков, но зато мне известно точно, что даже при моей жизни из моего тела добыли немало жира.
«Да вы, любезный виконт, настоящая бездонная бочка», – сказал Карл X, укоряя Шатобриана в расточительстве.
«Это правда, государь, – отвечал прославленный автор «Духа христианства», – однако вовсе не я выбил дно у этой бочки».
Барон пришел за мной в условленный час.
– Ну что, вы готовы?
– Полностью.
– Тогда берите вашу шляпу и в путь.
– Мою шляпу, дорогой друг, я принес в дар Волге, на пути из Саратова в Царицын, ибо по дороге она приняла настолько причудливую форму, что напоминала мне складную шляпу Жиро, в которой он странствовал по Испании; но будьте покойны, я намерен купить новую.
– А знаете ли вы, во сколько вам обойдется здесь шляпа?
– От шестнадцати до восемнадцати франков, я полагаю?
– Берите выше.
– Быть может, вы имеете в виду касторовую шляпу высшего сорта?
– Да нет, я говорю о самой обыкновенной шелковой шляпе: ничто не распространяется по свету так быстро, как какое-нибудь дурацкое изобретение.
– Значит, от двадцати до двадцати пяти франков?
– Берите выше.
– Выходит, тридцать? Тридцать пять? Сорок?
– Семьдесят турских ливров, друг мой. Вы приобретете ее за восемнадцать рублей.
– Это скверная шутка, барон.
– Дорогой мой, с тех пор как я стал консулом, я уже не шучу; да и к тому же, как, по-вашему, можно шутить в Тифлисе, имея четыре тысячи рублей жалованья, когда одна лишь шляпа стоит восемнадцать рублей?
– Так вот почему вы носите фуражку?
– Именно; я превратил ее в деталь дипломатического мундира; повсюду, за исключением дома князя Барятинского, я хожу в фуражке. И благодаря этому, надеюсь, моя шляпа прослужит мне три года.
– Послушайте, а если я ...
– Что, если вы?
– ... если я воспользуюсь вашей шляпой?
– Просите у меня все что хотите; просите мой дом, мой стол, мое сердце – все к вашим услугам, но не просите у меня моей шляпы; моя шляпа для меня то же, чем было жалованье для маршала Сульта: я расстанусь с ней лишь вместе с жизнью.
– В таком случае, не могу ли я пойти в вашей фуражке?
– А на каком основании, я вас спрашиваю? Разве только как консульский стажер?
– Я не имею чести им быть.
– Может быть, вы атташе первого, второго или третьего класса?
– О, друг мой, я, напротив, всегда был далек от всех классов.
– В таком случае остается шляпа ...
– А нельзя ли, – робко спросил я, – позволить себе надеть папаху? У меня есть превосходная папаха.
– У вас есть какой-нибудь мундир?
– Никакого, даже академического.
– Очень жаль. В сочетании с академическим мундиром папаха произвела бы очень сильное впечатление.
– Друг мой, я, пожалуй, откажусь от театра.
– Прекрасно, но я не отказываюсь от вас. Черт побери, я обещал вас всем моим княгиням; все в Тифлисе уже знают, что с вами приключилось несчастье, всем известно, что при виде вас можно умереть от смеха – как вы понимаете, я люблю несколько преувеличивать, – и вас все ждут. Впрочем, вы ведь понимаете, отчего это произошло?
– Что?
– Да то, что вы лишились волос на голове.
– Нет, не понимаю.
– Вы сами в этом виноваты; в Тифлисе вас ждут уже целый месяц; наши княгини, подобно жене вашего парикмахера, величайшие поклонницы вашего творчества. Так вот, они подумали, что после продолжительного путешествия вам не избежать стрижки волос. Вы оказались в положении Пипле, мой бедный друг: вы попали в руки как раз того, кто получил больше всего заявок на ваши волосы, и потому он не постриг вас, а оболванил. Но Господь утишит ради вас силу ветра. Берите же восемнадцать рублей и идемте покупать шляпу.
– Нет, нет и нет, тысячу раз нет; я предпочитаю заказать себе мундир и носить папаху; к тому же, когда я буду в папахе, никто не увидит, что у меня больше нет волос.
– Что ж, это меняет дело: мундир будет стоить вам двести рублей.
– Как я понимаю, нет никакого способа выпутаться из этого положения: вы логичны, как тройное правило.
– Почему же нет? Есть один. Смотрите, – продолжал Фино, указывая мне на хозяина дома, входящего в комнату, – вот Зубалов, он большой щеголь, и у него есть целая коллекция шляп; он даст вам во временное пользование одну из них, а вы за ваши восемнадцать рублей купите какую-нибудь безделушку.
– Я охотно это сделаю, – сказал Зубалов, – но у господина Дюма голова больше моей.
– Была больше, вы хотите сказать, дорогой друг: с тех пор как с ней произошло это несчастье, на нее можно надеть чью угодно шляпу.
– И все же ... – произнес я, не решаясь принять предложение.
– Да соглашайтесь же, – произнес Фино. – Шляпа, которую вы будете носить здесь, станет семейной реликвией, она будет переходить от отца к сыну, и ее повесят на стене, между «Сожалениями» и «Воспоминаниями» господина Дюбюфа.
– Ну, если взглянуть на это с такой точки зрения, то я не могу отказать столь любезному хозяину и непременно засвидетельствую ему подобным образом свою признательность.
Господин Зубалов и в самом деле принес мне шляпу, которая шла мне так, словно ее сделали специально для меня.
– Теперь, – заявил Фино, – на дрожки – и в театр.
– Неужели нужны дрожки, чтобы пересечь площадь?
– Во-первых, вы забываете, что я приехал из дому, а во-вторых, разве вы не заметили, вселяясь во дворец Зубалова, что начался небольшой дождь? Такого дождя вполне достаточно, чтобы уже сейчас грязь была по щиколотки; если он продолжится, то завтра грязь будет по колено; если же он затянется, то послезавтра грязь будет по пояс. Вы, дорогой друг, еще не имеете понятия о том, что такое тифлисская грязь, но, прежде чем вы покинете Тифлис, вам придется с ней познакомиться: случается, что нижнего уровня ваших дрожек уже недостаточно, и тогда вы вынуждены взбираться на скамью, как Автомедон. Из дома, к которому вы подъехали, вам перебрасывают доску, и вы наносите свои визиты, переходя по висячему мосту. Вот, скажем, двадцать восьмого августа тысяча восемьсот пятьдесят шестого года случилась буря: я говорю вам о ней потому, что она была самой сильной за последнее время. Грязь шла тогда с горы такими потоками – ведь у нас здесь, помимо местной грязи, принадлежащей, можно сказать, самим улицам, есть еще грязь странствующая, – так вот, повторяю, грязь шла тогда с горы такими потоками, что около тридцати домов было разрушено до основания, шестьдесят два человека утонуло и неизвестно сколько дрожек было унесено в реку. Посмотрим, однако, стоят ли еще у ворот наши дрожки.
Дрожки стояли на месте; мы сели на них и уже десять секунд спустя входили в вестибюль театра.
XXXVIII. ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ. БАЗАРЫ. СИРОТА
Признаться, едва вступив в театр, уже с самого вестибюля я был поражен простотой и в то же время изяществом внутренней отделки здания: можно было подумать, что ты входишь в коридор театра Помпеев.
В верхнем коридоре орнаментация изменяется и становится арабской.
Наконец, мы вошли в театральный зал.
Этот зал – волшебный дворец, но не по своему богатству, а по своему изяществу; на него, возможно, не пошло и на сто рублей позолоты, но я решительно заявляю, что зал тифлисского театра – один из самых очаровательных театральных залов, какие я когда-либо видел в своей жизни.
Правда, любой красивый театральный зал в немалой степени украшают красивые женщины, а в этом отношении, как и в отношении архитектуры и художественного оформления, тифлисскому залу, слава Богу, не приходится желать ничего лучшего.
Занавес очарователен: в середине его высится пьедестал статуи, на котором изображена скульптурная группа, представляющая слева от зрителя Россию, а справа – Грузию.
Со стороны России, теряясь в той части оформления сцены, какая называется у нас плащом Арлекина, – Петербург и Нева, Москва и ее Кремль, мосты, железные дороги, пароходы, цивилизация.
Со стороны Грузии, точно так же уходя вдаль, – Тифлис с его развалинами крепостей, базарами, крутыми скалами, яростной и непокорной Курой, чистым небом, словом, с его поэтичностью.
У основания пьедестала, со стороны России, – Константинов крест, рака святого Владимира, сибирские меха, волжская рыба, украинский хлеб, крымские фрукты – то есть религия, земледелие, торговля, изобилие.
Со стороны Грузии – драгоценные ткани, великолепное оружие, ружья с серебряной оправой, кинжалы, отделанные слоновой костью и золотом, шашки с золотой и серебряной насечкой, кулы из позолоченного серебра, мандолины, инкрустированные перламутром, барабаны с медными бубенчиками, зурны из черного дерева – то есть пышное убранство, война, вино, танцы, музыка.
Россия – мрачная владычица, величие которой неспособно придать ей веселья.
Грузия – веселая невольница, рабство которой неспособно ее омрачить.
Разумеется, прекрасно быть потомком Рюрика, числить среди своих предков государей, правивших в Старо– дубе, вести свой род от Гагары Великого и, являясь ко двору и в светские гостиные, велеть докладывать о приходе князя Гагарина; но если бы сегодня князю Гагарину сказали: «Вам надо отречься либо от вашего княжеского достоинства, ваших коронованных предков и вашей знатности, либо от вашей кисти», то, думаю, князь Гагарин сохранил бы свою кисть и стал бы зваться господином Гагариным, а скорее даже и совсем коротко – Гагариным, без всякого титулования. Художники подобного уровня трудятся во имя того, чтобы их называли просто Микеланджело, Рафаэль или Рубенс.
Этот очаровательный занавес поднялся, возвестив о начале первого акта посредственной и невероятно скучной оперы «Ломбардцы», превосходно спетой мадемуазель Штольц, двадцатилетней примадонной, которая дебютировала в тифлисском театре, чтобы перейти затем на сцену театров Неаполя, Флоренции, Милана, Венеции, Парижа и Лондона, а также артистами Массини и Бриани.
Крайне удивительно видеть столь превосходную труппу в Тифлисе. Правда, с такими губернаторами, как князь Воронцов и князь Барятинский, вице-королевства становятся королевствами, а колонии – метрополиями.
Я сожалел лишь о двух обстоятельствах: о том, что не давали «Вильгельма Телля» вместо «Ломбардцев», и о том, что князь Гагарин в бытность свою здесь не занялся декорациями одновременно с возведением театрального зала.
Оформив преддверие ада, именуемое театром, князь Гагарин украсил портал рая, именуемый церковью.
Кафедральный собор Тифлиса весь украшен живописью этого выдающегося художника, и, точно так же как тифлисский театр является если и не самым красивым, то, по крайней мере, одним из самых красивых театров мира, Сионский собор, безусловно, является одной из изысканнейших церквей России.
Возможно, слово «изысканный» покажется странным нашим читателям, привыкшим к мрачному и таинственному величию католических церквей, но православные церкви, украшенные золотом, серебром, малахитом и лазуритом, не могут соперничать с католическим культом в том, что касается строгости и сумрачности.
В Тифлисе не приходят, как в Италии, с визитами в ложи; связано это с тем, что здесь открыты все ложи, за исключением литерных и трех губернаторских, находящихся в середине галереи, напротив сцены.
Это единственный изъян, каким обладает зал, но виной тут не архитектурный замысел, а недостаточная галантность благородного строителя, ведь женщина становится еще красивее, когда ее лицо видно на красном или гранатовом фоне и окружено золотой рамой; но, вне всякого сомнения, художник счел, что грузинские дамы не нуждаются в такой уловке.
По окончании спектакля Фино отвез меня домой. Он был прав: ливень продолжался, и грязи стало уже по колено.
Покидая меня, он сказал, что на следующий день приедет за мной, чтобы показать мне базары и представить меня в двух или трех домах.
На другой день, в десять часов утра, Фино, точный как пушка, возвещающая в Тифлисе полдень, подъехал на дрожках к крыльцу дома Зубалова.
Накануне вечером мы внесли свои имена в список посетителей князя Барятинского, и наместник его императорского величества на Кавказе велел передать нам, что он примет нас на следующий день в три часа.
Посланец посоветовал нам непременно откликнуться на приглашение, поскольку князь Барятинский должен передать г-ну Дюма очень срочное письмо.
У нас еще вполне было время, чтобы осмотреть караван-сарай, пройтись по базарам, нанести два или три визита и возвратиться к себе, чтобы переодеться и отправиться к князю.
Главный караван-сарай в Тифлисе построен армянином, который за один только участок земли шириной в восемь туаз и длиной в сорок заплатил восемьдесят тысяч франков. Как видно, в Тифлисе, где земли, впрочем, достаточно, она ничуть не дешевле, чем все остальное.
Необычайно любопытно было наблюдать за этим караван-сараем, через все ворота которого входят, ведя верблюдов, лошадей и ослов, представители всех народов Востока и Северной Европы: турки, армяне, персы, арабы, индийцы, китайцы, калмыки, туркмены, татары, черкесы, грузины, мингрельцы, сибиряки и Бог знает кто еще!
У каждого свой облик, свой наряд, свое оружие, свой нрав, свое лицо и, главное, свой головной убор – то, от чего народы, вынужденные следовать переменам в моде, отказываются в последнюю очередь. Два других караван– сарая служат вспомогательными и имеют гораздо меньшее значение; за проживание в этих гостиницах, где сибиряк, пришедший из Иркутска, встречается с персом, пришедшим из Багдада, и где все торговые представители восточных народов живут в своего рода общине, никакой платы не берут, однако хозяева взимают по одному проценту со стоимости товаров, помещенных на складе и затем проданных.
К этим базарам примыкает сеть торговых улиц, полностью отделенных от аристократической части города.
Каждая такая улица предназначена для какого-нибудь одного вида ремесла.
Мне неизвестно, как эти улицы называются в Тифлисе, да и имеют ли они названия вообще, но, на мой взгляд, они не могут называться иначе, чем улицей Серебряников, улицей Скорняков, улицей Оружейников, улицей Зеленщиков, улицей Медников, улицей Портных, улицей Сапожников и, я бы сказал даже, улицей Башмачников, равно как и улицей Туфелыциков.
Особенность тифлисской местной торговли – а я называю местной торговлей не только грузинскую, но и татарскую, армянскую и персидскую – состоит в том, что сапожник не шьет башмаков, башмачник не шьет туфель, туфелыцик не шьет бабуши, а мастер-бабушник не шьет ничего, кроме бабушей.
Более того: сапожник, который шьет грузинские сапоги, не шьет черкесских. Почти для каждой части одежды каждого народа здесь существует свой отдельный вид ремесла. Таким образом, если у вас есть желание заказать шашку, прежде всего купите клинок, закажите к нему рукоятку и деревянные ножны, обтяните эти ножны кожей или сафьяном и, наконец, покройте рукоятку резьбой и серебряными узорами; и все это по отдельности, все это у разных ремесленников, все это переходя из магазина в магазин.
Восток решил великую торговую проблему запрещения посредничества; без сомнения, товар становится от этого дешевле, но такая экономия существует лишь в стране, где время не имеет никакой цены.
Американец умер бы от нетерпения к концу первой недели своего пребывания в Тифлисе.
У всех этих магазинов передняя сторона открыта, и все эти торговцы работают на виду у прохожих; мастера, владеющие секретами или хитрыми приемами своего ремесла, оказались бы очень несчастны на Востоке.
Нет ничего любопытнее, чем путешествовать по этим улицам: иностранцу это не надоедает, и я бродил там почти каждый день.
Так что наша красочная прогулка продолжалась дольше, чем мы рассчитывали: было уже почти два часа, когда мы вспомнили о предстоящих визитах.
Мы возвратились к себе, чтобы переменить сапоги и брюки (рекомендую путешественникам, которые посетят Тифлис после меня, мой наряд в сочетании с высокими сапогами), и затем отправились к князю Дмитрию Орбе– лиани.
Я уже говорил о происхождении князей Орбелиани; они князья не Священной Римской империи, а Поднебесной империи: их предки пришли из Китая в Грузию в пятом веке, если я не ошибаюсь.
На картине, принадлежащей этой семье, изображен Великий потоп: какой-то человек плывет по поверхности безбрежного водного пространства и показывает Ною, чтобы быть допущенным в ковчег, огромный пергамент.
Этот человек – предок князей Орбелиани.
Этот пергамент – его дворянская грамота.
Князь Дмитрий Орбелиани знает молитву, с помощью которой заклинают змей, и владеет тем знаменитым камнем, а лучше сказать, талисманом, который делает правдоподобной сказку о чудодейственном индийском безоаре.
Камень этот перешел к нему от царя Ираклия, предпоследнего правящего государя Грузии, дочь которого была матерью князя, и с помощью этого драгоценного наследства он спас немало жизней.
Княгиня Орбелиани – это сорокалетняя дама, по собственной воле и намного раньше предписанного природой срока принявшая облик матроны. Она была, наверное, одной из первых красавиц в Тифлисе; пудра, употребляемая ею, как я полагаю, из кокетства, придает ее внешности черты восемнадцатого века. Столь величавой внешности, как у нее, мне не случалось видеть ни у одной знатной дамы.
Встретив на улице княгиню Орбелиани, идущую пешком, вы поклонитесь ей, даже если вы с ней незнакомы, настолько один ее вид заставляет вас оказывать ей должное почтение.
Она мать одной из самых красивых, самых живых, остроумных и обворожительных молодых дам в Тифлисе – г-жи Давыдовой-Грамон.
Среди всей этой прекрасной княжеской семьи бегала маленькая девочка, с которой все обращались как с дочерью хозяев дома.
– Посмотрите внимательно на эту маленькую девочку, – вполголоса сказал мне Фино, – потом я расскажу вам о ней нечто любопытное.
Возможно, именно желание поскорее узнать это нечто любопытное сократило мой визит.
Я встал, напомнив Фино, что в три часа нам следует быть у князя Барятинского, и вышел.
– Итак, – спросил я барона, – что же это за девочка?
– Вы хорошо рассмотрели ее?
– Да, это очень милый ребенок, но мне показалось, что она простого происхождения.








