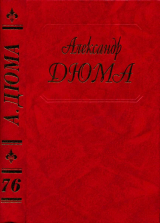
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
По его словам или по словам тех, кого он расспрашивал, оскопление теперь не осуществлялось непосредственно: рассечение нерва под мозжечком – операция, которую, кстати говоря, я считаю невозможной, – приводило к той же самой цели.
Спустя месяц обнаруживались явления, подобные тем, какие следуют за полным удалением половых органов: голос утрачивал мужскую окраску, борода выпадала, тело начинало становиться бледным и дряблым – короче, возникали признаки женского пола.
С самим же полковником произошла удивительная история.
Когда политического преступника отправляют в Сибирь, он утрачивает свои гражданские права и его жена может выйти замуж снова, как если бы она была вдовой.
Вот на такой вдове, хотя она и не была ею вполне, и женился полковник.
Когда император Александр взошел на престол, он даровал общую амнистию, не касавшуюся одних лишь скопцов.
Однако муж жены нашего полковника не был скопцом, а потому его помиловали, и он вернулся, чтобы осуществлять свои гражданские права.
Жена составляла часть вновь обретенных им гражданских прав.
Он явился за ней, однако она уже была замужем за полковником и имела от него трех детей.
Так что бедный полковник, занявший место мужа, оказался в том самом положении, какое занимал Дамокл, сидя под нависшим над ним мечом.
Пока мы ужинали, полковника кто-то вызвал: он вышел, но тотчас вернулся. Какой-то имеретинский князь, спешивший в Поти, просил у меня разрешения воспользоваться моей лодкой, предлагая взять на себя половину издержек.
Я ответил, что, за исключением этого последнего пункта, лодка находится в его полном распоряжении. Князь пытался настаивать, но я держался твердо, и он был вынужден покориться моей воле.
Когда дело было решено, он вошел и выразил мне свою признательность.
Это был красивый молодой человек лет двадцати восьми или тридцати, одетый в белоснежную черкеску, с оружием и поясом, украшенными золотыми узорами; под черкеской он носил бешмет из розового атласа, а под этим первым бешметом у него был другой, из жемчужносерого шелка.
Его широкие шаровары, заправленные по колено в высокие сапоги, были такими же белыми, как и его черкеска, если не считать того, что на них виднелось несколько еще свежих пятнышек грязи.
Его сопровождал нукер, одетый почти так же щегольски, как и он.
Князь поблагодарил меня по-грузински. Григорий переводил мне его слова по мере того, как он их произносил.
Князь направлялся в Поти: он спешил прибыть туда, чтобы встретить брата князя Барятинского, ехавшего в Тифлис и плывшего на том самом пароходе, на каком мы должны были добраться до Трапезунда, станции французских пароходов. Князя звали Соломон Нижарадзе.
Мы условились ехать утром как можно раньше, но полковник, знавший своих людей, заранее предупредил нас, что мы не должны рассчитывать на отъезд ранее восьми часов.
Скопцы имеют еще то общее с женщинами, что их чрезвычайно трудно вытащить из постели (если, конечно, доски, на которых они спят, можно назвать постелью).
Князь, пивший вместе с нами кофе, пришел в полное отчаяние от того, что ему не удастся выехать в пять часов утра; его убивала мысль, что он не будет встречать князя Барятинского, когда тот высадится в Поти.
Я поинтересовался, откуда проистекает такое великое отчаяние, и мне пояснили, что он начальник сельского
участка, через который брат наместника должен будет проехать по пути из Поти в Кутаис.
Мне приготовили постель в той самой комнате, где мы ужинали; это означает, что туда принесли стеганое одеяло с пришитой к нему простыней.
Во время ужина я припрятал одну из салфеток; как уже было сказано, после Тифлиса мне не удалось найти ни одного чистого полотенца, а эта салфетка была почти свежей.
Теперь мне недоставало только воды и таза; воды я добился, но что касается таза, то его получить было невозможно.
Наутро, в шесть часов, мы уже были на ногах, но, несмотря на все настояния розового князя – это прозвище, которое было легче произносить, чем фамилию князя Нижарадзе, придумал Муане, – но, повторяю, несмотря на все настояния розового князя, выехать нам удалось только в девять часов.
В момент отъезда я проявил беспокойство по поводу провизии, но Григорий, охваченный на короткую минуту ленью, которую я простил бы скопцу, но ему не прощу никогда, ответил мне, что вдоль всего пути нам встретятся деревни, где мы сможем запастись продуктами.
Так что мы простились с начальником Марани и, поторапливаемые розовым князем, который спешил уехать тем более, что наш отъезд задержался уже на целый час, погрузились в лодку, едва не сломав себе шею при спуске с высокого и крутого берегового склона Риона.
Да будет позволено мне сделать для Риона то же, что я уже сделал для Цхенис-Цхали, то есть называть эту реку ее древним именем Фазис.
Фазис в том месте, где мы сели в лодку, почти так же широк, как Сена у Аустерлицкого моста, но крайне мелководен; этим и объясняется конструкция лодок, на которых плавают по этой реке: они длинные, узкие и плоскодонные.
Кроме того, вскоре мы убедились в правдивости того, что говорили нам скопцы, отказываясь ехать в темноте: через каждые сто шагов течение реки преграждалось стволами вырванных с корнем деревьев.
На нашей лодке было трое скопцов: один сидел у руля, двое были на веслах.
Время от времени они своим тонким голосом обменивались с одного конца лодки на другой каким-нибудь еле слышным словом и снова впадали в угрюмое молчание; ни разу за все плавание ни один из них не насвистел ни единого звука, похожего на пение.
Данте забыл упомянуть этих лодочников в своем «Аду».
В полуверсте от того места, где мы сели в лодку, Гип– пус – выше я пытался написать его нынешнее название – впадает в Фазис, неся в своих водах тысячи льдин.
До этого на поверхности Фазиса не видно ни одной льдины.
Нам сказали, что на всем нашем пути мы обнаружим множество водоплавающей дичи; и в самом деле, мы вспугнули, хотя и вне пределов досягаемости, несметные стаи уток. Скопцы, когда мы стали расспрашивать их, решились ответить, что чуть подальше от человеческого жилья нам удастся обнаружить менее пугливую дичь.
Зато на каждом стволе дерева, выступавшем из воды, важно восседал готовый нырнуть баклан: время от времени он действительно нырял и затем показывался с рыбой в клюве.
Однако еще на Волге мы в ущерб нашим зубам разобрались, что баклан, став мертвым, оказывается таким же, каким был при своей жизни Ахилл, то есть неуязвимым; так что мы предоставили бакланам Фазиса возможность спокойно заниматься их скромным рыбацким ремеслом, ибо нам не хотелось стрелять лишь для того, чтобы стрелять, и убивать лишь для того, чтобы убивать.
Впрочем, предсказание наших скопцов сбывалось: по мере того как мы удалялись от колонии, утки становились менее пугливыми; первые позывы голода заставили нас стрелять по ним вне пределов досягаемости, что случается на воде даже с самым опытным охотником, которому следует стрелять, по правилам, лишь в том случае, когда ему удается различить глаз той дичи, в какую он метится; наконец мы точнее оценили дальность и начали попадать в них, к великому отчаянию нашего бедного князя, в каждой убитой утке видевшего очередную задержку плавания.
Между тем он вынул из кармана своей черкески кусок копченой осетрины, его нукер вынул из узла кусок хлеба, и, предложив нам разделить эту более чем скудную трапезу, от которой мы отказались, пребывая в убеждении, что нам предстоит более обильный завтрак, они с жаром, казавшимся особенно похвальным ввиду суровости их поста, принялись двигать челюстями.
Была пятница, а всякий православный христианин обычно соблюдает в этот день пост – не строжайший, но строгий.
Жалко было смотреть на эти румяные лица и видеть эти белые зубы, бившиеся над черным хлебом и кубиками рыбы, твердыми, как сухари.
Мы сострадали князю и его нукеру, думая о завтраке, который нам предстояло устроить из жареных уток, сопровождаемых вкусной яичницей, и были далеки от подозрений, что нам самим предстоит пост куда более суровый, чем у них.
И в самом деле, начав ощущать голод, мы поинтересовались у наших гребцов, далеко ли еще до деревни.
– Какой деревни? – спросили они.
– Той, где мы должны завтракать, черт побери!
Они посмотрели друг на друга не то чтобы смеясь – за два дня, проведенных вместе с ними, мы не видели улыбающимся ни одного скопца, – но с гримасой, которая у них была равноценна улыбке.
– Здесь нет деревни, – ответил тот, что сидел у руля.
– Как?! Здесь нет деревни?
– Нет.
Мы с Муане обменялись взглядами, а затем посмотрели на Григория.
Краска на лице выдала преступника.
– Почему же, дорогой мой, – спросил я, – вы говорили, что вдоль всего пути нам встретятся деревни?
– Я так думал, – ответил он.
– Выходит, вы так думали, не разузнав все как следует?
Григорий не отвечал.
Я не стал заходить слишком далеко в своих упреках; впрочем, его желудок восемнадцатилетнего человека выражал ему свое недовольство громче, чем это мог бы сделать я.
– Спросите, по крайней мере, у этих проклятых гребцов, – сказал я ему, – нет ли у них какой-нибудь провизии.
Он перевел им мой вопрос.
– У них есть хлеб, – произнес Григорий, передавая мне ответ скопцов.
– И только?
– И только.
– Пусть они уступят нам немного хлеба; с хлебом хотя бы не умрешь с голода. Черт вас побери с вашими деревнями вдоль всего пути!
– Они говорят, что у них есть лишь черный хлеб, – произнес Григорий.
– Черный хлеб, это, разумеется, не то, что нужно, – сказал я, вынимая свой нож, – но, в конце концов, за неимением белого хлеба ... Хлеба, – продолжил я, обращаясь к скопцам.
В ответ они произнесли несколько слов, смысла которых я не понял.
– Что они говорят? – спросил я Григория.
– Они говорят, что хлеба им хватит только для себя.
– Канальи!
Я потянулся к своей плетке, намереваясь поднять ее.
– Будет вам, – промолвил Муане, – надеюсь, вы не собираетесь бить женщин.
– Спросите их, по крайней мере, в котором часу мы прибудем в деревню, где можно будет пообедать.
Мой вопрос был передан скопцам в тех же самых выражениях, в каких я его задал.
– Часов в шесть или семь, – спокойно ответили они.
Было одиннадцать часов.
LVIII. ДОРОГА ОТ МАРАНИ ДО ШЕИНСКОЙ
Я взглянул на розового князя, полный решимости принять предложение, которое он сделал нам, приступая к завтраку.
Однако с завтраком было покончено, рыба обглодана до последней косточки, хлеб съеден до последней крошки.
Оставались утки, но мы не могли есть их сырыми, а наши гребцы не позволили нам развести огонь в лодке.
Разумеется, мы могли бы остановить лодку силой и развести огонь на берегу реки, но одна лишь мысль о том, в какое отчаяние придет бедный князь, если мы сделаем такой привал, заставило нас отступить от этого намерения.
Если бы это была другая река, мы напились бы воды, всегда действующей на голодный желудок как успокоительное средство, но вода Фазиса настолько желтая, что она способна на всю жизнь вызвать отвращение к любой речной воде.
В итоге я завернулся в шубу и попытался заснуть.
Муане принялся стрелять без разбора: не имея возможности утолить голод, он пытался таким образом отвлечься.
Еще три или четыре утки оказались подстрелены; если бы они были изжарены, нам хватило бы еды на три дня.
Время от времени я открывал глаза и сквозь мех своей шубы видел, что окрестности принимают все более величественный вид. Лес, казалось, становился выше и гуще, огромные лианы вились вокруг деревьев, густой и живучий плющ поднимался вверх, напоминая стену из зелени; посреди всего этого огромные засохшие деревья протягивали свои белые оголенные ветви, похожие на кости скелета, и на них неподвижно сидели орлы, издавая время от времени печальные и пронзительные крики.
Князь, к которому мы пристали с расспросами, сказал нам, что летом здешние леса великолепны, однако в них полным-полно больших луж, и лужи эти никогда не высыхают, поскольку солнечные лучи до них не доходят. Напуганные вами, здесь на каждом шагу и из-под каждого куста выскользнут черные и зеленые змеи, чрезвычайно опасные, как уверяют, и выбегут целые стада ланей, кабанов и косуль, на которых никто не смеет охотиться, поскольку для этого нужно пренебречь как опасностью заразиться лихорадкой, так и возможностью оказаться укушенным змеей.
Не без причины древние сделали из Медеи отравительницу: они совместили климат, царевну и страну в одном символе.
Одна из характерных особенностей Фазиса – крутизна его берегов. Из-за того что вода подтачивает левый и правый берега реки, земля там обрушивается, и оба они представляют собой отвесные обрывы высотой в пятнадцать футов. Во время гололедицы, подобной той, какой природа одарила нас, путешественники буквально становятся пленниками реки.
Через каждые четверть часа мы спрашивали, какое расстояние нам еще осталось проделать, чтобы добраться до деревни, где мы должны были обедать, и всякий раз скопцы отвечали с бесстрастием, от которого я выходил из себя: «Шесть верст, пять верст, четыре версты, три версты».
Наконец около половины седьмого вечера нам указали на деревню, где мы могли рассчитывать на обед.
Однако тут мной овладело беспокойство иного рода: каким образом мы сумеем взобраться на эти своеобразные стены, в которых заперто течение Фазиса?
Я не сводил глаз с берега и не видел никакой лестницы, даже приставной.
Мы уже достаточно основательно познакомились с этой страной, чтобы понять, что если природа не пришла здесь на помощь путешественнику, то человек никогда не даст себе труда подправить природу.
И в самом деле, нужно приложить немало труда, чтобы вырубить лестницу и устроить дорогу для полусотни путешественников, которые будут следовать ежегодно из Поти в Марани. Напротив, если такой лестницы не будет, то путешественник проедет мимо и никто не потревожит местных жителей.
А ничего другого эти славные люди и не требуют!
И в самом деле, зачем утруждать себя, чтобы продать пару яиц и старую курицу? Ведь пятидесяти путешественникам в год понадобится всего сто яиц и пятьдесят кур. Куда выгоднее продать красивую девушку за двести рублей или красивого мальчика за тысячу пиастров.
Я подозреваю, что именно это они и делают.
Один из наших гребцов выпрыгнул на землю и с помощью веревки начал подтягивать лодку, пока она не коснулась берега. Князь Нижарадзе и его нукер стали кинжалами выдалбливать в стене нечто вроде лестницы. Затем, став на самые надежные ее ступени, они протянули нам руки, и благодаря этому мы сумели подняться на верх берегового откоса.
В ста шагах от реки находился дом, а вернее, конюшня, которую наши лодочники охарактеризовали нам как обычный постоялый двор для путешественников.
Кругом лежал снег высотой в фут, однако в некоторых местах, более открытых солнечным лучам, чем другие, полуденное тепло растопило его, и он превратился в грязь.
Мы направились к конюшне и отворили ее дверь.
То, что открылось нашим глазам, заставило бы попятиться даже калмыка.
Посреди конюшни пылал огонь, дым которого валил куда только мог; вокруг этого огня лежали человек двадцать всех наций, своим обликом довольно точно воссоздавая картину пещеры атамана Роландо из «Жиль Бласа»; прислуживала им старая колдунья.
Возле своих хозяев лежали собаки, те гадкие собаки, какие составляют нечто среднее между волком и лисицей и начинают вам попадаться, как только вы приближаетесь к границам Турции.
Кругом всей конюшни стояли привязанные к стенам лошади, которые ржали, дрались и брыкались и которых приструнивали их владельцы, нещадными ударами кнута, висевшего у каждого на поясе, восстанавливая между ними мир.
Лишь свиньи оказались исключенными из этого своеобразного сообщества людей и животных, что было большой несправедливостью, но известно, что турки, уже преодолевшие свое отвращение к вину, не смогли еще преодолеть своего отвращения к этим животным.
Мы осмотрелись по сторонам. Нигде не было ни одного свободного места – ни возле огня, ни вдоль стен.
Каждый был занят своим обедом: один готовил кашу, подливая в нее масло, другой варил в горшке курицу, не заправляя ее ни солью, ни перцем, а третий ел залежавшуюся рыбу, от которой французская собака отвернула бы нос.
Входя туда, мы умирали с голоду, но уже несколько минут спустя были по горло сыты увиденным.
Будучи самыми изголодавшимися, Муане и я вошли первыми; вслед за нами вошел князь и его нукер.
При виде князя трое из тех, кто преграждал доступ к огню, поднялись.
Это были слуги князя, ожидавшие его здесь, словно перекладные лошади.
Князь сделал нам знак, что мы можем занять покинутое ими место, а сам принялся беседовать с ними.
Двое вышли.
Князь остался стоять. Было очевидно, что медлительность нашего передвижения беспокоила его, ибо он торопился прибыть в Поти, опасаясь упустить брата князя Барятинского.
Мы расположились на месте, освобожденном его нукерами, подтащили к огню бревно и сели на него; это бревно представляло для нас нечто вроде захваченных нами владений.
Что же касается людей князя, то они, не гонясь за такими чисто европейскими тонкостями, сели на корточки прямо на землю.
Оставив Муане стеречь бревно, я положил на место, которое мне хотелось занять, свою папаху, как в театральном зале оставляют свой головной убор, желая сохранить за собой кресло, и вышел вместе с Григорием.
Речь шла о том, чтобы ощипать уток: напомним, что мы владели семью или восьмью этими водоплавающими птицами.
Выйдя во двор, Григорий дал знак какой-то старухе, и она последовала за нами. Ему в конце концов тоже пришлось объясняться знаками, хотя он владел семью или восьмью языками, как мы владели семью или восьмью утками. Дело в том, что наречие, на котором говорят в этом отдаленном уголке Мингрелии и Гурии, было ему совершенно неизвестно.
Но женщина поняла, что речь идет о том, чтобы ощипать уток, и принялась за работу. Впрочем, ей помогла проявить сообразительность двадцатипятикопеечная монета.
Григорий отправился вырезать три палочки, которым предстояло быть возведенными в достоинство вертелов.
Пока я наблюдал, как ощипывают наше будущее жаркое, ко мне, сияя от радости, подошел князь: он достал лошадей и надеялся, что ему удастся за три-четыре часа добраться до Поти посуху.
Мы поздравили его, весьма сожалея, что из-за нашего громоздкого багажа не можем поступить так же, как он. Князь вошел в конюшню и представил нас путешественникам, нашим собратьям, как людей, оказавших ему услугу; затем мы обнялись, он вскочил на коня и помчался во весь дух, сопровождаемый свитой из четырех человек, трое из которых последовали за ним пешком.
Я смотрел, как он удаляется: этот человек, сидевший на скверной лошади, со своим нукером, одетым почти так же богато, как и он сам, и тремя оборванными людьми, бежавшими вслед за нукером, действительно имел облик князя.
Однако почти сразу же наше внимание отвлек предмет куда более значительный: ощипанные утки.
Оставалось лишь дождаться Григория и его палочек.
Наконец он появился.
Каждая утка была нанизана на палочку, и три эти палочки передали трем мальчишкам, получившим вместе с десятикопеечной монетой наставление непрестанно крутить над огнем насаженную на вертел дичь, ни под каким предлогом не притрагиваясь к ней руками.
Григорий отыскал мингрельца, который говорил по-русски и мог послужить ему переводчиком в наших сношениях с местными уроженцами.
Впрочем, было заметно, что после того, как князь отрекомендовал нас, уважение к нам значительно возросло.
Я наблюдал за тем, как крутятся вертела и жарятся утки, как вдруг со стороны реки послышались странные крики, не похожие ни на крики печали, ни на крики ужаса.
Скорее это было положенное на музыку стенание.
Мы с Муане бросились к дверям и увидели мингрельские похороны. Трупу, который несли к его последнему жилищу, устроили остановку между рекой и дверью нашей конюшни. Носильщики, утомившись, поставили гроб на снег. Священник воспользовался этой остановкой, чтобы прочитать несколько заупокойных молитв, а вдова – чтобы издать крики, которые мы только что слышали.
Но что больше всего поразило нас в этой вдове, одетой в черное платье и, несмотря на увещевания окружающих, царапавшей лицо ногтями, так это ее огромный рост.
Она была на голову выше самых высоких людей.
Подойдя к ней ближе, мы разъяснили для себя это явление.
Мужчины, обутые в сапоги, не боялись ходить по снегу, тогда как вдова, у которой не было никакой другой обуви, кроме бабушей, и которая оставила бы их там на первом же шаге, стояла на башмаках-подставках высотой в тридцать сантиметров.
Этим и объяснялся ее исполинский рост.
Две другие патагонки такого же роста, как она, составляли центр другой группы.
Это были дочери покойного.
Пять или шесть женщин, которые шли на таких же башмаках-подставках и неизвестно по какой причине остались позади, быстрым шагом догоняли главную группу.
Их широкие шаги, их походка, в которой из-за этих своеобразных ходулей не было уже ничего женственного, их красные, желтые и зеленые одежды, никоим образом не соответствовавшие похоронной церемонии, к которой они присоединились, придавали всему этому сборищу, ничуть, в сущности, не веселому, комический вид, поразивший Муане и меня, но, по-видимому, не оказавший никакого воздействия на присутствующих.
Кортеж снова двинулся в путь, но, несомненно благодаря настояниям родственников и друзей, вдову удалось уговорить не идти дальше, ибо она, сделав еще несколько шагов вслед за гробом, вдруг остановилась, откинулась на руки тех, кто ее сопровождал, и простерла руки в ту сторону, куда удалялся кортеж; затем, наконец, она вернулась той же дорогой, по какой пришла.
Чуть подальше в свой черед так же поступили обе ее дочери: они остановились, а потом отправились следом за матерью.
Гроб скрылся в лесу по правую руку от нас.
Вдова и ее дочери скрылись в противоположной стороне.
Вернувшись в конюшню, мы кинули взгляд на наших жарил ьщиков.
Эти мерзавцы, желая поскорее изжарить уток, сделали у них на груди продольные надрезы, через которые истек весь их сок и вылилась вся их кровь.
Так что мы располагали теперь лишь какими-то сухими комочками, по вкусу похожими скорее на волокна конопли, которую Сесострис ввез в Мингрелию, чем на то сочное мясо, каким мы надеялись утолить свой голод, ставший особенно сильным на свежем воздухе.
Надеть на вертела трех других уток и надлежащим образом понаблюдать за ними было бы делом одного часа, но наш желудок воспротивился такому проявлению гурманства.
Так что мы вытащили из своей походной кухни тарелки, взяли каждый по утке и мгновенно съели их: Муане и Григорий – с черным хлебом, а я – без хлеба.
Я испытывал отвращение к этому ужасному черному хлебу.
Когда мы утолили голод, нам ничего не оставалось, как выспаться.
Однако нелегко было спать в этом притоне, среди брыкавшихся лошадей, среди собак, обгладывавших кости наших уток, и блох, в свою очередь приступивших к ужину.
Но, употребляя слово «блохи», я, быть может, несколько ограничиваю перечень сотрапезников, призванных питаться нашим мясом: боюсь, что, как в басне, городская мышь пригласила в гости мышь полевую.
На минуту у меня даже мелькнула мысль установить палатку на берегу реки, и я вышел, чтобы отыскать подходящее место; но земля промокла до такой степени, что нам пришлось бы решиться спать буквально в грязи.
Оставалась еще лодка.
Но соседство этих гадких скопцов вызывало у меня еще большее отвращение, чем соседство здешних путешественников с их собаками и лошадьми.
Поэтому я покорно, как те мученики, каких отдавали в цирке на съедение диким зверям, вернулся в конюшню.
О, если бы я мог работать, если бы я мог читать, если бы я мог делать заметки ...
Но здесь не было ни стола, ни пера, ни чернил; свет же, исходивший от огня, ложился лишь на землю, что делало карандаш бесполезным.
Мы сделали из бревна изголовье, протянули ноги к огню, обернули голову башлыком и попытались уснуть.
Но мои глаза, прежде чем в самом деле закрыться, не раз приоткрывались и вперивались в красно-золотой бешмет какого-то турка из Ахалциха.
Что это был за красный цвет! Когда я закрывал глаза, он представлялся мне еще более ярким.
Не знаю, кто сказал, что красный цвет среди прочих цветов то же, что труба среди музыкальных инструментов, но это истинная правда.
Красно-золотой бешмет турка бил мне в глаза и будил меня, словно трубные звуки.
Я поднялся и предложил турку одно из своих одеял; к счастью, он принял мое предложение: одеяло было серое, турок натянул его по самый нос и слился с мраком.
В это время в конюшню вошел какой-то человек с курицей в руках.
В любом другом месте такой факт был бы крайне незначительным эпизодом, но в Шеинской – я забыл сказать, что мы находились в Шеинской, – это оказалось целым событием.
Едва курица закудахтала, каждый поднял голову.
Все, за исключением нас, располагавших утками, притязали на эту несчастную курицу.
Человек в красном бешмете, ставший здесь после отъезда князя самой значительной особой, несомненно предложил за нее самую высокую цену, ибо она была продана ему.
Он взял ее, растянул ей шею на конце головни и ударом кинжала отсек ей голову.
У меня мелькнула мысль, что он, словно дикарь, намеревается съесть курицу прямо с перьями.
Тем не менее я ошибся; по-видимому, какое-то время он обдумывал, в каком виде ее приготовить, и, вероятно в надежде съесть птицу изжаренной, попытался ее ощипать.
Но перья не поддавались: ему пришлось иметь дело с курицей, прожившей долгую жизнь.
Тогда он решил позвать старуху, ощипавшую наших уток.
Однако ее нигде не было видно.
Несчастная женщина, изгнанная из конюшни, устроилась снаружи, расстелив на снегу охапку соломы как подстилку и положив под голову обрубок дерева.
На дворе было пятнадцать градусов мороза; к несчастью, бедняжка была так омерзительно грязна, что у меня не хватило духу сделать для нее то, что я недавно сделал для русского офицера, то есть предложить ей тулуп и папаху.
(Я забыл сказать, что офицер, верный своему обещанию, оставил эти вещи на почтовой станции в Кутаисе, где я их и обнаружил.)
Старуха в свою очередь попыталась ощипать курицу, но уже вместе со вторым пером вырвала кусок кожи.
Оставался лишь один способ: ободрать ее, словно зайца; но турку, по-видимому, претило такое крайнее средство.
Между ним и старухой начались переговоры.
Словно в волшебной сказке, турок, как мне казалось, выражал желание, но желание это не исполнялось.
Я был вполнен доволен, что могу не спать, ведь было всего лишь восемь часов вечера, и с помощью Григория вмешался в разговор.
Мне казалось предпочтительнее бодрствовать с восьми до десяти часов вечера, чем с двух часов ночи до четырех утра.
К тому же я был почти уверен, что не буду спать вовсе: мне ясно указывали на это усилия, затраченные мною на то, чтобы уснуть.
От Григория я узнал, что турок и старуха досадуют из-за отсутствия котелка или кастрюли.
У меня было и то, и другое.
Я сказал пару слов Григорию, и он поставил у ног нашего паши оба предмета, в которых тот так нуждался.
Турок выбрал кастрюлю.
Налив в нее воды, кастрюлю поставили на огонь и, когда вода закипела, туда опустили курицу.
Через минуту ее вынули из кастрюли и в третий раз попытались ощипать.
Перья отделились, словно по волшебству.
В итоге курица была ощипана, выпотрошена и снова положена в тот же самый кипяток, откуда ее только что вынули.
К чему было менять воду, если не меняли курицу?
Турок, не беспокоясь о будущем, снова лег спать, дав перед этим свой носовой платок старухе.
Старуха осталась следить за варкой.
Через час она за лапы вытащила из кастрюли курицу, ущипнула ее, желая проверить, сварилось ли мясо, и, решив, что оно готово, завернула курицу в платок турка.
Очевидно, курица предназначалась ему на завтрак.
После этого старуха вышла.
Чтобы продлить свое бодрствование как можно дольше, я пытался перевести свое внимание на что-нибудь другое, но тщетно: все кругом спали, и храпение кое-кого из спящих свидетельствовало о добросовестности, с какой они исполняли это сладостное занятие.
LIX. УСТЬЕ ФАЗИСА
Эта ночь была для меня одной из самых утомительных за все время моего путешествия. Невозможно дать представление о том, как медленно тянутся часы, получасы, четверти часа, минуты и даже секунды подобной ночи.
Все спали, за исключением меня, хотя я был разбит усталостью и меня тянуло в сон.
Я вспоминал знаменитых клопов Мианы, которые кусают чужестранцев и щадят местных жителей. Не так ли поступают и мингрельские насекомые? Но ведь Муане был такой же чужестранец, как и я, по какому же праву он в таком случае спал?
Раз двадцать я подходил к дверям посмотреть, не рассвело ли. У дверей, на соломе, лежала старуха, спавшая таким же глубоким сном, каким могла бы спать герцогиня на самой мягкой постели.
Наконец в четыре часа утра проснулся турок: он вынул из кармана часы и разбудил трех своих спутников.
Что же касается меня, то я не имел даже такого утешения, как возможность следить за ходом времени: напомним, что мои часы, несмотря на все розыски, предпринятые Калино, так и остались в роще на горе Ахсу.
Увидев, что турок проснулся, я тотчас разбудил Григория и послал его к лодке сказать нашим гребцам, чтобы они готовились к отъезду.
Скопцы спали вповалку, как телята на ярмарке; один из них открыл глаза, посмотрел на небо и ответил:
– Мы поедем через два часа. Рассветет не раньше, чем через пару часов, а в темноте Рион опасен.
Я слишком хорошо знал их, чтобы настаивать на своем.
Мне пришлось ждать еще два часа.
Впрочем, четыре часа утра были, по-видимому, временем общего пробуждения в Шеинской. Каждый отряхивался, потягивался, зевал, откашливался и озирался по сторонам красными и осоловелыми глазами еще не совсем проснувшегося человека.
Турок сел на корточки, достал свой платок, развязал его и, в то время как один из его спутников ломал хлеб на пять или шесть кусков, принялся с ловкостью, свидетельствовавшей о его большом навыке в подобном деле, разрывать руками сваренную накануне курицу на столько же частей, сколько получилось кусков хлеба.
Я с ужасом увидел, что на один из самых больших ломтей хлеба турок положил крылышко и часть куриной грудки, и, инстинктивно осознав, что исключительная забота об этой порции была любезностью по отношению ко мне, содрогнулся.
И я не ошибся: турок протянул руку и с приветливой улыбкой предложил мне долю своего завтрака. Я вспомнил Луку с его рыбой и подумал, что с моей стороны будет крайне невежливо, приняв рыбу от одного, отказаться от хлеба и курицы другого.
А потому я смело взял подарок турка и, стараясь забыть, через что прошла эта курица, как ее ощипывали и варили, во что заворачивали и каким образом расчленяли, прежде чем она оказалась в нынешнем ее состоянии, принялся отважно вгрызаться в хлеб и курятину.








