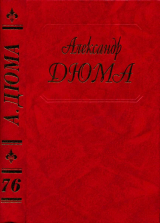
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Сам по себе ни один из них не смог бы сохранить равновесие на спине лошади.
Я заметил сани во дворе гостиницы и попросил хозяина продать их мне или дать напрокат.
Трактирщик не пожелал ни того, ни другого; тогда я призвал на помощь полковника Романова, и, хотя он уверял, что мне никогда не выбраться из мингрельской грязи, если я поеду на санях, ему удалось добиться, чтобы сани были даны мне напрокат за четыре рубля.
Муане выходил из терпения от всех этих задержек и вполне обоснованно заявлял, что мы никак не успеем прибыть в Поти к пароходу, отходящему 21 января. Как и он, я тоже стал беспокоиться по этому поводу, но бывают препятствия, преодолеть которые можно лишь ценой времени.
Занимаясь погрузкой своего багажа, я имел дело с одним из таких препятствий.
Чтобы успокоить Муане, я предложил ему уехать прежде меня, взяв с собой Григория, одну из навьюченных лошадей и проводника.
Сам же я намеревался поехать с санями и с семью или восьмью остальными лошадьми.
Прибыв на станцию, он и Григорий займутся ужином.
Я приеду туда позднее, как уж сложится, с остальным багажом и слугой-грузином, которого предоставил мне полковник Романов, чтобы я мог объясняться с моими ямщиками, поскольку грузин немного говорил по-французски.
Муане и Григорий отправились в путь.
Я потерял еще около часа на то, чтобы нагрузить сани и поменять обычное седло моей лошади на гусарское, данное мне во временное пользование полковником Романовым.
Наконец мне сообщили, что все готово. Я обнял полковника, сел в сани, поручив грузину держать мою верховую лошадь на поводу, и в свою очередь отправился в путь.
LVI. ДОРОГА ОТ КУТАИСА ДО МАРАНИ
Не проехав и одной версты, я уже дважды вывалился из саней.
Поскольку у меня не было никакого желания возобновлять те акробатические упражнения, каким мне пришлось предаваться накануне, я подозвал грузина и сел верхом на лошадь.
Вначале мы ехали по обширной равнине, следуя по дороге, к которой с обеих сторон прилегали канавы: они были наполнены водой, покрытой тонкой пленкой льда, а кое-где и слоем снега толщиной в несколько футов.
Эта равнина заканчивалась у леса, тянувшегося, по словам наших проводников, на двадцать льё. Во времена последнего царя, страстного охотника, лес этот строго охранялся как охотничий заповедник и предназначался для его развлечений; называется он Маглагским лесом.
Еще и сегодня, хотя теперь туда может войти с ружьем кто угодно, он, как уверяют, изобилует всякого рода дичью.
Однако эти заверения не смогли побудить меня вытащить охотничьи ружья, надежно привязанные внутри саней. Я видел уже столько дичи, от куропаток в Шелковой до фазанов в Ахсу, что мои охотничьи порывы полностью утихли.
Мы вступили в лес царя Соломона.
Ничто пока не оправдывало мрачных предсказаний полковника Романова. Дорога была если и не хорошая, то все же проезжая, и сани, после того как они освободились от моего веса, обременявшего их, вели себя довольно неплохо.
Мы проделали так почти шесть или восемь верст, двигаясь по просеке, которая была проложена посреди леса и с обеих сторон которой по-прежнему тянулись те же канавы, что и на равнине.
Вскоре, однако, дорогу начали перерезывать ручейки ключевой воды: одни текли поперек нее, стекая в канавы, другие – вдоль кюветов, следуя в том же направлении, что и я.
Мне подумалось, что это и есть та знаменитая река, о которой говорил полковник, но сократившаяся до размеров ручья.
Мало-помалу ручейки стали попадаться все чаще, и все эти маленькие водоносные жилы соединялись в одну большую артерию, постепенно вторгавшуюся в середину дороги и в конце концов соединившуюся с обеими канавами, края которых, прилегавшие к лесу, сделались при этом двумя берегами.
Но пока это скорее шло нам на пользу, чем становилось для нас затруднением: вода, которая текла чересчур быстро, чтобы замерзнуть, очищала землю от снега и грязи и покрывала ее тонким слоем мелкого галечника – по нему превосходно скользили сани, и он делал более надежным шаг моей лошади.
Так что я радовался этому непредвиденному обстоятельству, вместо того чтобы жаловаться на него. Не владея языком моих проводников, я не мог задавать им вопросы; что же касается грузина, которого беседа со мной явно не развлекала, то он все время старался держаться подальше от меня, чтобы не слышать моего голоса; впрочем, на несколько моих вопросов он ответил так невразумительно, что после двух или трех подобных ответов я полностью излечился от неуемного желания расспрашивать его.
В итоге мне пришлось взять себе в спутники, а вернее, в спутницы, собственную мысль, и я ехал, предаваясь мечтам, убаюкиваемый иноходью моей лошади.
Каждую минуту нас задерживало какое-нибудь происшествие: то, чаще всего, с плохо навьюченной лошади сваливался груз, падая в эту милую речку, становившуюся все шире и глубже; то сани не могли без помощи двух или трех наших проводников пройти через какое– нибудь трудное место.
И тогда приходилось снова вьючить лошадь, помогать саням преодолевать препятствие, а все это отнимало время: нам нужно было проехать двадцать четыре версты от Кутаиса до станции, а мы не проехали и двенадцати, хотя было уже четыре часа пополудни.
Так что я должен был не только потерять надежду прибыть в тот же день в Марани, но еще и считать себя счастливым, если не слишком поздно доберусь до Губис– Цхальской станции.
Река – ибо это более уже не была дорога, – по руслу которой двигались наши вьючные лошади, сани и я, становилась все глубже и, набирая глубину, теряла скорость, так что время от времени я стал слышать, как скрипит под копытами моей лошади ледяная корка.
Однако сани, шедшие впереди меня, чаще всего взламывали эту ледяную корку, и я продолжал ехать в воде, глубина которой, впрочем, пока не превышала восьми или десяти дюймов.
Вскоре, поскольку дно реки продолжало углубляться, а ее течение замедляться, корка льда стала толще и уже могла, по крайней мере кое-где, выдержать сани, которые в других местах проламывали ее и наполовину скрывались в воде.
Вначале я настроился следовать тем же путем, что и сани, но два или три раза моя лошадь упала, и мне пришлось отказаться от этого намерения; так что я ехал там, где более быстрое течение ручья не давало льду застыть.
Эта проталина оставляла мне дорогу шириной в два– три фута.
Кроме того, из снега, скатившегося с обоих склонов, местами тоже получалась проезжая дорога, но для этого нужно было приблизиться к лесу, и тогда мне приходилось беспрерывно остерегаться ветвей деревьев, хлеставших меня по лицу. Так что вскоре я возвращался к своей проталине, создававшей мне лишь одно достаточно серьезное неудобство: мои ноги мерзли от брызг, летевших из-под копыт лошади.
Дорога становилась все труднее, а день клонился к вечеру: было, наверное, уже пять часов дня, и у нас оставалось не более часа светлого времени.
В поисках более удобной дороги наши погонщики лошадей порой взбирались по одному из откосов наверх и шли под кронами деревьев, не встречая никаких помех, поскольку шедшие впереди них лошади прокладывали им дорогу, раздвигая собой ветви этого почти непроходимого леса.
Что же касается меня, то, хотя нижняя часть моего тела совершенно окоченела от холода, я продолжал следовать все той же дорогой, к великому отчаянию своей лошади, которая всякий раз, когда лед ломался у нее под ногами, пыталась отскочить в сторону и, если это ей удавалось, оказывалась на скользком льду, где тут же падала всем станом.
При этом я машинально расставлял свои ноги, лошадь поднималась, я кое-как снова обретал равновесие в седле и продолжал путь; если бы в одном из таких падений у меня сломалась нога, то, вероятно, я бы этого даже не почувствовал.
Эта тяжкая пытка продолжалась целый час.
Время от времени, при виде того, что сани довольно легко едут там, где моя лошадь идет с таким трудом, в голову мне приходила мысль спешиться и сесть в них, но как раз в ту минуту, когда я намеревался уступить одному из подобных искушений, сани опрокинулись и выбросили на самую середину ручья моего ямщика, настоящего сибарита, уже исполнившего то, что я лишь задумал сделать.
Тем временем стемнело.
Не стоит и говорить, что темнота осложнила наше положение, добавив к нему новую трудность; речная дорога, по руслу которой я ехал, внушала все возраставшую неприязнь моей лошади, как вдруг я заметил на правом берегу ручья вереницу лошадей, нагруженных поклажей и довольно спокойно двигавшихся в чаще леса, где они то ли отыскали дорогу, то ли сами прокладывали ее. Я подумал, что мне лучше всего предоставить саням выкручиваться, как они смогут, а самому последовать за караваном.
В итоге я направил лошадь к краю русла и, с немалыми усилиями заставив ее взобраться по склону, оказался в лесу, в арьегарде каравана.
Дорога в лесу, насколько я мог судить, и в самом деле была лучше, чем по дну ручья, однако вскоре я заметил, что она мало-помалу удаляет меня от саней; но это не имело значения: основательно нагруженные сани могли приехать на станцию одним путем, а я с остальной поклажей – другим.
И потому, следуя своей дорогой, я без всякого беспокойства прислушивался к звону почтовых колокольчиков, становившемуся все слабее и слабее, пока вдруг, причем совершенно незаметно, он не перестал доноситься до меня совсем.
Прошло около получаса; в течение этого времени, обрадованный изменением грунта у себя под ногами, что позволяло мне испытывать беспокойство лишь из-за ветвей, хлеставших меня по лицу, я не мешал моей лошади идти, как ей вздумается, а сам предавался размышлениям.
Наконец, у меня появилась мысль спросить грузина, единственного человека, понимавшего по-французски, далеко ли мы еще от станции.
Никто не ответил мне; я повторил вопрос: в ответ то же молчание.
И тогда в моей голове начало зарождаться подозрение. Я подъехал к человеку, находившемуся ближе всего ко мне, и, внимательно посмотрев на него, не узнал в нем ни одного из наших проводников.
Точно так же в поклаже лошади, которую он вел, я не узнал ни один из наших ящиков и ни одну из наших корзин.
– Губис-Цхальская? – спросил я его, показывая на дорогу, по которой мы следовали.
Так называлась станция, где нам предстояло провести ночь.
Человек засмеялся.
– Губис-Цхальская? – повторил я, сделав тот же жест.
Тогда он, в свою очередь, повторил это название и указал мне рукой в сторону, совершенно противоположную той, в какую мы следовали.
Мне тотчас стало понятно, что случилось, и, признаться, по всему моему телу пробежала дрожь: покинув сани, я последовал за чужим караваном и заблудился.
Я остановил лошадь и прислушался.
У меня была надежда услышать почтовые колокольчики, но звук их затих где-то вдали, и я даже не мог более или менее уверенно сказать, в какой стороне это произошло.
Более того, направление, которое проводник каравана указал мне как то, где находилась почтовая станция, было, насколько я мог судить, диаметрально противоположно тому, куда, по моим представлениям, удалились сани.
Но дорога могла сделать поворот.
Я остановился в нерешительности, не зная, что предпринять.
Положение было тяжелое: я заблудился в лесу, простиравшемся на двадцать льё, нигде кругом не было видно никаких признаков дороги, по которой мне следовало ехать, я не владел местным языком, чтобы, встретившись с кем-нибудь, кто мог бы мне указать ее, объясниться с ним, и к тому же не приходилось скрывать от себя, что всякая встреча могла быть для меня скорее опасной, чем спасительной.
К довершению всех бед, находясь в краю, где любой человек, которому пришла в голову мысль обойти вокруг своего дома в восемь часов вечера, берет ружье, я не имел с собой никакого оружия, кроме кинжала.
Более того, при мне были все мои деньги.
Даже во Франции, в лесу Фонтенбло или в Компьен– ском лесу, подобное положение было бы если и не опасным, то, по крайней мере, неприятным, но в Имеретии, между Кутаисом и Марани, оно представлялось весьма серьезным.
Следовало принять решение, и я, повернув назад, пустил лошадь по направлению, указанному мне погонщиком; у меня еще оставалась надежда встретиться с караваном, от которого отделились мои сани.
Я остановил свою лошадь и, надеясь, что этот караван находится на расстоянии человеческого голоса, несколько раз позвал своего проводника-грузина.
Но никто не ответил мне; лес в своем огромном снежном покрывале казался мертвецом, завернутым в саван.
У меня не было никакого представления о том, в каком направлении могла находиться Губис-Цхальская.
Если бы со мной было мое ружье и всего лишь двадцать пять патронов, то это стало бы, во-первых, средством самозащиты, а во-вторых, способом дать о себе знать; те, кто находился при санях или в караване, должны были понять, не видя меня более рядом с собой, что я заблудился, и отправиться на поиски, так что ружейные выстрелы могли бы помочь им сориентироваться и прийти ко мне.
Но у меня не было ружья.
Я пустил лошадь по какому-то совершенно сомнительному направлению, и она повиновалась; однако никаких признаков дороги по-прежнему видно не было, и в течение получаса я ехал наугад.
У меня складывалось впечатление, что я все больше удалялся от цели, которую мне хотелось достичь.
К тому же лес становился настолько густым, что можно было предвидеть наступление минуты, когда мне придется остановиться, поскольку нельзя будет сделать ни шагу дальше.
Я вновь повернул коня и поехал назад.
Когда человек находится в таком положении, он полностью теряет голову.
Я повернул направо, но мне показалось, что я ощутил какое-то сопротивление со стороны лошади. В такого рода обстоятельствах, когда человеческий разум доведен до крайности и сам сознает пределы своих возможностей, ему следует отказаться от власти и уступить ее инстинкту животного.
То, как неохотно лошадь подчинилась мне, ясно показывало, что я заставляю ее идти по неверному пути.
Я остановил лошадь и стал размышлять.
Итогом этих размышлений стало следующее умозаключение.
«Моя лошадь – это почтовая лошадь, привыкшая проделывать дорогу между Кутаисом и Губис-Цхальской.
В Губис-Цхальской она ест овес и отдыхает два часа.
Если не мешать ей идти, она, по всей видимости, пойдет туда, где ее ожидают ужин и отдых».
Несомненно, я был на верном пути.
Мне оставалось лишь бросить поводья на шею лошади.
Ни минуты не раздумывая, она пустилась рысью, а я вполне настроился не противоречить ей ни в чем – ни в ее аллюре, ни в избранной ею дороге.
Минут через пятнадцать я уже ехал между двумя рядами деревьев, напоминавших какую-то дорогу.
К несчастью, было так темно, что, несмотря на мерцание снега, мне не удавалось различить ни следов лошадиных копыт, ни следа санных полозьев.
Я спешился и, крепко держа в руке поводья, наклонился к земле.
Одного зрения тут было недостаточно, но, благодаря своим охотничьим навыкам, я восполнил одно чувство другим и призвал руку на помощь глазам.
И тогда я отчетливо различил на снегу двойной след: отпечатки копыт лошадей, шедших в том же направления, что и я, и две борозды, в которых по их ширине угадывался след санных полозьев.
Но были ли лошади и сани, проехавшие здесь, моими лошадьми и моими санями?
Пока я был занят этой проверкой, шагах в ста от меня послышался вой.
Выл волк.
Почти в ту же минуту зверь перебежал дорогу, ненадолго остановился, чтобы втянуть запах, шедший с моей стороны, завыл во второй раз и исчез.
Теперь ружья мне недоставало больше, чем когда-либо прежде.
Я снова сел на лошадь. Не имело никакого значения, чьи сани оставили здесь распознанный мною след, мои или кого-нибудь другого – хотя, вероятно, они все же были мои, ибо, кроме меня, ни у кого во всей Имеретии не хватило бы упрямства ехать в санях по подобной дороге, – в любом случае, повторяю, они ехали в ту сторону, в какую моя лошадь хотела идти сама.
Так что я решил не мешать ей идти по собственной воле, к тому же в согласии со следами, оставшимися на снегу, и настроился ехать туда, где находились эти сани.
Я снова выпустил из рук поводья, и лошадь двинулась вперед с новым рвением.
Было видно, как под покровом леса, словно тени, бесшумно следовали за мной звери; время от времени какая– либо из этих теней испускала в меня две молнии: это были глаза волка, смотревшего в мою сторону.
Меня это мало беспокоило, но моя лошадь была встревожена куда больше: она поворачивала голову то вправо, то влево и фыркала.
Затем она ускоряла ход.
То, как она спешила поскорее добраться до места, было добрым знаком, ибо доказывало, что мы приближались к станции.
Кроме того, уже стал слышаться лай собак, но он раздавался еще очень далеко.
Внезапно по левую сторону от себя я заметил какую-то темную массу; на мгновение у меня появилась надежда, что это дом. Строение было окружено оградой; я заставил лошадь перепрыгнуть через ограду и объехал вокруг него.
Это была заброшенная часовня.
Напротив дверей часовни находился казачий пост, заброшенный, как и она сама.
Я снова заставил лошадь перепрыгнуть через ограду, но с другой ее стороны оказался ров, которого я не мог заметить, так как он был до самого верха занесен снегом.
Лошадь упала, а я покатился в ров.
К счастью, соседство часовни, по-видимому, вынуждало волков держаться в отдалении; если бы это случилось на дороге, то мне непременно пришлось бы иметь с ними дело, когда я вставал на ноги.
Я снова сел в седло и снова отпустил поводья лошади, двинувшейся в прежнем направлении.
Не проехав и ста шагов, я заметил приближавшегося ко мне всадника.
Я остановился, положил руку на кинжал, единственное свое оружие, и, встав поперек дороги, крикнул по-русски:
– Кто идет?
– Брат, – ответил незнакомец.
Я подъехал к б р а т у, с которым мне было так приятно встретиться.
Это был донской казак в косматой папахе и с длинной пикой.
Его спешно отправил навстречу мне Муане, который, прибыв на станцию и тревожась за меня, послал его на поиски.
Казак поехал вперед, а я последовал за ним.
Через полчаса я увидел сквозь окно станционного дома силуэты Муане и Григория, гревшихся перед жарким огнем.
Признаться, эта картина показалась мне более приятной, чем зрелище волков, за час до этого бежавших следом за мной.
Я дал казаку рубль и велел задать двойную порцию овса бедному животному, только что сумевшему так разумно вывести меня из затруднительного положения.
Да примут все это к сведению путешественники, которые окажутся в таких же обстоятельствах.
Распряженные сани стояли у ворот. Вьючные лошади и багаж прибыли лишь через два часа после меня.
Ямщики потеряли или украли, что гораздо вероятнее, два моих черкесских ружья, одно из которых было великолепным: на его стволе стояло клеймо знаменитого Керима. Оно стоило двух карабахских коней, и его взяли у лезгинского командира в бою, в котором был убит генерал Слепцов.
К счастью, у меня оставалось еще два подобных ружья: одно было подарено мне князем Багратионом, а другое – князем Тархановым.
LVII. СКОПЦЫ
Переночевав на станции Губис-Цхальской, наутро мы отправились в Старый Марани.
Как и накануне, я держал при себе верховую лошадь, хотя и настроился ехать, где только возможно, в санях.
Муане, который накануне, падая с лошади, ухватился за ветку и разодрал себе руку, попросил у меня разрешения ехать на моей лошади, пока она не понадобится мне самому: на ней было превосходное гусарское седло, данное мне во временное пользование полковником Романовым, о чем, помнится, я уже говорил.
Короче говоря, он уселся в гусарское седло, я как можно крепче устроился в санях, и мы тронулись в путь.
Ночью сильно подморозило, что делало дорогу более легкой для саней, но более трудной для лошадей.
В итоге, вместо того чтобы находиться, как накануне, в хвосте каравана, я оказался во главе его и, вместо того чтобы ехать медленнее, чем мои спутники, ехал быстрее их.
Примерно через час, повернув голову назад, я различил вдали лошадь без наездника. В тот же миг я велел остановить сани: дорога была настолько скверная, что сам Боше не мог бы поручиться, что он удержится на ней в седле.
Позади лошади ехал всадник, по-видимому гнавшийся за ней; всадник этот был Григорий, так что выбило из седла Муане.
Через минуту лошадь и всадник оказались возле меня, и мои ямщики остановили лошадь.
Выяснилось, что она свалилась в канаву и перебросила Муане через голову: то же самое случилось накануне со мной.
К счастью, на этот раз не нашлось ветки, за которую он мог ухватиться, и падение не причинило ему никакого вреда.
Я продолжил ехать, намереваясь опередить, если удастся, своих товарищей и заранее приготовить лошадей на следующей станции; грузин должен был по приказу Григория догнать меня и служить мне переводчиком.
Все шло хорошо до десяти часов утра, но в десять часов утра повторилось то же явление, какое мы уже видели на равнине: несмотря на снег, покрывавший землю, воздух нагрелся от жарких лучей солнца, снег мало-помалу растаял, и я оказался в море грязи.
Кто не видел грязи Мингрелии – хотя я и не находился еще в самой Мингрелии, но, тем не менее, уже был на ее границе, – тот не видел ничего.
В одно мгновение я оказался покрыт слоем черноватой земли, угрожавшей превратиться в прекрасную литейную форму, моделью для которой мне предстояло стать; подозвав Григория, я велел ему сесть на одну из запряженных в сани лошадей, а сам взял его лошадь.
Менее чем через час дорога превратилась в зыбкое болото, в котором моя лошадь начала вязнуть вначале по копыто, затем по колено и, наконец, по грудь.
Это болото пересекали ручьи, где лошади и сани скрывались до половины; чтобы перебраться через них и достичь другого берега, требовались неимоверные усилия. Я имел неосторожность остановиться на минуту, чтобы присутствовать при одном из таких выдергиваний, и только когда я попытался двинуться дальше сам, выяснилось, что, оставаясь на одном месте, моя лошадь увязла по грудь.
Стремена у меня задевали землю, если только можно назвать землей то жидкое и вязкое вещество, по которому мы прокладывали себе путь.
Какие усилия я ни предпринимал, чтобы вытащить свою лошадь из этого тесного плена, все было бесполезно, пока я сидел у нее на спине; спешившись, я сам погрузился по колено в эту топь, не желавшую, видимо, нас выпускать, и только с помощью сильных ударов плетки мне удалось вытащить лошадь из более чем трудного положения, в какое она попала.
После этого настал мой черед: я вцепился в ее гриву и через три или четыре шага очутился в конце концов на земле достаточно твердой для того, чтобы сделать себе из нее точку опоры и снова сесть в седло.
Так мы проехали четыре льё.
В предвидении не то чтобы подобных дорог – ибо такое невозможно предвидеть в стране, где имеется сеть почтовых станций, – а просто плохих дорог, я купил в Казани сапоги. Они доходили мне до бедер и пряжками пристегивались к тому же поясу, что и мой кинжал.
Так вот, когда я приехал на станцию, в моих сапогах оказалось столько же грязи, сколько ее было снаружи.
Но все же я туда в конце концов приехал, хотя два или три раза у меня были опасения пропасть без вести. Подобные происшествия, как нам сказали в Марани, случаются довольно часто.
Не доезжая одного льё до Марани, мы встретили на своем пути реку Цхенис-Цхали, Гиппус древних.
Древние называли ее Гиппусом, то есть рекой Лошади, из-за большой скорости ее течения.
Впрочем, название «Цхенис-Цхали» представляет собой всего-навсего перевод слова «Гиппус» и означает «Лошадиная вода».
Мы остановились у дверей постоялого двора, разделенного на два помещения. Меньшее из этих помещений, представлявшее собой нечто вроде мелочной лавки, имело площадь около десяти квадратных футов и заключало в себе наваленные друг на друга предметы первой необходимости: хлеб, сыр, сало, свечи, вино и растительное масло, соприкасавшиеся между собой с чисто первобытной простотой.
Два мальчика, старшему из которых было на вид лет девять, состояли служителями этого храма Меркурия.
Вторая комната служила общим залом, столовой и кухней. Посреди нее пылал большой очаг, дым которого уходил через отверстие, проделанное в потолке. Над всем этим находился чердак, куда влезали по установленному почти отвесно бревну, в котором были сделаны зарубки, чтобы ставить на них ногу.
В этой комнате я и сделал привал.
На огонь поставили яйца; на конец палки нанизали курицу, убитую и ощипанную по случаю нашего приезда, и вертели ее над раскаленными углями, в то время как один из мальчиков скоблил меня с ног до головы ножом, как если бы он имел дело с рыбой или морковью.
Я вымыл лицо и руки мутной водой Гиппуса – да будет мне позволено предпочесть древнее имя новому – и обсушил их на солнце. После нашего отъезда из Тифлиса мы не обнаружили ни одного полотенца, приложить которое к лицу у нас хватило бы мужества.
Мои носовые платки и полотенца находились в чемоданах, ключи же от этих чемоданов, напомню, остались в Тифлисе, а почтовый курьер, который должен был проделать дорогу самое большее за сорок восемь часов, так и не прибыл в Кутаис, хотя выехал еще девять дней назад.
Мучительно не есть, тяжело не пить, раздражительно не спать; но для человека, привыкшего иметь в своей спальне все необходимые туалетные принадлежности, есть кое-что похуже, а именно не мыться.
Когда Муане и багаж прибыли, яйца уже сварились, курица изжарилась, а лошади были готовы.
Нам оставалось проделать всего лишь семь верст, чтобы добраться до Нового Марани. Я снова сел в сани, услышав заверения, что дальше дорога будет лучше.
У нас ушло полтора часа на эти семь верст по жидкой грязи, которую наши сани рассекали, как корабль рассекает воды океана, и которая с хлюпаньем снова смыкалась у нас за спиной.
Но все же мы доехали до Нового Марани, и впереди у нас была встреча с Фазисом и возможность доплыть на лодке до Поти, то есть до Черного моря.
Правда, нам предстояло добраться туда ко времени ужаснейших штормов, но если уж непременно суждено утонуть, то, в конечном счете, лучше утонуть в воде, чем в грязи и тине.
У меня было с собой письмо к князю Гегидзе, начальнику колонии в Новом Марани.
Эта колония состояла из скопцов.
В первых томах своей книги о путешествии по России я уже говорил о том, что представляет собой секта скопцов, одна из семидесяти двух ересей в православной вере.
Те из моих читателей, кто пожелает получить подробнейшие сведения об этих фанатиках, могут обратиться к главе, в которой рассказывается о возникновении их секты, излагаются их нравственные правила и разъясняются их цели; здесь же, чтобы не повторять ничего, кроме того что знать совершенно необходимо, мы ограничимся напоминанием, что после рождения первого ребенка эти несчастные калечат себя и делают бесплодными своих жен, прибегая к операциям, почти одинаково болезненным как для одного пола, так и для другого.
В такой стране, как Россия, где на земле недостает людей, эта ересь становится почти государственным преступлением; вот почему в России, где государи при восшествии на престол почти всегда провозглашают амнистию, если и не полную, то, по крайней мере, весьма обширную, ни один скопец никогда не оказывается среди тех, кому царь дарует помилование.
Во время своего путешествия по России мне часто случалось встречать этих несчастных, но по отдельности, а не в местах их поселения; на этот раз мне предстояло увидеть колонию, сплошь состоявшую из этих странных еретиков.
Четыреста мужчин, переставших быть мужчинами, были собраны в одном месте.
Увидев, что мои сани остановились, пятеро или шестеро этих несчастных прибежали – хотя нет, я ошибся, скопцы никогда не бегают – пришли, чтобы выгрузить наш багаж: страсть к наживе борется у них с немощью тела и делает их если и не деятельными в труде, то хотя бы упорными в работе.
Нет ничего печальнее этих привидений с их серыми арестантскими балахонами, с их тонкими мелодичными голосами, с их преждевременными морщинами, болезненной полнотой и отсутствием мускулов.
Два скопца с трудом несли чемодан, который наш ямщик одной рукой подбрасывал себе на плечо, шел с ним и опускал его в прихожей.
Понадобилось шесть скопцов, чтобы отнести красный сундук, весивший сто килограммов.
Разумеется, среди них нет ни одной женщины. Оскопленных женщин помещают в отдельные колонии. Зачем соединять вместе эти два вида осколков человеческих существ, добровольно отделившихся друг от друга?
Хотя обычно скопцы холостят себя, лишь будучи женатыми, уже после рождения первого ребенка, многие из тех, кого мы увидели, были чересчур молоды для того, чтобы исполнить даже этот свой главный по отношению к собственной стране долг.
Это были те, кому их рвение не позволяло ждать.
И потому они в свои двадцать лет напоминали по виду пятидесятилетних старичков. Они были тучны и, тем не менее, уже морщинисты; не стоит и говорить, что ни один волосок не вырастал на их бесплодном и пожелтевшем лице.
Я расспрашивал полковника об их нравах, но, к сожалению, он был не очень наблюдателен и жаловался лишь на то, что его колония не увеличивается; однако я все же смог вытянуть из него кое-какие сведения.
Его подопечные имеют все недостатки женщин, не обладая, разумеется, ни одним из их достоинств. Они сварливы, но их ссоры всегда заканчиваются только пустыми угрозами. Они доносчики, и если у одного из них достанет сил ударить другого, то побитый, вместо того чтобы отплатить тем же, удаляется и, весь в слезах, идет жаловаться на обидчика. Но прежде всего они скряги; кое-кто из них, несмотря на скудные доходы, которые им случается получать в этом грязном захолустье, владеет капиталом от четырех до пяти тысяч рублей, обладая правом оставлять его по завещанию и почти всегда оставляя его одному из своих собратьев.
Ничего из того, что они зарабатывают, власти у них не отбирают.
Именно они перевозят людей и грузы по Риону, когда в зимнее время понижение уровня воды не позволяет небольшим пароходам нести эту службу.
Полковник Романов предупредил меня, чтобы я ни в коем случае не давал им больше шестнадцати рублей, сколько бы они с нас ни запросили, ибо эта цена, хотя она и не установлена официальным тарифом, вполне соответствует тому, что им следует заплатить.
Скопцы начали с того, что запросили с нас двадцать пять рублей, но в конце концов согласились на предложенные им шестнадцать.
Однако ничто не могло склонить их к тому, чтобы отплыть в тот же день. Нам же это было важно, ведь наступило уже 20 января; полковник успокаивал нас, говоря, что пароход отправится только 22-го вечером.
Через два часа после нашего приезда полковник велел подать нам свой собственный ужин, попросив у нас разрешение принять в нем участие. Пока мы ужинали, мои расспросы о колонистах возобновились. Как легко понять, скопцы крайне неохотно отвечают на заданные им вопросы; однако в присутствии полковника они не посмели отделаться молчанием, и ему удалось добавить несколько подробностей к тем, какие он мне уже сообщил.








