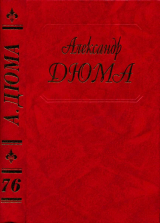
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
Татарин обернулся и, с грустной улыбкой посмотрев на мальчика, в свою очередь что-то сказал ему, явно желая узнать от него смысл слов, только что произнесенных им на иностранном языке.
Мальчик объяснил ему мое желание, а лучше сказать, внушенное им мне желание узнать, откуда у Мирзы-Али это дрожание.
Татарин повиновался без возражений, околичностей и предисловий.
Вот что он рассказал.
Генерал Розен обложил Гимры, родину Шамиля (в начале нашего повествования мы уже рассказывали о блокаде и осаде этого аула). У барона Розена было тридцать шесть тысяч человек, у Кази-муллы – четыреста. Блокада продолжалась три недели, приступ – двенадцать часов. Кази-мулла и его четыреста человек были убиты. Лишь один Шамиль чудесным образом спасся. Мы уже упоминали, что с тех пор и начинается его влияние на горцев.
Но в те дни, когда Гимры только взяли в блокаду и до приступа дело еще не дошло, Кази-мулла, будучи по характеру человеком веселым, велел спросить генерала Розена, не пропустит ли тот его через окружение, чтобы он, выполняя свой обет, мог совершить паломничество в Мекку.
Генерал Розен ответил, что он не может взять на себя решение такого рода, но может снестись по этому вопросу с князем Паскевичем, императорским наместником на Кавказе.
На следующий день прибыл новый посланец Кази– муллы.
На этот раз Кази-мулла спрашивал, сможет ли он, если ему позволят совершить это паломничество, предпринять его вместе с конвоем.
На третий день пришел третий посланец.
На этот раз Кази-мулла спрашивал, возьмет ли на себя русское правительство, если численность конвоя дойдет до пятидесяти тысяч человек, расходы на их питание и квартирование.
Генерал Розен, не уловивший вначале ни цели, ни тонкости насмешки, начал догадываться, что Кази-мулла язвит. Он направил к нему своего переводчика Мирзу– Али, чтобы понять, в конце концов, чего же тот хочет.
Заметим, что Мирза-Али – мусульманин суннитского толка.
Мирза-Али был приведен к Кази-мулле и изложил ему требование генерала Розена.
Ничего не ответив ему, Кази-мулла призвал двух палачей, велел им стать с топорами в руках по обе стороны Мирзы-Али, раскрыл Коран и велел посланцу генерала прочитать ту статью закона, где сказано, что всякий мусульманин, поднимающий оружие против мусульманина, наказывается смертью.
Это был настолько случай Мирзы-Али, служившего христианскому генералу Розену против имама Кази– муллы, что никакой ошибки тут быть не могло.
Так что Мирза-Али начал дрожать и защищать свою голову, пуская в ход лучшие доводы, какие только можно было найти.
Он всего лишь бедный татарин, говорил Мирза-Али, так что не в его власти было выбирать того, кому он хотел бы служить, и ему пришлось служить тому, в чьи руки его отдала судьба.
А так как он попал в руки русских, то поневоле служил русским.
Кази-мулла ничего не отвечал, но, без сомнения, все эти доводы казались ему неубедительными, ибо он все сильнее хмурил брови, и чем сильнее он их хмурил, тем больше дрожал Мирза-Али.
И тогда Мирза-Али стал говорить еще красноречивее.
Его защитительная речь длилась четверть часа.
По прошествии четверти часа Кази-мулла счел наказание достаточным и объявил несчастному переводчику, что на этот раз он его прощает, но пусть тот воздержится когда-нибудь являться к нему снова.
Мирза-Ал и отделался только страхом, но это был страх такого рода, что дрожание, появившееся у бедняги при виде грозно нахмуренных бровей кавказского Юпитера, сохранилось у него до сих пор и, вероятно, сохранится до самой его смерти.
Ивану, видимо, доставляло удовольствие заставлять бедного Мирзу-Али рассказывать эту историю, и он не упустил представившийся ему удобный случай оживить его страхи и усилить его дрожание.
Мы выпили чай и выслушали две истории. Я счел своим долгом вознаградить моего милого переводчика и предложил ему не только осмотреть мои ружья, но и испытать их во дворе.
Он тотчас снова сделался ребенком, закричал от радости, захлопал в ладоши и бегом первым спустился с лестницы.
Из шести ружей, которые я привез с собой, у меня осталось только четыре: одно было подарено, другое – обменено.
Из оставшихся четырех ружей два были обыкновенными двустволками: одна мастера Зауэ из Марселя, другая – Перрен-Лепажа.
Два другие были превосходными ружьями Девима.
Одно, которым я пользуюсь больше двадцати лет, входит в число первых ружей системы Лефошё, изготовленных Девимом.
Другое – это карабин, подобный тому, что был подарен Жерару, истребителю львов, «Охотничьей газетой».
Дальнобойность карабина необычайна, точность – великолепна.
Карабины и обычные двуствольные ружья были хорошо известны юному князю. Но вот что ему не было известно и что вызвало у него восторженное удивление, так это ружье, заряжавшееся с казенной части.
С удивительной сообразительностью он тотчас понял механизм переломной конструкции и устройство патрона.
Но любопытнее всего было то, что он слушал мои объяснения, опершись на крупного ручного оленя, который, казалось, тоже проявлял к ним интерес, тогда как огромный черный баран, лежавший в четырех шагах от оленя и менее любопытный, чем он, явно обращал на наш разговор куда меньше внимания, ограничиваясь тем, что время от времени поднимал голову и высокомерно смотрел на нас.
Из опасения, что с юным князем может случиться какая-нибудь беда, я решил прежде него испытать ружье переломной конструкции. Велев поставить на другом конце двора, противоположном тому, где находились мы, доску, а точнее говоря, брус, я вставил патроны в оба ствола, затем запер стволы и, настроившись увидеть краешком глаза прыжки, которые сделают олень и черный баран, произвел два выстрела одновременно.
К моему большому удивлению, ни олень, ни баран не тронулись с места. И тот, и другой давно привыкли к ружейной пальбе, и, если бы кто-нибудь затратил немного труда, чтобы пополнить их военное образование, они, подобно тем зайцам, каких показывают на ярмарках, били бы в барабан и стреляли бы из пистолета.
Пока я восхищался отвагой обоих животных, Иван кричал от радости; он подбежал к брусу: одна из пуль отщепила его край, другая попала прямо в середину.
– Теперь моя очередь, моя! – воскликнул он.
Это было вполне справедливо.
Так что я дал ему патроны и позволил самому зарядить ружье.
Он сделал это не только безошибочно, но и не задумываясь. Ему было достаточно один раз увидеть, как это делал я, чтобы с полнейшей точностью воспроизвести теперь все мои действия.
Однако, зарядив ружье, он стал искать для него точку опоры. Я хотел отговорить его стрелять таким образом, но он на это не согласился. Чаще всего жители Востока хорошо стреляют только с опорой.
Он нашел бочку – на этом дворе можно было найти все что угодно – и оперся на нее.
Но, несмотря на эту опору, обе выпущенные им пули прошли мимо доски: одна слева от нее, другая справа, почти коснувшись ее, но все же не задев.
Он покраснел от досады.
– Можно мне выстрелить еще раз? – спросил он меня.
– Разумеется! Стреляйте столько, сколько хотите: патроны и ружье в вашем распоряжении. Однако позвольте мне наметить вам точку прицела на мишени: вы промахнулись лишь потому, что ваш глаз ни на что не был нацелен.
– Ну да, вы говорите так, чтобы меня утешить.
– Нет, я говорю так, потому что это правда.
– Но вы-то тогда как попали в мишень, не имея точки прицела?
– Потому что я следил за одной подходящей точкой.
– И что это за точка?
– Гвоздь, который вы едва видите, а я вижу отчетливо.
– Я тоже его вижу.
– Ну так вот, сейчас я прикреплю к этому гвоздю клочок бумаги и ручаюсь, что на этот раз вы попадете хотя бы в доску.
Он покачал головой, как стрелок, которого первый неудачный опыт сделал недоверчивым.
Пока он вынимал из стволов старые патроны и вкладывал в них новые, я приладил к доске кружок бумаги величиной с ладонь, потом отошел в сторону на дюжину шагов и крикнул юному князю:
– Стреляйте!
Он снова стал на колени, опять оперся на бочку, долго целился и выстрелил из первого ствола.
Пуля попала прямо в доску, на шесть дюймов ниже бумаги.
– Браво! – закричал я. – Но у вас чуть дрогнула рука, когда вы нажимали на спуск, и из-за этого пуля отклонилась вниз.
– Вы правы, – сказал он, – и на этот раз я буду внимательнее.
Он выстрелил еще раз, и пуля ударила прямо в бумажный кружок.
– Ну не говорил ли я вам! – вскричал я.
– Так я попал в цель? – спросил он, весь трепеща от надежды.
– В самую середину. Да вы сами посмотрите.
Он бросил ружье и побежал к мишени.
Я никогда не забуду этого прекрасного детского лица, принявшего вдруг выражение мужественности и светившегося гордостью.
Он обернулся к князю, стоявшему на балконе и следившему за малейшими подробностями этой сцены.
– Ну вот, отец, – воскликнул он, – ты можешь позволить мне идти с тобой в поход, ведь теперь я умею стрелять из ружья!
– Через три или четыре месяца, дорогой князь, – сказал я ему, – ко дню вашего боевого крещения, вы получите из Парижа точно такое же ружье, как мое.
Мальчик протянул мне руку:
– То, что вы сказали мне сейчас, это правда?
– Даю вам честное слово, князь.
– Я любил вас еще до того, как мы познакомились, – сказал он мне, – но полюбил еще больше с тех пор, как узнал вас.
И он прыгнул мне на шею.
Милое дитя, ты непременно получишь ружье, и пусть оно принесет тебе счастье!
XXXII. НУХА: УЛИЦЫ, ЛЕЗГИНЫ, БАЗАР, СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА, СЕДЕЛЬЩИКИ, ШЕЛК, ПРОМЫСЛЫ, ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ
После завтрака я спросил юного князя, не соблаговолит ли он показать мне город, и прежде всего базар.
Мальчик взглядом попросил разрешения у отца, и тот кивнул ему в знак согласия.
Между двумя этими благородными человеческими существами было удивительное взаимопонимание. Чувствовалось, что они привязаны друг к другу всем сердцем.
Князь отдал приказание Николаю – Николай был личным есаулом юного князя, – и четыре нукера, не считая Николая, потуже стянули пояса, поправили кинжалы, надвинули на глаза папахи и приготовились сопровождать нас.
Юный князь взял, помимо кинжала, пистолет, посмотрел, заряжен ли он, и воткнул его за пояс.
Двенадцать или пятнадцать есаулов, по-прежнему находившихся под командой своего начальника Бадридзе, обменялись друг с другом несколькими словами, после чего Бадридзе заверил князя Тарханова, что его сын может без опасений выйти в город.
Уже две ночи подряд Бадридзе вместе со своими людьми дежурил в лесу, окружавшем Нуху, и не заметил там ничего подозрительного.
К тому же не представлялось возможным, чтобы в разгар дня лезгины попытались совершить какое-нибудь нападение на город с населением от двенадцати до четырнадцати тысяч душ.
Мы вышли. Николай шагал первым, в десяти шагах впереди нас; за ним следовали князь, Муане, Калино и я, а замыкали шествие четыре нукера.
Так что мы напоминали армию, которая, имея авангард и арьергард, не может быть застигнута врасплох.
Ощущение безопасности, внушаемое мне и моим спутникам этой стратегической расстановкой сил, позволяло нам спокойно осматривать город.
Нуха – это очаровательная деревня, которую можно обойти за два или три часа.
За исключением торговых улиц в центре города, каждый дом здесь имеет свою собственную ограду, свой сад и свой родник.
Во многих местах воды этих родников вырываются, бурля, за ограду и пересекают улицу.
По отношению к остальной части города князь жил в загородном доме, что и объясняет те большие предосторожности, какие ему приходилось принимать.
Мы прошли чуть ли не целую версту, прежде чем добраться до главной улицы. Эта главная улица служила руслом небольшой речке, на два дюйма покрывавшей грунт из мелкого галечника.
По этой улице можно было передвигаться тремя способами:
идя по своего рода тротуару, проложенному с обеих ее сторон, но, по-видимому, предназначенному лишь для серн и акробатов;
прыгая с камня на камень, как это делают трясогузки;
храбро ступая прямо по воде.
Именно на этот последний способ решались по большей части все мученики. Более изнеженные люди выбирали между тротуаром и камнями.
После этой переправы речка текла между двумя довольно высокими берегами. На ее левом берегу стояли дома, у многих из которых вода омывала фундаменты; правый берег образовывал высокий бульвар, заставленный торговыми лавками. Оба берега были покрыты деревьями, которые, сплетаясь между собой ветвями, образовывали зеленый свод над бурлящей водой. С одного берега на другой люди переходили по мосткам из положенных рядом досок или из поваленных деревьев, основание которых лежало на одном берегу, а вершина опиралась на другой. У этих деревьев были срублены лишь те ветви, что мешали ходьбе, другие же, благодаря остаткам корней, упорно продолжавших жить и врастать в землю, по-прежнему покрывались листвой, хотя питавший их ствол находился в горизонтальном положении.
Живописные обрывистые горы, видневшиеся на заднем плане, являли собой одно из тех дополнений к пейзажу, придумать какие отваживается одна лишь природа.
Я никогда не видел ничего восхитительнее этого зрелища, которое несколько напоминало картину Кизляра, но было величественнее по своим размерам.
Наконец, круто повернув налево по склону, а лучше сказать, по грубо сработанной лестнице, где никогда не проехал бы экипаж, мы попали непосредственно на базар.
Его заполняла плотная толпа прохожих, любопытных зевак, покупателей и продавцов.
Помимо торговцев-лавочников, которые размещались в своих жалких и, тем не менее, чрезвычайно живописных ларьках, тянувшихся по обеим сторонам улицы, здесь были и, если можно так выразиться, дикие торговцы, которые занимались своим промыслом, бродя среди прохожих, причем каждый из них продавал лишь какую-нибудь определенную вещь: у одних это были сабли, кинжалы или пистолеты и ружья из Кубы; у других – ковры из Шемахи; у третьих – сырцовый шелк и шелк в мотках, доставленный с гор. Среди всех этих причудливых торговцев прохаживались лезгины с огромными коробами, которые были наполнены штуками сукна, изготовленного лезгинками. Эти сукна белого, светло– желтого или желтоватого цвета чрезвычайно высоко ценятся на Кавказе, ибо они очень прочны и способны противостоять колючкам, успевая, прежде чем те вырвут из них клок, сорвать их со стеблей. Штука сукна, из которой можно сделать черкеску и штаны для человека среднего роста, продается по цене от шести до двенадцати рублей, то есть от двадцати четырех до сорока восьми франков, в зависимости от качества ткани. Все эти сукна непромокаемы и, несмотря на свою гибкость, похожи скорее на вязаную материю, чем на тканую. Вода скользит по ним, никогда не проникая сквозь них.
Я купил две штуки этого сукна. Возможно, наши негоцианты из Лувье и Эльбёфа, изучив их, извлекут для себя какую-нибудь пользу.
В отличие от бродячих торговцев, униженно предлагающих свои товары, лавочники, чем бы они ни торговали, важно сидят и ожидают покупателей, не делая никаких усилий, чтобы привлечь и удержать их. Складывается впечатление, что ни один из этих надменных торговцев не имеет желания продавать. «Вот мой товар; берите его, оплачивайте и уносите, если он вас устраивает, а нет, так идите прочь: я вполне могу прожить без вас; ведь если я открыл лавку на улице, то лишь для того, чтобы быть на воздухе, на солнце и, спокойно покуривая свою трубку, разглядывать прохожих».
Разумеется, они такого не произносят, но это слово в слово написано на их лицах.
Здесь все производится и все продается. Три самых великолепных базара из всех, какие мне довелось увидеть, не исключая и тифлисский, который, по моему мнению, намного им уступает, это дербентский, бакинский и нухинский.
Говоря «Здесь все производится и все продается», я подразумеваю, что здесь все производится и продается в соответствии с потребностями персидского города, который лишь вчера стал русским и никогда не будет европейским.
Здесь производят и продают ковры, оружие, седла, патронташи, подушки, скатерти, папахи, черкески, обувь всякого рода – от горской сандалии до остроконечного грузинского сапога. Здесь производят и продают кольца, браслеты, ожерелья в один, два и три ряда татарских монет, головные уборы, каким позавидовали бы наши театральные цыганки и с какими можно было бы угодничать перед самой Нисой, булавки и корсажи, откуда свешиваются золотые и серебряные плоды, эмблемы еще более драгоценных плодов, которые им предназначено заключать в себе.
И все это блестит, сверкает, суетится, ссорится, дерется, обнажает клинки, бьет нагайкой, кричит, угрожает, бранится, здоровается, сложив руки на груди, обнимается и живет между ссорой и смертью, между дулом пистолета и острием кинжала.
Внезапно мы услышали крики и оглянулись: трое или четверо покорных лезгин, из тех, что приходят продавать сюда свои сукна, остановили какого-то всадника, удерживая его коня за узду. Чего они хотели от него, я не знаю; что он им сделал, мне неизвестно. Он угрожал, они кричали. Он замахнулся нагайкой и ударил ею по голове одного из них так, что тот упал; в ту же минуту его лошадь повалилась, и он исчез в начавшемся вихре. Но в эту минуту появился следовавший за ним нукер, который вмешался в дело: от каждого его кулачного удара кто-нибудь падал; тотчас же всадник поднялся на ноги и, снова сев на коня, стал раздавать удары направо и налево, размахивая своей страшной нагайкой, словно цепом; толпа расступилась перед ним, нукер вскочил позади него на коня, и оба они ускакали галопом, оставив лежать на земле двух или трех окровавленных и наполовину покалеченных лезгин.
– Кто этот человек и чего хотели от него эти лезгины? – спросил я у юного князя.
– Понятия не имею, – ответил он.
– И у вас нет желания это узнать?
– Зачем? Подобное случается каждую минуту. Лезгины оскорбили его, и он поколотил их. Теперь ему надо быть настороже. Отъехав от города, он должен будет остерегаться кинжала и ружейной пули.
– А в городе они оружие в ход не пускают?
– О нет, им прекрасно известно, что каждого, кто здесь, в Нухе, нанесет удар кинжалом или выстрелит из пистолета, отец прикажет расстрелять.
– Ну, а если один уложит другого ударом нагайки?
– О, нагайка – это совсем другое дело. Она не запрещенное оружие. Тем лучше для того, кого природа наделила крепкими руками: он пользуется ими, и тут возражать не приходится. Смотрите, вот превосходные седла; советую, если вы настроены приобрести седла, купить их здесь: они обойдутся вам дешевле, чем где-либо еще.
Я купил два расшитых седла за двадцать четыре рубля. Во Франции такие нельзя приобрести даже за двести франков, а вернее, во Франции такие нельзя приобрести ни за какую цену.
В это время к нам присоединился красивый офицер, облаченный в черкесское платье. Он приветствовал юного князя.
Князь обернулся в мою сторону и в свою очередь представил мне офицера.
– Мохаммед-хан, – произнес он.
Это имя мне ничего не говорило.
Я поклонился.
Молодой офицер носил Георгиевский крест и великолепное оружие. Георгиевский крест всегда служит прекрасной личной рекомендацией для того, кто его носит.
– Вы ведь скажете мне, князь, кто такой Мохаммед– хан? – спросил я Ивана.
– Конечно, сию минуту.
Он произнес, обращаясь к Мохаммед-хану, несколько слов, из которых я понял, что речь идет о моем оружии; потом он вернулся ко мне, а Мохаммед-хан пошел позади нас.
– Не правда ли, князь, речь шла о моих ружьях?
– Да, ему известно имя оружейника, изготовившего их. Он славится у нас как знаток. Вы позволите ему осмотреть их?
– С великим удовольствием.
– Ну а теперь я расскажу вам, кто такой Мохаммед– хан. Прежде всего, он внук последнего нухинского хана. Если бы город и вся область не принадлежали русским, они находились бы в его владении. Ему дали пенсию и чин майора, хотя, скорее, он его заслужил. Он приходится племянником знаменитому Даниял-беку.
– Как! Любимому наибу Шамиля, тестю Гази– Мохаммеда?
– Именно так.
– И как же вышло, что дядя служит Шамилю, а племянник – русским?
– Виной всему глупое недоразумение. Даниял-бек состоял на службе у русских как хан Илису. Генерал Шварц, командовавший в то время Лезгинской линией, обошелся с ним, по-видимому, несколько необдуманно. Даниял-бек открыто жаловался на него и, возможно, угрожал ему. Как вы понимаете, никто не знает, как правильно вести себя в подобных обстоятельствах. А у Даниял-бека служил секретарем один армянин; этот секретарь написал генералу Шварцу, что Даниял-бек намерен перейти к Шамилю. Однако его письмо, вместо того чтобы попасть к адресату, было доставлено Даниял– беку; тот заколол кинжалом секретаря, вскочил на коня и в самом деле перешел к Шамилю. Это случилось в тысяча восемьсот сорок пятом году. Если верить Даниял– беку, которого мой отец хорошо знал, он был доведен до крайности. Находясь в Тифлисе, он попросил отпуск, чтобы отправиться в Петербург и поговорить с самим императором. Однако ему отказали в отпуске, который он просил, и дали конвой, но вовсе не для того, чтобы оказать ему честь, а чтобы за ним присматривать. В тысяча восемьсот пятьдесят втором году он попытался снова примкнуть к нам и приехал в Горный Магал. Через посредство барона Врангеля он обратился к князю Воронцову, выразив желание вернуться на русскую службу и поставив единственным условием разрешение остаться в Магале. Однако Магал находился чересчур близко к Шамилю, с которым Даниял-бек мог бы поддерживать сношения. Так что ему предложили вернуть его прежний чин, но на условии, что он будет жить в Тифлисе или в Карабахе. Даниял-бек отказался от этого предложения и вернулся к Шамилю. С этого времени он возглавляет все его походы и причиняет нам огромнейший вред.
– А случалось дяде и племяннику сталкиваться в одном бою?
– Такое происходило дважды.
– И что же они делали в таком случае?
– Обменивались приветствиями, после чего каждый вставал на свою сторону.
Я с еще большим интересом взглянул на красивого молодого человека двадцати восьми или тридцати лет, напомнившего мне Аммалат-бека, героя Марлинского, за исключением, разумеется, его преступления.
Он появился на свет во дворце, который мы шли осматривать и который находился во власти русских лишь с 1827 года.
Опасаясь пробудить в Мохаммед-хане грустные воспоминания, я предложил юному князю перенести посещение дворца на другое время. Князь сообщил о моих опасениях Мохаммед-хану, но тот, поклонившись, ответил:
– Я стал бывать во дворце после приезда сюда великих князей.
И мы продолжили путь.
Ханский дворец, как обычно и все сооружения такого рода, построен в самой высокой точке города. Однако он является образчиком современной архитектуры и датируется 1792 годом.
Возвел его Мохаммед-Гасан-хан. Династия, к которой этот хан принадлежал, возникла в 1710 году. Самым выдающимся человеком из всей этой династии был ее основатель Хаджи-Челеби-хан, правивший в 1735 – 1740 годах. Несколько раз сражаясь с Надир-шахом, он победил его во всех битвах. Он подчинил себе весь Ширван, дошел до Тавриза, взял его, оставил там своего брата в качестве наместника и распространил свою власть вплоть до Тифлиса.
Когда два грузинских царевича, братья Александр и Георгий, в 1798 году сошлись в борьбе за корону своего отца Ираклия, тогда еще живого, и Александр, потерпев поражение, укрылся в Нухе, Мохаммед-Гасан-хан принял изгнанника, но упрятал его в крепость, позволив, при всей своей приверженности к мусульманской вере, чтобы обедню ему там служил православный священник. Эта веротерпимость заставила татар заподозрить, что их хан намерен стать христианином. Они восстали против него, и Александр был вынужден бежать в Персию. В 1825 году он возвратился. Верный семейной традиции, Гасан-хан, племянник Мохаммед-хана, в свою очередь дал ему приют. Он признал его царем Грузии, хотя к этому времени Грузия уже двадцать два года принадлежала Российской империи; однако в 1826 году победы русских над персами вынудили хана и его подопечного бежать в Эривань, в ту пору еще остававшийся под владычеством персов.
Александр умер там в 1827 году. В 1828 году русские заняли Нуху и с тех пор уже не оставляли ее.
Ханский дворец – восхитительная постройка, изобразить которую, с ее замысловатыми украшениями и с ее бесконечными арабесками, способна лишь кисть художника. Внутреннее убранство дворца было восстановлено по старым рисункам, когда готовились к приезду великих князей, которые в нем останавливались. Однако реставрация дошла лишь до лестницы и остановилась на уровне первого этажа. Так все делается в России: никогда никакое дело не простирается за пределы сиюминутной, безусловной необходимости; затем, как только нужда прошла, все начатое, вместо того чтобы содержать его в порядке, продолжать и завершать, бросают, представляя ему впадать в то состояние, в каком оно пребывало до этого.
Россия – это стихия: она вторгается, чтобы разрушать. В ее нынешних завоеваниях есть отголоски варварства скифов, гуннов и татар; невозможно понять, с точки зрения современной культуры и современного мышления, эту потребность в захватах и это безразличие к усовершенствованиям, уживающиеся вместе.
В один прекрасный день Россия захватит Константинополь, что предопределено и неизбежно – белая раса всегда была расой завоевателей, тогда как как у темнокожих рас завоевания являлись лишь короткими по времени ответными действиями, – и тогда Россия развалится, но не на две части, как Римская империя, а на четыре части. Вместо нее возникнет государство на севере, со столицей на Балтике, которое останется подлинным русским государством; государство на западе, которым будет Польша со столицей в Варшаве; государство на юге, то есть Тифлис и Кавказ; и наконец, государство на востоке, которое будет включать в себя Западную и Восточную Сибирь.
Если позволительно пойти в своих догадках дальше, то можно предсказать следующее:
император, правящий в то время, когда произойдет эта великая катастрофа, сохранит за собой Петербург и Москву, то есть подлинный престол России;
какой-нибудь вождь, поддержанный Францией и популярный в Варшаве, будет избран королем Польши;
какой-нибудь вероломный наместник поднимет мятеж в армии и, воспользовавшись своим влиянием среди военных, коронуется царем Тифлиса;
и наконец, какой-нибудь изгнанник, человек гениального ума, установит федеративную республику от Иркутска до Тобольска.
Невозможно, чтобы государство, занимающее сегодня седьмую часть земли, всегда оставалось в одной руке: если эта рука будет чересчур твердой, она сломается; если эта рука будет чересчур слабой, она разожмется, но и в том, и в другом случае ей придется выпустить то, что она держит.
Вот пример куда меньшего масштаба: королю Вильгельму пришлось позволить Бельгии ускользнуть из его рук, хотя его девизом было «Я удержу».
А пока пусть Господь хранит от вандалов очаровательный маленький дворец нухинских ханов!
Мы возвратились через базар. Другой дороги, по которой можно добраться до дворца или вернуться из него, нет. Есть только одна улица, так что надо либо идти по ней, либо обходить вокруг города.
Мохаммед-хан сопровождал нас до дома князя Тарханова; то, что Иван сказал ему о моих ружьях, явно вертелось у него в голове. Это было первое, о чем он спросил, когда мы туда пришли.
Принесенные ружья снова стали предметом долгого и заинтересованного осмотра. Желая дать юному князю представление о распространенном у нас приеме стрельбы влет, столь отличном от принятой здесь манеры стрелять лишь по неподвижным целям, я подбросил вверх копейку и, выстрелив, попал в нее пятью или шестью дробинами.
Иван решил, что я попал в нее случайно, и попросил меня повторить выстрел.
На этот раз я взял две монеты, подбросил их вместе вверх и, выстрелив из обоих стволов, попал в обе.
Бедный ребенок не мог прийти в себя от изумления. Он был готов поверить, что мое ружье заколдовано, как клинок Астольфа, и что успех зависел в большей степени от ружья, чем от стрелка.
Он без конца повторял, обращаясь ко мне:
– О, так у меня будет такое ружье, как это? У меня будет такое ружье, как ваше?
– Да, милый князь, – отвечал я ему, улыбаясь, – будьте покойны.
Это придало смелости Мохаммед-хану. Он отвел юного князя в сторону и сказал ему вполголоса несколько слов.
Иван возвратился ко мне.
– Мохаммед-хан, – произнес он, – очень хотел бы иметь пару револьверов, но только изготовленных Деви– мом. Он спрашивает, что ему следует сделать, чтобы приобрести их.
– Это очень просто, милый князь: Мохаммед-хану стоит лишь сказать мне, что он желает иметь такие револьверы, и я их ему вышлю.
Мой ответ был тотчас передан Мохаммед-хану.
Он подошел ко мне, извиняясь за доставляемые хлопоты, а затем поинтересовался у меня, сколько может стоить пара револьверов Девима.
В ответ я попросил его не беспокоиться об этом, сказав, что их цена – это моя забота и что он получит револьверы, а в обмен на оружие из Франции пришлет мне при первой же возможности какое-нибудь оружие с Кавказа.
Мохаммед-хан поклонился в знак согласия, отстегнул шашку, вытащил пистолет и протянул их мне, извиняясь, что у него нет возможности присоединить к ним кинжал, полученный им от человека, которому он обещал не расставаться с этим кинжалом никогда.
Обмен был настолько выгоден для меня, что я не решался на него пойти. Однако Иван сказал мне, что своим отказом я оскорблю Мохаммед-хана.
Тогда, в свою очередь поклонившись, я взял шашку и пистолет.
И то, и другое было образцом вкуса и изящества.
К тому же, эта шашка явно была знаменитой, и, поскольку я носил ее с этой минуты и вплоть до своего приезда в Тифлис, она на всем моем пути привлекала внимание татарских офицеров, с которыми мне доводилось встречаться.
Когда у сабли такая слава, ее наверняка предвестила слава хозяина.
Дюрандаль был знаменит, но потому, что это был меч Роланда.
XXXIII. УДИНЫ. БОЙ БАРАНОВ. ТАТАРСКИЙ ТАНЕЦ И ТАТАРСКАЯ БОРЬБА. ПОСЛАННИК ОТ БАДРИДЗЕ
Утром, за завтраком, разговор зашел об удинах.
«Кто такие удины?» – спросите вы меня. Мне самому очень хотелось бы это узнать и поделиться с вами полученными сведениями. А пока я намерен рассказать вам то немногое, что я о них знаю.
Удины – одно из кавказских племен, однако оно столь незначительно с точки зрения своей численности, что я сомневаюсь, чтобы его внесли в список различных народностей, помещаемый в официальный календарь.
И все же это племя заслуживает внимания не меньше всех других.
Удины явились неизвестно откуда и говорят на языке, которого никто не понимает и который не имеет сходства ни с каким иным языком.
Они сами блуждают и теряются во мраке, окружающем их прошлое.
Самоназвание их: «уди» – в единственном числе, «удины» – во множественном.








