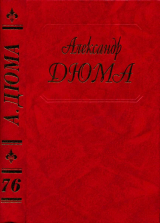
Текст книги "Путевые впечатления. Кавказ. Часть 2"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
Поэтому не было ничего удивительного в том, что лезгины, зная о его гибели в войне с турками, пожелали взглянуть на его вдову и ребенка.
Более того, эти свирепые люди, обретя некоторую тонкость чувств при воспоминании о великом мужестве князя, попытались по-своему утешать его вдову.
Одни говорили ей, что Георгий – вылитый портрет своего отца и что они узнали бы ребенка, даже если бы им не назвали его имени.
Другие со всей опреденностью заявляли ей, как если бы они действительно это знали, что ее муж не убит, а всего лишь находится в плену и что рано или поздно она увидит его вернувшимся из турецкого плена, как в свое время увидела его вернувшимся из их плена.
Но главное, что с этой женщиной, которой в течение двух дней пришлось претерпевать усталость, голод и дурное обращение, все стали обходиться, как с царицей.
Княгиня Орбелиани воспользовалась таким настроением этих людей, чтобы расспросить их о цене, которую назначил Шамиль за выкуп ее самой, ее сестры и всех членов семьи, захваченных вместе с ними.
Один из наибов отправился к имаму осведомиться об этом и вернулся с ответом: Шамиль желает, чтобы император Николай возвратил ему сына, а князь Чавчавадзе прислал ему арбу, полную золота.
Несчастные княгини опустили головы: они сочли оба условия почти невыполнимыми.
Что теперь с ними будет? Им еще не было известно о приказе Шамиля отправить их в Ведень. Даниял-бек, дядя Мохаммед-хана, прежде находившийся на русской службе, как уже упоминалось выше, знал отца князя Давида Чавчавадзе. Он жил в Тифлисе, и ему было известно, насколько велика у знатных грузинских дам потребность в роскоши, ставшей для них необходимостью. Он понимал, как должны были страдать обе княгини, терпевшие среди своих не приобщенных к цивилизации хозяев недостаток во всем. Поручившись за пленниц собственной головой, он предложил Шамилю, чтобы тот отправил их к нему.
Имам отказался.
– Они станут жить у меня, – сказал он, – и с ними будут обходиться, как с моими собственными женами.
Чего больше могли желать княгини? С ними будут обходиться, как с женами пророка.
Этот ответ передали обеим пленницам и предложили им написать в Тифлис, чтобы сообщить об условиях, выставленных Шамилем.
Княгиня Чавчавадзе написала два письма: одно было адресовано ее мужу, другое – исправляющему должность кавказского наместника. Оба эти письма вначале принесли Шамилю; он велел их перевести, долго взвешивал каждую фразу и в конце концов отправил их с каким-то татарином в Тифлис.
Но в ожидании ответа он дал приказ отправляться в Ведень.
Тогда княгини попросили снабдить их какой-нибудь одеждой, поскольку они были почти наги.
Им принесли женские панталоны, шейный платок и старое кучерское платье.
Вскоре появилось и мужское пальто.
Княгиня взяла себе панталоны, дала шейный платок и пальто сестре, а кучерское платье предоставила гувернантке.
Княжна Нина Баратова не нуждалась ни в чем; за исключением вуали, изорванной в кустарниках, на ней было то же одеяние, в каком она покидала Цинандали. Ее слабое женское тело, должно быть, страдало, но ее девичья стыдливость ни в чем не могла упрекнуть похитителей.
Утром следующего дня пленницы вышли из крепости тем же путем, каким они туда вошли, то есть по лестнице. Шамиль приказал препроводить их в Ведень по самой надежной дороге, читайте: по самой тяжелой. Речь шла о том, чтобы избежать любой попытки освободить пленниц. Сам же он поехал в другую сторону, не поговорив с ними и даже не увидев их.
Мы не будем шаг за шагом следовать за бедными женщинами по этому пути, где каждый шаг таил в себе опасность, где они то пробирались тропами, перед которыми отступили бы даже дикие козы, то шли – и это в июле! – по снегу, в котором лошади утопали по грудь, то, наконец, ступали по великолепным лугам, сплошь усыпанным рододендронами и розовыми и белыми ромашками; по пути, где им приходилось спускаться по склонам длиной в триста—четыреста футов, скользя на руках, или же взбираться на кручи, опираясь на камни, шатавшиеся у них под ногами, и хватаясь за кустарники, раздиравшие им ладони.
К каравану присоединился по дороге новый пленник. Это был молодой князь Нико Чавчавадзе, дальний родственник князя Давида. Его захватили в крепости, где он с тридцатью грузинами выдержал трехдневную осаду, обороняясь против пятисот лезгин. Не имея больше ни одного патрона, он вынужден был сдаться.
Под его присмотр отдали одну из дочерей княгини – маленькую Марию, которую посадили позади него на лошадь.
Порой, несмотря на приказания Шамиля, несмотря на настояния муллы, сопровождавшего пленниц, их отказывались принимать в аулах. Фанатизм запрещал этим достойным мусульманам всякое общение с гяурами. И тогда пленники располагались на ночлег где придется: в развалившемся доме, если они имели счастье его найти, или под открытым небом, в воде или в снегу.
Обе кормилицы истощили все свои силы. Княгиня Чавчавадзе кормила грудью попеременно маленького Александра и малютку Еву – того самого ребенка, мать которого умерла по дороге еще в день похищения, во время первого привала.
Переход был настолько утомительным, что те, кто сопровождал пленников, и сами видели: им надо дать немного отдохнуть.
Они сделали остановку в каком-то ауле, где их встретили приветливее, чем обычно. Старый мулла принял княгинь и сопровождавших их женщин в своем доме. Всем им, а их было десять или двенадцать, отвели лишь одну небольшую комнату, но там, по крайней мере, они были в безопасности.
Роскошь приема дошла до того, что им разостлали камышовые циновки на полу.
Старый мулла, у которого они поселились, был чрезвычайно славный человек. Он велел зарезать барана, и пленницы в первый раз после их похищения поели мяса. Мулла девять лет жил в плену у русских и говорил по-русски. Пленные дети стали предметом особых его забот и ласки.
Однажды, когда маленький Александр, сидя на коленях матери, плакал от голода, ибо в свои пятнадцать месяцев он уже не мог насытиться почти иссякшим материнским молоком, но в то же время и не в состоянии был ни вгрызаться в жесткую баранину, ни есть черный хлеб или невыносимые для нас лепешки без соли, мулла подошел к ребенку и вложил ему в ручонку двадцатикопеечную монету.
Княгиня залилась краской и уже протянула руку, чтобы взять монету и вернуть ее старику, но мулла остановил княгиню, сказав:
– Это чтобы купить курицу и сварить ему бульон.
Княгиня пожала руку славному человеку и поблагодарила его.
Однако в какой-то другой день, вместо забот и внимания, на пленниц посыпались оскорбления и угрозы, особенно со стороны женщин. Старая татарка, у которой русские убили сына, в сопровождении толпы женщин подошла к княгине Орбелиани и показала ей кулак.
– День отмщения, – воскликнула она, – это прекрасный день! У меня был сын, моя любовь и гордость моей жизни. Русские убили его. Но Аллах велик, Аллах справедлив, Аллах мстит за меня!
Для этой женщины пленницы были русскими.
Княгиня Орбелиани спросила, что сказала ей старуха.
Ей перевели эти слова.
– Что ж, переведите ей мой ответ, – промолвила княгиня. – Смерть никого не может вернуть к жизни; ты можешь убить меня, но сын твой не перестанет от этого быть мертвым. Турки убили моего мужа, который был сердцем моего сердца; мой сын – пленник; моя сестра, мои племянники и я сама находимся во власти Шамиля; так кто из нас, ты или я, имеет большее право роптать на судьбу? Ступай же, несчастная, забудь свой гнев и оставь свою ненависть; у нас есть иной Аллах, отличный от твоего, это Аллах матерей: он не знает ничего, кроме милосердия и прощения.[7]
Речь княгини была слово в слово переведена старой татарке, которая выслушала ее, надвинула на глаза покрывало, чтобы скрыть свои слезы, и в молчании медленно удалилась.
Через две недели после отъезда из Похальской крепости, когда караван остановился в одном из тех оазисов, какие скрываются в складках гор, на зеленом ковре, усеянном анютиными глазками и желтыми фиалками, испещренном белыми и сиреневыми ромашками, там появился татарин верхом на коне: он явно искал глазами княгинь и, едва заметив их, пустил своего коня в галоп.
И в самом деле, это был посланец, отвозивший письма в Тифлис; теперь он привез ответ.
Ответ был от князя Орбелиани, деверя княгини Варвары.
Письмо оказалось утешительным настолько, насколько это было возможно.
«Верьте, ждите и надейтесь! — говорилось в нем. – Все, что будет возможно сделать, чтобы вернуть вам свободу, будет сделано».
Письмо это вернуло силы даже самым изнуренным пленницам.
Наконец, к вечеру караван прибыл в аул, отстоящий от Веденя не более чем на десять или двенадцать верст. Одна из жительниц этого аула, приведенная муллой, предупредила княгинь, что на следующий день они прибудут к Шамилю и в тот же день он посетит их. Имам призывал пленниц быть при этом с закрытыми лицами, поскольку закон Магомета запрещает любой женщине показываться с открытым лицом перед мужчиной, если только этот мужчина не ее муж.
Одновременно мулла велел принести княгиням кисею, иголки и крученые шелковые нитки.
Княгини провели часть ночи, готовя себе вуали.
Был отдан приказ, чтобы на предстоящем этапе пути каждая из пленниц, независимо от ее звания, имела лошадь и проводника.
По прошествии двух часов пути они прибыли на место. Уже после первых двух-трех верст число людей, сопровождавших пленниц, увеличилось за счет любопытных местных жителей, особенно женщин.
Княгини искали взглядом жилище имама, как вдруг они оказались перед строением высотой в шесть-семь футов, окруженным частоколом и напоминающим скорее загон для скота, чем человеческое жилище.
Кортеж миновал трое ворот, заграждающих входы во столько же дворов.
В третьем дворе был гарем.
Перед тем как войти туда, все сняли обувь.
В помещении пылал жаркий очаг, ожидавший приехавших пленниц, которые в нем очень нуждались, так как они насквозь промокли под дождем. Стены были обмазаны желтоватой глиной, разжиженной водой; сквозь дыры в старых изношенных коврах виднелись плохо пригнанные доски пола. Потолок был настолько низок, что человеку высокого роста пришлось бы под ним согнуться.
Вся комната, длиной в восемнадцать футов, а шириной около двенадцати, освещалась лишь через отверстие размером с носовой платок.
Пленницам принесли пилав, кушанье преимущественно татарское. Блюдо, в котором находился пилав, окружали мед и фрукты.
Кроме того, был подан хлеб без соли и чистая вода.
Это было настоящее пиршество по сравнению с трапезами, которыми довольствовались княгини со времени их похищения.
Шамиль просил передать им свои извинения. По его словам, это было все, что мог сделать глава бедной страны, еще более бедный, чем сама страна.
Пленниц угощали три жены Шамиля.[8]
По окончании обеда княгинь известили, что им следует старательно прикрыться вуалями: вот-вот должен был прийти пророк.
Вслед за тем принесли стул, сделанный из дерева и камыша, и поставили его перед дверью. Три татарских переводчика разместились на пороге, но не входя в комнату. Один из них был Хаджи – доверенное лицо Шамиля; два других переводили: один на русский, другой на грузинский.
Появился Шамиль.
На нем была длинная белая открытая туника, надетая поверх зеленой туники, и тюрбан белого и зеленого цветов (в начале этой книги мы уже попытались набросать его портрет, так что нам не стоит повторяться).
Он сел на стул, поставленный за порогом комнаты. Слуга держал над его головой зонт.
Шамиль обратился к княгине Орбелиани первой, не глядя на нее, равно как и на других, и к тому же полуприкрыв по своей привычке глаза, подобно отдыхающему льву.
– Варвара, – сказал он, не называя княгиню никаким титулом, – говорят, что ты жена Илико, которого я знал и любил. Он был моим пленником; это был человек с благородным и мужественным сердцем и с устами, неспобными произносить ложь. Говорю так потому, что я тоже питаю отвращение к двоедушию. Не пытайтесь обмануть меня: вы совершите ошибку и потерпите неудачу. Русский султан отнял у меня моего сына; я хочу, чтобы он вернул мне его. Говорят, что вы, Анна и Варвара, внучки султана Грузии; так напишите русскому султану, чтобы он вернул мне Джемал-Эддина, а я, в свой черед, возвращу вас вашим родственникам и друзьям. Кроме того, надо дать моему народу денег; для себя же я требую только своего сына.
Переводчики перевели слова Шамиля. Имам добавил:
– У меня есть письма для вас, но одно из этих писем написано не по-русски, не по-татарски, не по-грузински, а буквами, которых здесь никто не знает. Не стоит писать вам на незнакомом языке. Я заставлю переводить все, а то, что нельзя будет перевести мне, не дадут прочитать вам. Аллах советует человеку быть осторожным, и я последую совету Аллаха.
В ответ княгиня Варвара сказала:
– Тебя и не хотели обмануть, Шамиль. Среди нас есть француженка, она принадлежит к народу, с которым ты не воюешь и который, напротив, воюет с Россией. Прошу тебя: дай ей свободу.
– Хорошо, – промолвил Шамиль, – если ее селение находится вблизи Тифлиса, я велю проводить ее туда.
– Ее селение – это огромный и прекрасный город, в котором полтора миллиона жителей, – отвечала княгиня Варвара, – и, чтобы достигнуть его, надо плыть по морям.
– В таком случае, – произнес Шамиль, – она освободится одновременно с вами и до своей страны доберется как ей будет угодно.
Затем имам поднялся и сказал:
– Сейчас вам передадут письма, написанные по-русски; но помните, что всякая ложь есть оскорбление, нанесенное Аллаху и его верному слуге Шамилю. Я обладаю правом казнить и казню каждого, кто попытается обмануть меня.
После этих слов он с высочайшим достоинством удалился.
XLV. ДЖЕМАЛ-ЭДДИН
Мы уже говорили, что сын Шамиля, Джемал-Эддин, был захвачен при осаде Ахульго, хотя правильнее было бы сказать, что его отдали в заложники.
Напомним, что его мать Фатимат умерла после этого от печали.
Ребенок был увезен в Санкт-Петербург и представлен императору Николаю, приказавшему воспитать его по-княжески и дать ему самое лучшее образование.
Джемал-Эддин долгое время оставался диким и пугливым, как серна его гор, но, наконец, на седьмом году жизни в Петербурге стал более общительным, и, при том что он был превосходным наездником уже с семи лет, воспитание юноши дополнялось приучением его ко всякого рода физическим упражнениям, к которым присоединялось и умственное образование.
Джемал-Эддин выучился читать и писать на основе европейской письменности и вскоре уже говорил по– французски и по-немецки так, как говорят на этих языках сами русские, другими словами, словно на своем родном языке.
Молодой кавказец, адъютант императора, поручик, уже стал настоящим русским, как вдруг однажды его вызвали во дворец.
Он застал императора Николая озабоченным и почти что печальным.
– Джемал-Эддин, – сказал ему император, – вы свободны принять или отвергнуть то предложение, какое я намереваюсь вам сделать. Я не стану ни в чем принуждать вас, но полагаю, что вы поступили бы достойно, приняв его. Две грузинские княгини, княгиня Чавчавадзе и княгиня Орбелиани, захвачены в плен вашим отцом, который согласен освободить их лишь при условии, что вы возвратитесь к нему. Если вы скажете «да», они будут свободны; если вы откажетесь, они останутся пленницами навсегда. Не давайте ответа, поддавшись первому порыву: я даю вам три дня на размышления.
Молодой человек печально улыбнулся.
– Государь, – ответил он, – сыну Шамиля и воспитаннику императора Николая не нужно трех дней, чтобы понять, что ему следует сделать. Кавказец по рождению, сердцем я русский. Я умру там, в горах, где ничто не будет соответствовать полученному мною воспитанию, но я умру с сознанием, что исполнил долг. Три дня, подаренные мне вашим величеством, послужат не для того, чтобы принять решение, а для того, чтобы со всеми проститься. С этой минуты я в распоряжении вашего величества и уеду, когда вы прикажете.
В начале февраля он выехал из Петербурга вместе с князем Давидом Чавчавадзе, мужем одной из пленных княгинь.
К концу того же месяца оба они уже были в Хасавюрте.
Тотчас же в Ведень отправили нарочного с письмом князя; письмо было помечено Владикавказом.
Все это время сын Шамиля жил в Хасав-Юрте, в доме князя Чавчавадзе, в одной с ним комнате, но пользовался при этом полнейшей свободой: он дал слово, и его слову верили. Обедал он за столом у генерала барона Николаи.
По случаю выкупа княгинь там дали бал: Джемал– Эддин присутствовал на нем и был его героем.
Он оставался в Хасав-Юрте до 10 марта – дня, назначенного Шамилем для обмена.
Но когда наступил этот день, возникло непредвиденное затруднение.
Помимо того, что Джемал-Эддину следовало вернуться к отцу, князь еще должен был уплатить Шамилю сумму в сорок тысяч рублей. Так вот, имам потребовал, чтобы эта сумма была уплачена не просто серебром, но еще и мелкой монетой.
Чтобы раздобыть мелкой монеты в пятьдесят, двадцать пять и десять копеек, требовалось время; и все же в канун обмена ее раздобыли только на тридцать пять тысяч рублей.
Князь попросил Джемал-Эддина, чтобы тот взялся уговорить отца принять пять тысяч рублей золотом. Джемал-Эддин согласился.
10 марта генерал Николаи, взяв один батальон, две пехотные дивизии, девять сотен казаков и шесть пушек, выдвинулся к берегам реки Мичик, где должен был происходить обмен.
Правый берег реки, принадлежащий русским, представляет собой открытую местность; напротив, на левом берегу, который принадлежит имаму, леса простираются до самых гор.
Просматривается лишь пространство в одну версту между рекой и лесом, на ширине примерно в пятьсот саженей.
Шамиль велел передать барону Николаи, чтобы тот остановился в версте от правого берега Мичика, а сам намеревался остановиться в версте от левого берега.
Когда барон Николаи прибыл на условленное место, Шамиль уже был на своем посту; издалека можно было распознать его палатку, над которой развевалось поставленное позади нее черное знамя.
К Шамилю тотчас послали армянина по фамилии Грамов, который должен был служить переводчиком. Ему следовало узнать, каким образом будет происходить обмен.
Вот что решил Шамиль.
Его сын Гази-Мохаммед в сопровождении тридцати двух горцев приведет пленниц к дереву, находящемуся на правом, то есть на русском, берегу.
Там он найдет своего брата и сорок тысяч рублей, привезенных таким же конвоем под командой русского офицера. Русский офицер покинет Джемал-Эддина лишь после того, как тот будет передан отцу.
Офицер, тридцать два солдата, сундуки с деньгами, шестнадцать пленных горцев и Джемал-Эддин в сопровождении барона Николаи и князя Чавчавадзе, через пятьдесят шагов отставших от них, двинулись к Мичику.
С ними был экипаж, предназначавшийся для пленных дам.
По мере того как русский конвой двигался вперед, с противоположной стороны навстречу ему двигались Гази– Мохаммед, его тридцать два всадника и арбы, на которых везли пленниц.
Гази-Мохаммед и его конвой прибыли первыми и стали ждать арбы, вскоре их догнавшие.
Как только арбы подъехали, горцы тронулись с места и приблизились к дереву, к которому русские прибыли в одно время с ними.
Во главе отряда Шамиля ехал на белом коне красивый молодой человек с бледным лицом; на нем была белая черкеска и такая же папаха.
Это был Гази-Мохаммед.
Позади него следовали двумя рядами тридцать два горца, богато одетых и великолепно вооруженных.
Оба отряда остановились в десяти шагах один от другого.
Тогда Гази-Мохаммед и Джемал-Эддин соскочили с коней и бросились друг другу в объятия; увидев обнимающихся братьев, все мюриды Гази-Мохаммеда закричали: «Аллах! Иль Аллах!»
Тем временем князь Чавчавадзе и генерал барон Николаи тоже приблизились к ним.
После этого княгини, их дети и женщины из свиты княгинь были переданы Гази-Мохаммедом князю Чавчавадзе.
Сундуки с сорока тысячами рублей, следуя в противоположном направлении, перешли к мюридам.
Джемал-Эддин был представлен княгиням, поблагодарившим его как своего избавителя; после этого, простившись с князем и бароном и утерев две последние слезы, которые ему было позволено пролить при воспоминании о России, своей приемной матери, он отправился к отцу, сопровождаемый офицерами, обязанными, в соответствии с договоренностями, передать его Шамилю.
За полверсты от того места, где расположился Шамиль, они остановились среди купы деревьев. До тех пор Джемал-Эддин был в русском военном платье. Здесь он снял свой мундир и облачился в черкеску, присланную ему Шамилем.
В нескольких шагах от него, приведенный двумя нукерами, приплясывал на месте черный конь, покрытый красным чепраком. Джемал-Эддин вскочил на него, как настоящий горский наездник, и направился к Шамилю.
Едва Джемал-Эддин и сопровождавшие его офицеры проехали несколько шагов, как мальчик лет тринадцати, выбежав из свиты Шамиля, с раскрытыми объятиями пустился во весь дух и бросился на шею Джемал– Эддину.
Это был его младший брат Мохаммед-Шефи.
Наконец, они подъехали к свите, окружавшей Шамиля.
Восточное достоинство имама и его религиозная бесстрастность не позволяли ему, при всем его желании, пойти навстречу сыну. Он ждал, неподвижно восседая между двумя стариками-мюридами. Над головой его держали зонт.
Красота Шамиля была настолько совершенна, а его величие настолько естественно, что русские офицеры остановились в изумлении.
Тем временем Джемал-Эддин приблизился к отцу и хотел поцеловать у него руку. Но Шамиль был уже не в силах более сдерживаться: он открыл сыну объятия, прижал его к сердцу, и из груди имама, готовой разорваться от волнения, понеслись рыдания.
После этих первых ласк Джемал-Эддин сел по правую сторону от отца; Шамиль продолжал смотреть на него, держа его за руку. Пожирая сына глазами, он, казалось, наверстывал все то время, что они его не видели.
Два офицера, свидетели этого зрелища, стояли неподвижно, не произнося ни слова, настолько благоговейные чувства вызвала у них эта сцена.
Тем не менее, поскольку слишком долгое их отсутствие могло обеспокоить генерала, они велели сказать Шамилю, что их послали сюда лишь для того, чтобы передать ему сына; поручение исполнено, и теперь они просят отпустить их.
Шамиль приветствовал их и произнес:
– До этого времени я сомневался, что русские сдержат слово. Теперь я изменил свое мнение; поблагодарите от моего имени барона Николаи и скажите князю Чавчавадзе, что я обращался с его женой и свояченицей так, как если бы они были моими собственными дочерьми.
Потом он поблагодарил офицеров.
Они приблизились к Джемал-Эддину, чтобы проститься с ним.
Он бросился в их объятия и, по русскому обычаю, трижды поцеловал каждого.
Шамиль, вместо того чтобы рассердиться при виде этих проявлений печали, напротив, благосклонно наблюдал за ними.
Затем офицеры в последний раз поклонились Шамилю; им подвели лошадей, и они в сопровождении пятидесяти мюридов достигли берега Мичика.
Там они услышали ружейную пальбу, но на этот раз пальба была совершенно мирной: таким образом люди Шамиля выражали Джемал-Эддину радость, испытываемую ими от того, что после столь долгого отсутствия они снова видят его в своих рядах.
* * *
В феврале 1858 года полковнику князю Мирскому, командиру Кабардинского полка, дислоцированного в Хасав-Юрте, доложили, что какой-то горец, называющий себя посланцем Шамиля, желает говорить с ним; князь положил рядом с собой пистолет и велел впустить горца.
Незнакомец вошел.
Он в самом деле был послан Шамилем; как выяснилось, сын имама, Джемал-Эддин, заболевший болезнью, неизвестной татарским лекарям, находился при смерти, и Шамиль обращался за помощью к европейской науке.
Князь Мирский вызвал лучшего полкового хирурга, доктора Пиотровского, и свел его с горцем.
В симптомах болезни Джемал-Эддина, которые попытался описать ему чеченец, доктор распознал признаки чахотки. Он приготовил лекарства, написал на каждом из них, как его следует употреблять, и передал все это посланцу.
Кроме того, чеченцу поручили передать имаму, что, если тот пожелает, чтобы медик лично отправился к больному, князь Мирский согласится на это, но на известных условиях.
10 июня тот же самый посланец явился вновь. Болезнь Джемал-Эддина стремительно развивалась. Шамиль заранее соглашался на все требования князя Мирского, однако он просил, чтобы доктор, предложенный князем, был послан как можно скорее.
В обмен на врача полковник потребовал дать ему трех наибов в качестве заложников.
Пять наибов ожидали решения полковника, находясь в двух льё от расположения полка; их известили о выставленном условии, и трое из них явились, чтобы отдать себя в руки князя Мирского.
Князь вызвал доктора Пиотровского и сообщил ему о просьбе Шамиля, сказав при этом, что он нисколько не принуждает его к этой поездке и тот имеет полное право отказаться.
Доктор не колебался ни минуты.
Он взял с собой аптечку со всеми медикаментами, какие могли ему понадобиться, и 12 июня, в семь часов утра, в сопровождении двух наибов и горца, служившего нарочным, выехал из Хасав-Юрта.
Вначале путь их пролегал по правому берегу Ярак-су, через Гайдабашские высоты, к Ауховским владениям. Поднявшись в гору, они заметили недалеко от реки Акташ, на левом ее берегу, две сотни донских казаков, возвращавшихся в крепость Внезапную, вероятно, после конвоирования.
В полдень они выехали на небольшую поляну, окруженную колючими кустами, и остановились, чтобы дать отдых лошадям. Один из наибов снял с себя бурку, разостлал ее на траве и пригласил доктора сесть.
Другие сели прямо на траве.
Доктор принялся закусывать.
Он предложил своим проводникам последовать его примеру. Однако они не пожелали взять ничего, кроме куска хлеба.
Горцы отказались даже от швейцарского сыра, сказав, что они не знают, что это такое, и никогда не видели ничего подобного.
Оттуда, где они находились, были видны чеченские пикеты на опушке леса, простиравшегося до берегов реки Акташ. В это время среди горцев поднялся сильный переполох. С ружьями на плече они бежали к месту, где поднимался густой столб дыма.
Едва доктор успел окончить завтрак, как из-за кустов вышел чеченец с ружьем в руках; он остановился шагах в пятидесяти от доктора и его спутников и на чеченском языке обменялся несколькими словами с наибами. Он сообщил им, что казаки, которых они видели, убили одного горца и угнали двух лошадей; дым, стоявший над кустарником, служил сигналом тревоги, но подан этот сигнал был слишком поздно: пока чеченцы сбегались, казаки уже вступили в крепость.
В то время как чеченец и наибы обсуждали это происшествие, доктор решил отойти в сторону, чтобы собрать малины, но наибы окликнули его и посоветовали ему не отходить от них: его поездка в горы держалась в тайне, и, если бы одежда его выдала, он вполне мог бы получить несколько пуль.
В четыре часа пополудни они снова пустились в путь и переправились через Акташ, оставив слева два аула, один из которых носил то же название, что и река, а другой – Юрт-Аух. Примерно в одной версте от этого последнего аула Акташ принимает в себя речку Сала-су и делает большой поворот дугою на северо-запад. Посредине этой дуги возвышается гора, на противоположных склонах которой построены два аула – Аргар-Юрт и Белляр-Гарган.
Дорога, довольно сносная до Аргар-Юрта, за этой деревней становится совершенно непроезжей; путникам пришлось спуститься к реке и следовать вдоль нее. К вечеру они оставили русло Акташа и въехали в лес, растущий на его левом берегу.
В девять часов показались светившиеся в темноте огни: это были огни аула Оник.
Ориентируясь на них, путники въехали на улицы аула.
Главная улица была полна народу. Лазутчик известил, что какой-то русский, сопровождаемый тремя горцами, приближается к аулу, и все его жители были на ногах.
Тотчас же раздались крики: «Гяур! Гяур!», вскоре принявшие грозное звучание, но наибам удалось объяснить жителям, что задание у доктора вполне мирное.
Путники подъехали к дому, где им предстояло провести ночь; хозяин вышел из дома навстречу доктору и, переговорив с наибами, сделал г-ну Пиотровскому знак следовать за ним.
Он ввел его в комнату и, указав на угол, довольно грубо сказал ему: «Садись там!» После этого он вышел, заперев дверь и унеся с собой ключ.
К великому удивлению доктора, в этой комнате находилась женщина с ребенком лет четырех; она сидела перед огнем, и благодаря этому доктор рассмотрел, что она молода и красива.
Он оставался почти час в обществе этой женщины; но, то ли потому, что она не понимала по-русски, то ли потому, что ей велено было хранить молчание, она не отвечала ни на один из вопросов доктора.
Наконец вернулся хозяин дома, сопровождаемый одним из наибов. Они дали знак доктору, чтобы он шел за ними. Складывалось впечатление, что эти люди говорили лишь тогда, когда они не могли действовать никак иначе.
Миновав двор, доктор вошел в другую комнату, совершенно не освещенную. Хозяин запер за ними дверь и, подойдя к очагу, где заранее были приготовлены дрова, развел огонь. При свете, разлившемся вокруг очага, доктор увидел, что он находится в комнате, предназначенной у восточных народов для приезжих.
Огонь осветил и постель; доктор, изнемогавший от усталости, лег на эту постель и тотчас уснул.
Проснувшись утром, он увидел, что один из его наибов разговаривает с другим наибом, незнакомым доктору. Этот новый наиб был украшен двумя бляхами, в которых доктор распознал ордена Шамиля. И в самом деле, вновь прибывший был прислан имамом, чтобы служить доктору провожатым на остальном отрезке пути. Он посоветовал доктору надеть другую одежду и из военного медика перерядиться в простого чеченца; впрочем, никаких затруднений в этом не было, поскольку платье для доктора было приготовлено заранее.
Завтрак состоял из чая, сыра и татарских лепешек.
В девять часов утра привели лошадей и проводника: лошади были свежие, а проводник – другой, не тот, что был накануне.
Дорога вплоть до селения Алмаки тянулась вдоль реки Акташ. В ауле Алмаки проводника опять поменяли; новый проводник был пеший.
Выехав из селения Алмаки, они после часа езды достигли Гумбетовского хребта; по пути туда им встречались большие стада овец и крупного рогатого скота. С высоты Гумбетовского хребта видны были Каспийское море и Кавказская линия вплоть до Георгиевска, один лишь Моздок был скрыт туманом. Великолепная панорама на какое-то время заставила доктора позабыть об усталости и трудностях пути.
Путники продолжали подниматься с одной вершины на другую, пока не достигли, наконец, самой высокой точки хребта. Оказавшись там, доктор невольно отступил назад на несколько шагов: гора отвесно обрывалась над пропастью глубиной в две тысячи футов.








