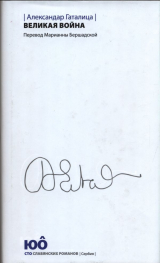
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц)
Тем не менее все удивились, когда в качестве начинки из лошадиной утробы выпали два тощих пса, у которых даже в зажаренном виде были видны торчащие ребра, и сука с опаленными огнем сосками, – но и это был еще не конец. Ризанов, войдя в роль Трималхиона, приказал распороть собакам животы. Из них вывалилось мелко порубленное мясо, похожее на измельченную требуху. В других условиях и в другое время все бы остановились, но возле Мазурских озер, накануне того дня, когда падут русские позиции, все закричали «ура» и накинулись на угощение. Началась страшная давка и толкотня. Ни Борис, ни его великан, вспоровший брюхо коня, не смогли поделить порции так, как было бы достойно пира Трималхиона. Конь, фаршированный собаками и таинственной начинкой в них, был расхватан в одну минуту. Возле погасшего костра, словно после какой-то вакханалии, остались только три огромных конских ребра, один вытаращенный глаз и несколько кровавых пятен, когда кто-то отважился спросить у великого повара, кому же принадлежали те самые вкусные потроха, которыми были фаршированы жилистая сука и два ее костлявых товарища.
Ризанов долго увиливал от ответа. Объяснял это тайной рецептуры. Переводил разговор на другую тему или превращал разговор в шутку. Но его друзья, как настоящие римляне уже блевавшие после пира, поскольку их съежившиеся желудки не могли вынести столько мяса, продолжали допытываться. «Послушай, Борис Дмитриевич, – сказал один из них, – самое мягкое мясо в желудке собаки – чье оно было? Ты, что ли, припрятал каких-то кротов или хорьков?» До полудня русский Трималхион увиливал от ответа, но в тот момент, когда уже казалось, что он загнан в угол и вынужден признаться, началась артиллерийская канонада, ставшая началом конца русского 20-го корпуса. Пули свистели, как дрозды. А над импровизированным «дворцом патриция», где происходило пиршество с фаршированным конем, разорвалось несколько гранат крупного калибра, солдаты называли их «корзинка с углем». К полудню все было кончено. Сто тысяч русских солдат сдались немцам, Борису так и не пришлось выдать свой секрет.
Еще раз или два в деревянном бараке под Кёнигсбергом, где немцы вначале содержали русских военнопленных, Борис Дмитриевич собирался сказать товарищам, что они ели своих собратьев, но тогда у всех выживших хватало забот похлеще прежних, к тому же солдаты, присутствовавшие на «пиру Трималхиона», вспоминали о нем так по-доброму, что филолог-мясник не видел причины портить им эти впечатления, ведь только они и помогают выжить в плену.
О печальной и вместе с тем героической судьбе 20-го корпуса сразу же доложили главнокомандующему русскими вооруженными силами великому князю Николаю. Он провел ночь не в каком-нибудь реквизированном доме рядом с теплой печкой. Нет, он заставил себя, своего любимого начальника штаба Янушкевича и большую часть Генерального штаба русской армии ночевать в палатках при тридцатиградусном морозе. Палатка князя находилась в каком-то чернолесье между Гродно и Белостоком. Здесь главнокомандующий русской армией принимал ежедневные сообщения и отдавал приказы командирам; в палатке он ел и пил чай, подслащенный сахарином. Ему было невероятно холодно, но он ни единым мускулом лица не показывал этого своим подчиненным. Он представлял себе, что находится на даче, в русской бревенчатой бане, где вода, испаряясь на горячих камнях, заставляет его потеть.
Он каждое утро выходил, такой высокий, голый до пояса, и растирался снегом. Потом садился на пень и смотрел вдаль. Его не беспокоило, что сегодня минус тридцать пять, что с каждым днем температура становилась все ниже, достигнув минус тридцати восьми 25 февраля 1915 года. Только офицеры из близкого окружения могли заметить, что в руке он держит за рукоятку нечто невидимое. Это невидимое «нечто» великий князь поворачивал так, словно каплю за каплей выливал что-то на сверкающий, почти сухой снег. Потом он неопределенно улыбался, глядя в направлении лесов, где остались сто тысяч его попавших в плен солдат, или поворачивал голову, и его взгляд устремлялся на северо-восток, как будто он с высоты своего исполинского роста – взглядом летящей птицы – мог увидеть столицу с заледеневшей дельтой Невы и Эрмитажем, дворцовый балкон, с которого царь Николай шесть раз прокричал «ура-а-а», призывая свой народ на Великую войну…
Потом главнокомандующий вставал и с тяжелым вздохом шел надевать военную форму. Нужно было что-то предпринять. Сто тысяч солдат попали в плен, но русские армии перегруппировались и пошли в контрнаступление в районе Осовца и в направлении Пьянишле и Полонска. Каждое утро великий князь направлялся к своей «парной» перед палаткой. Потел на морозе и растирался снегом. Ему казалось, что этот ритуал помогает русской армии. Однажды ему доложили, что отбиты атаки на левом берегу Вислы, на следующий день – что войсковые части продвигаются вперед под Витковицами и южнее Равки, на третий – что под Болинеком остановлено немецкое наступление. Наконец ему сообщили, что пал упорно оборонявшийся Перемышль, выдержавший, как античный Илион, годовую осаду. Только тогда великий князь перестал растираться снегом, да и зима 1915 года наконец-то немного смягчилась.
Это потепление не понравилось фельдмаршалу, воевавшему на противоположной стороне. Его раздражало, что битва при Мазурских озерах не превратилась в триумф его армии и особенно то, что пала осажденная крепость Перемышль. Имя этого фельдмаршала было Светозар Бороевич фон Бойна. Все в этом офицере свидетельствовало о том, что его интересует только война. В его осанке, взгляде не было ничего, кроме безусловной воинской дисциплины. Маленькие, абсолютно спокойные глаза могли с таким упорством сосредоточиться на какой-то точке лица собеседника, что перед ним опускали взгляд не только все генералы, но и сам император. Светозар Бороевич был потомком сербских военных переселенцев, сыном Банийского граничарского[17]17
Граничары – сербы, переселившиеся после 1699 года из Османской империи в Австрийскую и несущие военную и пограничную службу в обмен на автономию и освобождение от налогов.
[Закрыть] полка, где служил когда-то его отец Адам Бороевич. То, что его воспитала скорее армия, чем его мать Стана, то, что молоком военной службы его поили простые и решительные граничары, могло сделать из него только солдата и никого другого. По служебной лестнице он продвигался с молниеносной скоростью. С 1905 года Бороевич становится венгерским дворянином с добавлением имени фон Бойна, генералом австрийской армии он стал еще в аристократическом девятнадцатом веке. А когда перед Великой войной в объединенных военных маневрах в Боснии он победил войска германского императора Вильгельма, то получил за это звание фельдмаршала.
Светозар фон Бойна общался со многими, но мало кто знал его по-настоящему, поскольку фельдмаршал считал, что командующий должен всегда оставаться в одиночестве. Поэтому никто и понятия не имел, что фон Бойна все делает дважды. Но это, вероятно, не является чем-то удивительным. В нем уживались два человека: православное сердце билось в такт с австрийским военным сердцем, преданным только императорской короне. И все-таки сербские слова пересиливали в его уме немецкие, а некоторые воспоминания о скромном родительском доме в Банийе никак не сочетались с видами дворца, где он обычно пребывал. Поэтому у фельдмаршала все было в двойном количестве. У него было два ординарца, две штабные локации, так что и в битве у Мазурских озер он отдавал приказы с двух командных пунктов, а офицеров своего штаба он всегда размещал в двух местах. У фон Бойны было два коня, два комплекта военной формы, два комплекта копий орденов (настоящие он хранил дома) и две пары форменных сапог, которые он по вечерам чистил сам.
Однако что в этом было необычного? Светозар Бороевич никогда не надевал две пары сапог, не ездил одновременно на двух конях и никогда не надевал на себя сразу два мундира с одинаковыми наборами копий воинских наград. Одна пара сапог, один мундир и один конь предназначались для того Светозара, который жил на дне его горькой души: того, кто не может умереть, и поэтому должен жить. Но этот второй – или лучше сказать – первый Бороевич был всего-навсего фантомом, не имеющим ни плеч, ни ног, ни желания сесть на коня, тем не менее у него должно было быть все…
Таким он был и на войне. Настоящее чудо – об этом знал только он, – что никто раньше не заметил его шизофренической природы и что она не мешала предназначенному ему великому служению. Фон Бойна считал, что ему просто повезло. На маневрах у него всегда было две цели, и он мог выбирать одну из них; армию он всегда в последний момент направлял по одному из двух одинаково хороших маршрутов. Так все это и шло год за годом. Самый большой экзамен его двойственность выдержала в предыдущий год войны, когда он командовал 6-м корпусом и когда ему было приказано снять осаду с крепости Перемышль.
Почему город Перемышль и его укрепленная крепость оказались настолько важны? Эта крепость стала символом немецкой храбрости и выдержки. Во время наступления в Галиции русские выиграли сражение за Львов и отодвинули фронт на сто шестьдесят километров, вплоть до Карпат. Крепость Перемышль единственная сопротивлялась до 25 сентября 1914 года, хотя и оставалась глубоко в русском тылу. Поэтому оборона города, похожего на орлиное гнездо, в которое набилось сто тысяч немецких солдат, стала для германского командования особенно важной. И более того, немецкая Троя была на устах каждого солдата, а командовавшего обороной крепости Германа Кусманека называли германским Приамом. Так что Перемышль было необходимо защищать и доставлять осажденным все необходимое, ибо народ, настолько любящий классические образцы, не мог допустить, чтобы и его Троя тоже пала…
Но враг думал иначе. Командующий Третьей русской армией Радко-Дмитриев 24 сентября 1914 года начал штурм Перемышля. У русского генерала не хватало осадной артиллерии, но он все-таки приказал атаковать крепость, пока австрийцы не прислали войска на помощь. Три дня русские, подобно объединенным греческим войскам, штурмовали немецкую Трою, но ничего не добились, хотя и возложили на алтарь военной удачи сорок тысяч невинных жертв.
Тогда-то фельдмаршалу Бороевичу и было приказано на волне наступления Гинденбурга осуществить прорыв силами своего 6-го корпуса и деблокировать Перемышль. Получив приказ от главнокомандующего, он, как дисциплинированный солдат, бросил в бой оба своих штаба, двух коней, две пары сапог и два мундира. Теперь он не двигался в двух направлениях и двумя колоннами, потому что все немецкие пути вели в Перемышль. И все-таки фон Бойна колебался. Ему казалось, что в одном и том же месте стоят два Перемышля: подлинный и ложный. Если он освободит настоящий, все закончится триумфально, а если ложный – военное счастье обернется химерой и продлится всего неделю или две. Куда двигаться? Разумеется, из Кракова по направлению к Львову.
Так он и поступил. Нанес жестокий удар неприятелю, и генерал Дмитриев 11 октября 1914 года отступил за реку Сан. Фон Бойна въезжал в крепость, словно какой-нибудь султан, возвращающийся из победоносного похода в Индию. В этой крепости не было ни женщин, ни детей, и поэтому их роли пришлось исполнять солдатам. Улицы Перемышля были усыпаны лепестками роз, из окон офицеры разбрасывали конфетти из разорванных вражеских листовок. На церкви под звон всех колоколов подняли огромное знамя. Оба коня – и тот, на котором ехал фельдмаршал, и тот, которого вели за уздечку – не упрямились, а мирно вышагивали, как арабские жеребцы, преданные падишаху, а фон Бойна усмехался… Он подумал, что все это слишком красиво, чтобы быть настоящим, и с этого момента его стали мучить сомнения: уж не освободил ли он ложный Перемышль, а все эти люди только плод его воображения, его фельдмаршальского тщеславия…
А настоящий Перемышль? Он, как невидимая сущность, находится где-то под этим неосторожно обнаженным, бездумно впавшим в эйфорию городом, и мучается, и страдает в своей трансцендентности и одиночестве, продолжает стрелять залпами по настоящему и не склонному к милости врагу. Если все это правда, то снятие осады Перемышля будет непродолжительным.
И это, к сожалению, было правдой.
Пауль фон Гинденбург 31 октября 1914 года потерпел поражение в сражении на Висле и приостановил наступление на Варшаву. Вследствие этого и Бороевич отвел войска с реки Сан. Русская Одиннадцатая армия под командованием Андрея Селиванова начала вторую осаду Перемышля. Селиванов не отдавал приказов о лобовых атаках упрямого гарнизона, вместо этого он решил измучить осажденных голодом и принудить их сдаться. Напрасно все солдаты пели гимны во славу германского Илиона и, словно Кассандры, все до единого предрекали его новое освобождение от блокады…
И лишь фон Бойна знал, что в этом виноват только он. На этом самом месте он освободил ложный Перемышль, и поэтому теперь, в феврале 1915 года, после неопределенного исхода сражения у Мазурских озер, он отчаянно стремился получить от командования разрешение на прорыв блокады настоящего Перемышля. Он повторял, что теперь знает различие, что он сумеет найти дорогу к подлинному окруженному городу, но было поздно. Секретной депешей в Вену сообщили, что фельдмаршал находится на грани нервного срыва, и потомок сербских граничар Светозар Бороевич фон Бойна был отправлен на лечение в Карлсбад, курорт, очень похожий на тот, с которого на Великую войну отправился сербский воевода Радомир Путник. Путник выехал с курорта без багажа, взяв только шинель. Фон Бойне было разрешено взять с собой все, что принадлежало ему: двух адъютантов, двух коней, два мундира и две пары до блеска начищенных военных сапог с высокими голенищами. «Omnia теа тесит porto»[18]18
«Все свое ношу с собой» – крылатая фраза Цицерона (лат.).
[Закрыть] – сказал про себя фельдмаршал, увидев, что все отлично подготовлено, и, все-таки неохотно, отправился на курорт Карлсбад.
«Omnia теа тесит porto», – повторял про себя и Сергей Честухин, когда увозил свою Лизу из страшной зимы Восточной Силезии в чуть более теплый, но все-таки оледеневший Петроград. Во время сражения при Мазурских озерах Лизочка была ранена в голову шрапнелью. Ее сразу доставили в его вагон, под его скальпель. Не было времени передать ее другому хирургу, да и кто бы провел эту операцию лучше известного доктора Честухина? Сергей сбрил вокруг раны жены волосы цвета меди, вскрыл крышку черепа и извлек осколок из мягкой серой массы. Остановил кровь, вернул на место кость, как будто закрыл детскую деревянную коробочку, и сел возле кровати жены. Когда она открыла свои глаза цвета сепии, не было более счастливого человека, чем он; когда она заговорила, не было человека печальнее. У Лизы не были нарушены никакие жизненно важные функции, но, по выбору слов и лепетанью, она стала на удивление похожей на их дочку Марусю.
Весь персонал санитарного поезда «В. М. Пуришкевич» пришел проводить их, когда они отправлялись домой. В доме на набережной Фонтанки не было более счастливого ребенка, чем Маруся, увидевшая свою живую маму. Лиза обняла ее и почти целиком укрыла своими распущенными волосами цвета меди. Потом Лиза показала ей все подарки, которые обещала привезти с фронта, а после этого они сели в детский уголок и играли как две сестрички. Горничная Настя, тетя Маргарита и Сергей смотрели на них, как боги с небес, а мать и дочка, удивительно похожие, теперь были преданы одна другой до последней незамысловатой детской тайны.
А Сергей мысленно снова и снова возвращался к этой операции. Вскрывал теменную крышку, останавливал кровотечение, извлекал осколок, проверял все жизненные функции мозга Лизочки, закрывал теменную крышку, и жена просыпалась как один из его чудесно исцеленных раненых. И потом снова: вскрывал теменную крышку на голове жены, останавливал кровотечение, извлекал осколок… В чем он ошибся? С этими размышлениями он вернулся на фронт, но без Лизы Сергей уже никогда не будет прежним.
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: ОТНОШЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Екатерина Викторовна Гошкевич походила на Геру: волоокая, с пышной – как у оперной певицы – грудью с крупными сосками, ясно проступающими даже сквозь блузку и жакет, она была, как говорят русские, «дамой в самом соку». Хотя она и окончила женскую гимназию, свой «гражданский дух» она проявляла в том, что еще в девятнадцатом веке начала работать в одной из киевских адвокатских контор. Там ее заметил скромный помещик Бутович и женился на ней. Для того чтобы Екатерина Викторовна стала его «Катенькой», он должен был согласиться с тем, что она не откажется от работы и не переселится из Киева в его имение. Так они и жили отдельно друг от друга, виделись только по субботам и воскресеньям и посещали какой-нибудь спектакль в театре Соловцова, так что у Геры было достаточно времени, чтобы найти в Киеве своего Зевса.
В театре Соловцова во время спектакля «Бедные люди» ее, сидящую где-то на втором ярусе, заметил киевский генерал-губернатор Владимир Александрович Сухомлинов. Он – наверное, от скуки – рассматривал зал в свой театральный бинокль и, хорошенько повернувшись, увидел Екатерину Викторовну. Прежде всего он заметил ее грудь («Бог мой!»), потом соски (снова «Бог мой!») и в конце волоокий взгляд голубых глаз (еще одно протяжное и тихое «Бог мой…»). Случилось это в 1904-м или в следующем, 1905 году. Генералу в то время было под шестьдесят, а прелестной секретарше тридцать, но это не помешало им очень быстро договориться. Она работает? Не имеет значения. Замужем? И того меньше. Генерал обладал импозантной фигурой, а на его лице, напоминавшем надутый воздушный шарик, красовались слегка подкрученные усы и густые рыжие брови, которые он каждое утро зачесывал вверх. Низкий голос и запах черного табака на губах дополняли его портрет. Волосы того же самого рыжего цвета, что и усы, сохранились только возле ушей, и он тщательно скрывал это под головным убором. От всего его облика исходило ощущение опасности. Так Гера нашла киевского Зевса, но в дальнейшем все шло не очень гладко, так же как это случалось и в мире греческих богов.
Скромный помещик Бутович любил жену и не собирался так просто отпускать. Вместо этого, сжав зубы, он отправил ее в свое имение Силки, под бдительный надзор одного из своих слуг. Это ожесточило рыжеватого генерал-губернатора, сразу же решившегося на «лобовую атаку» и «освобождение из ссылки», но тут ему вручили секретную записочку, попахивающую небольшим нарушением правил этикета, и это настолько заинтересовало Сухомлинова, что он сразу же принял у себя австрийского консула Франца Альтшуллера, представившегося старым другом Екатерины Викторовны и изложившего ему свой план. Не следует «поднимать конницу» (генерал-губернатор был кавалерийским офицером и автором нескольких трудов о роли конницы в современной войне). Жена может потребовать развода, если докажет неверность мужа. В доме Бутовых служила французская гувернантка, некая мадемуазель Гастон. Все, что нужно, это распустить по Киеву слух, что мадемуазель Гастон – любовница помещика, и уже тогда развод будет делом само собой разумеющимся. Но кто распустит слух? Для этого нет более подходящей кандидатуры, чем иностранный подданный господин Альтшуллер.
Сказано – сделано. Весь Киев направлял бинокли на второй ярус – разумеется, из злорадства – и искал там Екатерину «Сухомлинову», как ее уже называли, но в ложе никого не было. Услышав, что она замешана в скандале, мадемуазель Гастон упаковала вещи в единственный чемоданчик и сбежала в Париж. Вслед ей Сухомлинов и Альтшуллер послали некоего сомнительного и весьма опасного субъекта Дмитрия Богрова, привычного к оружию и хорошего знатока парижского дна опустившихся душ, в конце концов оказывающихся в ломбарде «Монт-Пиета». Богров должен был найти мадемуазель Гастон и предложить ей приличную сумму, но она всех удивила, отказавшись от денег и потребовав медицинского освидетельствования, которое установило, что она девица.
Услышав об этом, Сухомлинов не знал, что делать. «Как?! Француженка тридцати лет – и девственница? Этого не может быть!» Так скандал вскочил на одного из невидимых коней и без труда добрался до столицы, где вскоре стал известен самому царю. Что же делать генералу от кавалерии, как не обратиться к царю, который, по непонятным причинам, очень любит его? А царские решения диктовали обстоятельства. Поскольку в скандале был замешан очень важный военный чин, французская дипломатия сразу же приняла сторону гражданки Гастон, и у царя не было иного выхода, как только быстро разрубить этот гордиев узел. В присущем ему стиле Николай II заявил, что «мадемуазель Гастон может быть девственницей во Франции и не быть ею в России». Это послужило сигналом к тому, чтобы смиренный помещик Бутович, не тратя попусту времени, подписал развод с Екатериной Викторовной.
Теперь она могла триумфально возвратиться в свою ложу на втором ярусе в театре Соловцова. Ее всегда сопровождал второй муж. Она не снимала свою черную шляпу, а он форменную фуражку, чтобы не была видна изрядная лысина во весь круглый и кажущийся надутым череп. Это был беспокойный 1905 год, однако новоиспеченным супругам он казался одним из самых прекрасных. Они переехали в столицу, в престижный район недалеко от собора Спаса на Крови, и начали строить дом, но госпожа Сухомлинова вскоре стала показывать свой генеральский нрав. И дело не только в том, что у ординарцев и денщиков стало сразу два командира, не только в том, что круг ее друзей сразу же был причислен к наиболее доверенным лицам генерала, не только в том, что австрийский консул Альтшуллер сделался самым дорогим гостем за их столом, а в том, что волоокая Екатерина Викторовна меняла планы строительства дома. Так случилось, что из будуара хозяйки можно было легко – открыв всего одну дверь – попасть в кабинет генерала, где он – теперь уже военный министр – принимал посетителей, владеющих весьма важной государственной информацией, и тот же самый будуар с другой стороны примыкал к комнате для посетителей.
Сказано – сделано. С большой помпой, песнями и плясками, на тройке, украшенной как на свадьбу, в феврале 1906 года супруги переехали в новый дом, где и началась их сладкая жизнь. 1909 год они вспоминали очень охотно; в 1911-м впервые побывали на Капри и посетили Помпеи; в 1912-м получили разрешение царя вместе присутствовать на маневрах сухопутных войск, вот только для Екатерины Викторовны не пошили генеральскую форму и не украсили ее такими же орденами, как у мужа… Однако люди старятся даже в сладкие годы. С годами ее грудь становилась все пышнее, а у него росло все больше рыжих волос, правда только возле ушей. Гера смягчала соски парижскими кремами, чтобы худо-бедно сделать их не такими заметными, а у него до утреннего умывания торчали два рыжих рога, как у настоящего Зевса. Самым дорогим другом дома оставался австриец Альтшуллер. Казалось, генерал любил его больше других еще со времен их заговора, да и всех тех, кто тогда ему помогал, возвеличил сверх всякой меры.
Между тем в Петербурге и Царском Селе Альтшуллер был наиболее влиятельным из всех иностранных посланников. Сухомлиновых он навещал на одной неделе в среду, пятницу и субботу, а на следующей – в понедельник, четверг и воскресенье. Он настолько освоился в доме, что генерал слышал его голос даже в те дни, когда его визита не ждали. В первый раз это случилось, когда супруги только вселились в новый дом. Екатерина Викторовна была в своем будуаре, а генерал принимал каких-то военных в кабинете, когда ему между двумя собственными фразами впервые показалось, что он – за своей спиной – слышит голос Альтшуллера. Что поделать, он стал немного нервничать, но Гера нашла способ заткнуть Зевсу уши лучше, чем это сделал Одиссей со своими моряками. Она обнажила перед ним свою грудь с торчащими сосками, положила под живот две подушки и улеглась на них, предоставив ему возможность заняться ее голой задницей. После этого Сухомлинов продолжал слышать голос Альтшуллера, но больше не обращал на него внимания, а если и обращал, то делал это только для того, чтобы еще раз насладиться обнаженными ягодицами Екатерины Викторовны. Поэтому посланник продолжал посещать их, и всегда с подарками из Вены. Всякий раз, когда генерал спрашивал: «Как я могу вас отблагодарить?» – Альтшуллер отвечал: «Все уже оплачено».
Так бы все и продолжалось, гладко и безо всяких помех: в одну дверь, ведущую в будуар, Альтшуллер входил, у другой подслушивал, о чем говорит Сухомлинов, а затем потихоньку выходил через первую дверь, одарив страстным поцелуем надутые губки Екатерины Викторовны. Одним словом, все шло гладко до тех пор, пока в последний день июля 1914 года «наиболее влиятельный посланник» не исчез из Петербурга. Оставалось совсем немного времени до того, как Германия и Австро-Венгрия объявят России войну. Военный министр стал называть Альтшуллера не иначе как «проклятым венцем». Наконец-то он перестал слышать его назойливый голосишко, а подарки и так не имели особого значения. Генеральша, однако, думала иначе. Теперь ей не приходило в голову оголять грудь и упитанную задницу для своего рыжеволосого козла. Через полуоткрытую дверь кабинета она сама подслушивала, что говорит ее муж, а затем пыталась сообщить эту информацию австрийской стороне.
Однако все это выглядело смешно, ибо все эти годы она держала дверь своего будуара открытой ради нежных чувств, а вовсе не для того, чтобы заниматься шпионажем. Сейчас, во время Великой войны, она не знала ни что необходимо слушать, ни что нужно сообщать, ни к кому по этому поводу обратиться. Наступил 1915 год, и у Екатерины Викторовны скопилось множество не связанных между собой сообщений, подслушанных ею под дверью кабинета мужа. О том, что многие из них устаревают уже через несколько дней, она даже не думала, как будто никогда и не была помощницей в адвокатской конторе. Что делать со своим «архивом»? Кому его предложить? Посольства враждебных стран были закрыты, а настоящие шпионы – само собой разумеется – избегали сотрудничества с волоокой генеральшей, что наносило дополнительный удар по ее самолюбию.
После того как русской армии едва удалось избежать полного поражения у Мазурских озер, для министра Сухомлинова начались тяжелые времена. «Железный князь» Николай Николаевич присылал с фронта требования немедленно сменить Сухомлинова, царица в письме к мужу писала, что Сухомлинов способен пойти против их общего «друга» Распутина, так что конец генеральской карьеры был уже ясно виден. Между тем этого некогда сильного и опасного человека свалили не петербургские интриги, а донос, который прибыл окольными путями от недругов из самой Вены. «Шпионка из будуара» Екатерина Викторовна начала крайне неосторожно отправлять друзьям, друзьям своих друзей и друзьям этих последних письма для Альтшуллера, сопровождая их некоторыми документами Верховного главнокомандования русской армии, смысла которых она не понимала. Шум вокруг этой шпионской аферы необходимо было немедленно унять, чтобы настоящие австрийские шпионы могли отличать подлинную информацию от «липы». Сообщение пришло от лица двойного агента Виктора Бедного, а на самом деле его послал некий сотрудник военной разведки под оперативным псевдонимом «Божий человек».
Только через много лет после войны стало известно, что под этим псевдонимом скрывался Франц Альтшуллер. В то время когда эта афера стала достоянием гласности, о ней знали немногие. Сухомлинова отправили в отставку. Было опубликовано заявление о создании комиссии по расследованию «деятельности бывшего военного министра по вопросам снабжения армии». Председателем комиссии стал член Государственного совета генерал Николай Петров, но это для нашего рассказа уже не важно. После краха своих карьер Зевс-Сухомлинов и Гера-Сухомлинова… Да что об этом говорить? Это уже неинтересно нашему читателю, он любит рассказы только о блистательных взлетах и падениях. Кого интересует, что происходит с головой человека, упавшей в корзину подле гильотины, и куда потом уносят обезглавленное тело…
Обезглавленное тело уносят, разумеется, в какую-нибудь мертвецкую, но было маловероятно, что тело Владимира Александровича Сухомлинова попадет на стол Мехмеда Грахо, тем более что инцидент с русским военным министром замяли и ни один рыжий волос не упал с остатков его шевелюры возле ушей, так что для многих и это не является предметом повествования. Последние дни сараевского патологоанатома, относящиеся к 1915 году, тоже не могли стать сюжетом для рассказа – разве что только в его голове.
После поражения австрийских войск под Сувобором он вместе со своим персоналом спешно покинул старую больницу в белградской Ятаган-мале, где он так удобно устроился. Вернулся в Сараево. Увидел первые признаки появившейся у населения холеры. Присоединился к инфекционистам. Без слов. Тоже заразился. Умер две недели спустя. Суеверные люди сказали бы, что это кара за тот год, когда он выступал в роли доктора-смерть. Менее склонные к предрассудкам могли бы проявить интерес к последним словам патологоанатома, которые, может быть, объяснили бы, как он стал доктором-смерть. Но последних слов Грахо не произнес. Возле него была только медицинская сестра. Новые ботинки, купленные им в начале 1915 года, он не успел даже разносить…
Таким мог бы быть рассказ о конце доктора-смерть в соответствии с теми данными, что сохранились об этом человеке. Но патологоанатом, под нож которого попали тела мертвого эрцгерцога Фердинанда и герцогини Гогенберг, умер погруженный в свои мечты. Перед смертью он влюбился в ухаживающую за ним медсестру. Когда болезнь усилилась и его прежде полное и рыхлое тело стало терять по литру жидкости в час, Мехмед Грахо вообразил, что он красив. Он представлял себя красивым, и таким же в своих мечтах казался ухаживающей за ним медсестре. На третий день дряблая кожа свисала у него с боков, а грудные мышцы болтались, как вымя тощей коровы. Но фантазии Мехмеда Грахо стали еще более яркими. Между двумя приступами горячки он с сумасшедшей настойчивостью убеждал себя, что неотразим и именно поэтому медсестра так старательно утирает ему пот со лба белым бинтом.
Умер он, когда уже вся комната пропахла его испражнениями, именно в тот миг, когда в своем внутреннем воображаемом мире он, неотразимо красивый и разодетый как сирийский принц из «Тысячи и одной ночи», собрался признаться в любви медицинской сестре. Но слов не осталось. И сил тоже. Сморщенная, высохшая как пергамент кожа покрывала зараженное тело, которое могильщики сразу же отнесли на кладбище в Бараево и там сожгли. Из имущества Мехмеда Грахо остались карманные часы и пара широких ботинок с ортопедической подошвой. Никто не торопился получить наследство, ведь у патологоанатома не было семьи. Ботинки передали австро-венгерскому Красному Кресту, а часы послали на фронт, чтобы их вручили какому-нибудь солдату. Что в дальнейшем случилось с этими часами, отправленными на Великую войну, неизвестно, но вот другие часы с Западного фронта не переставали вызывать недоумение.








