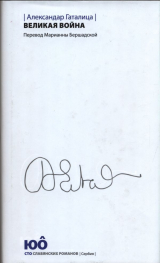
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
Кто знает, сколько горячих революционных душ она посетила в течение этих пяти дней и почему всем, кого поглотит революция, предсказала, что они будут первыми президентами Советской России. Хотела ли она укрепить волю этих винтиков восстания, или ее послали товарищи Каменев и Зиновьев, или же она сделала это по приказу мира мертвых цыган – о том знают только революционные поезда.
Отправиться в дорогу на поезде решил и актер Юрий Юрьев, он наметил это на воскресенье 11 ноября по григорианскому календарю. В первые пять дней, пока цыганка-гадалка путешествовала на поездах, он еще колебался. И в понедельник 5 ноября, и всю эту неделю давали спектакли. В театре «Кривое зеркало» шла роскошная версия пьесы Шнитцлера. В Александровском театре, где служил Юрьев, снова играли «Смерть Ивана Грозного» в постановке Мейерхольда. На пятницу 9 ноября 1917 года на Большой сцене Александринского театра был назначен его бенефис. Он должен был играть в лермонтовском «Маскараде» и не мог уехать до этого столь важного для него события. Впрочем, ему казалось, что, по сути дела, революции нет, что все это скоро пройдет и со дня на день беспорядки пойдут на спад. Но это было не так. Революция топала сапогами с подошвами, подкованными гвоздями, и на следующей неделе Юрьев уже не думал, что все это пройдет.
Ему было тяжело. Во-первых, он был голоден. Хотел пить. Хотел вымыться. Пришел в отчаянье. Нашел какой-то старый пистолет. Приставил его к груди в ожидании театральной смерти. Что хотел, то и получил. Пуля застряла в стволе, театральная кровь не пролилась. Тогда ему в голову пришла спасительная идея: в Петрограде, на улицах и во дворцах, разыгрывается грандиозный спектакль. Ему нужно просто «выйти из этого представления» – он и раньше легко менял роли и переходил от одного текста к другому. В воскресенье 11 ноября он решил отправиться на петроградский вокзал. Большинство людей ехало в другие города, а Юрьев ехал в другую пьесу с мирной обстановкой, белым снегом, деревянной дачей, к которой пристроена русская баня, где его ждет прекрасная женщина, разжигающая огонь в камине… Такую пьесу он решил отыскать, оказавшись на вокзале под высоким стеклянным куполом, едва пропускавшим свет из-за грязи и упавших сверху веток.
У Юрия Юрьева не было намерений, отличающихся от намерений других пассажиров Николаевского железнодорожного вокзала, хотя он и был актером и певцом. Множество людей заполнило залы ожидания. Люди перешагивали через тех, кто от усталости улегся на полу; они невероятно громко кашляли и лишь изредка открывали глаза, словно уже пребывали в преисподней, где рано или поздно начнут гнить, образуя человеческий гумус. Те, кто еще ходил, должны были осторожно пробираться через них, потому что среди этих людей ада было очень много раздражительных типов, сразу же разражавшихся проклятиями в адрес тех, кто задел их и пробудил от сна, похожего на смерть.
Актер перескочил через двух-трех лежащих на полу, а потом уселся на единственное свободное место на деревянной скамье в зале ожидания второго класса рядом с двумя женщинами, толстухой и худышкой. Толстая говорила молодой веснушчатой женщине: «Да говорю я тебе, милая моя, сейчас самое важное собрать вещи. Лучше всего взять как можно больше одежды, чтобы было что надеть и в Новониколаевске, и в Сочи. Ехать надо в каком-нибудь поношенном пальто, но ни в коем случае не в шубе. Вещи распределить так, чтобы небольшие узелки достались детям, а большие узлы – взрослым. О корзинах и громоздких чемоданах лучше забыть. Кто их потащит, все нужно складывать в узлы. В них обязательно нужно спрятать что-нибудь отделанное серебряными блестками, это пригодится в дороге, если придется менять у татар вещи на продукты. Не забудьте про соль и табак, хотя это, как всегда, на ваше усмотрение».
А он, как он отправился на свой новый спектакль? С двумя битком набитыми чемоданами, в самом лучшем пальто. Он хлопнул себя по лбу и вернулся в свою квартиру на Литейном проспекте. С помощью соседки Завроткиной, доброй души, будущей «коллективистки», вечно переживающей за всех жильцов, вытащил содержимое чемоданов и связал в узлы, спрятав лучшие вещи поглубже. Завроткина сказала, что в дорогу нельзя отправляться безоружным. У него должно быть с собой хоть какое-то оружие, хотя бы заржавевший театральный пистолет, из которого ему не удалось выстрелить себе в сердце. Юрьев положил его в багаж, снял модное пальто и надел купленное еще в 1882 году. Когда-то оно было красивого черного цвета с модными в то время шелковыми лацканами, сейчас уже настолько лоснящимися, что в них можно было смотреться как в зеркало. Перед его уходом соседка Завроткина еще и оторвала от этого старья лоскуток и сказала: «Вот теперь можете ехать! С богом, соседушка, помоги вам Господь!»
Подготовившийся к путешествию Юрьев с перекинутым через плечо узлом отправился в путь, как веселый актер, направляющийся в комедию, чтобы избежать трагедии. Он снова явился на Николаевский вокзал, перескочил через отбросы человечества, громоздившиеся на мраморном полу зала ожидания, и вышел на перрон. Удивился, не увидев под еще точными вокзальными часами ни одного поезда. Кто-то сказал ему, что теперь посадка производится не на перроне, а на расстоянии добрых полверсты по рельсам, у выходного светофора. Убирать вокзал и подъездные пути некому, и поэтому паровозы – по решению заважничавшего комитета железнодорожников «Викжель» – доходят до замусоренной территории и останавливаются. Нужно было спешить, и тут актер впервые почувствовал преимущества старой одежды и нового способа упаковки багажа. Забросил свой узел на плечо и спешно затрусил по путям. Задыхающийся, с позорными горошинами пота на лбу, он добрался до поездов.
Несколько составов дожидались своих пассажиров. Паровозы выбрасывали вверх клубы серого дыма нехотя и лениво, как будто все беглецы должны их просить, чтобы они вообще тронулись с места. К каждому локомотиву, как к какой-нибудь упрямой кляче, было прицеплено всего по два или три вагона, а пассажиров было по меньшей мере в три раза больше. Актер выбрал путь в самое сердце России, на Южный Урал. Там он найдет свой спектакль с деревянной дачей, русской баней, хрустальным снегом, прекрасной женщиной и русской печкой. Он вошел в переполненный вагон и чуть было не упал на колени к какой-то цыганке. Повторяя «простите, простите», кое-как примостился среди пассажиров, образовавших некую податливую человеческую массу. До отхода поезда оставалось еще как минимум три четверти часа. Юрьев слушал разговоры пассажиров. «Керенский совсем недалеко от города, в Гатчине. Юго-западный ветер уже доносит запах его солдат». «Жестокий генерал Корнилов, уже пытавшийся в этом году взять Петроград, освобожден. Своими собственными руками он убил стороживших его солдат, и теперь со своей дикой азиатской дивизией текинцев угрожает всем и каждому». «Контрреволюционный юнкерский переворот начнется в полночь. Подпись: Гоц и Полковников». «Правда ли, что большевики бежали на „Аврору“ и готовы отплыть в любой момент?..»
В Петрограде поставили спектакль, без сомнения являвшийся трагедией, и поэтому перепуганный актер был счастлив, что находится в поезде. Только бы он тронулся. Наконец состав дернулся и пошел по перепачканным сажей рельсам мимо водонапорных башен и стен, на которых утренние лозунги были перечеркнуты вечерними. Последний взгляд на Петроград Юрий обронил без любопытства и сантиментов, а затем друг друга начали сменять обледеневшие поля, низкие заросли кустарника, редкие деревушки и какие-то черные птицы с желтыми клювами, сопровождавшие состав метрах в десяти. И этот поезд часто останавливался. Однажды его чуть не реквизировали для нужд Народного комитета Уфы и Златоуста. По дороге часть пассажиров сошла, часть была мобилизована в армию, на их место пришли другие, но состав все-таки двигался дальше. Когда они миновали Златоуст, Юрьев решил, что его пьеса начнется в Чурилове. Это настоящая русская провинция. Он помнил, что однажды был здесь проездом в соседний Челябинск, где играл в пьесе «Месяц в деревне».
Ему не терпелось приехать и обрести покой. Поезд наконец прибыл к небольшому деревянному вокзалу Чурилова, и актер со своим узлом с готовностью выпрыгнул на перрон. Поискал извозчика, но его не оказалось. Он спросил об автобусе, но ему сказали, что все автобусы реквизированы для нужд Совета Челябинской области. Он вздрогнул и сказал себе, что снова попал не в ту пьесу. В этой «неправильной пьесе» он провел три дня, ожидая следующего поезда. Пришлось ходить на рынок и продавать там вещи «из середины узла» за кусок жирного копченого сала, пахнувшего… плесенью. Наконец, грязный и голодный, он дождался своего поезда. Очередным прекрасным русским городом, куда он прибыл, была Медведка. Снова та же картина, даже худшая. Какой-то явно мертвый человек лежал рядом с платформой, и никому не пришло в голову его убрать, словно актер Юрьев оказался в одной из трагедий Шекспира. Очевидно, что на русской сцене ставились только трагедии, но премьер Александринки, бенефис которого в пьесе «Маскарад» состоялся неделей раньше, не собирался прекращать поиски. Он известный, опытный актер и имеет право выбирать репертуар.
Снова на поезд! Три дня и три ночи, три страшных дня и еще более страшных ночи, три туманных дня и три непроглядных ночи понадобились ему, чтобы перебраться из Челябинской в Ярославскую область. Там он мечтал найти еще один идеальный провинциальный русский городок – Лесную Поляну, но когда увидел, что и там революция и что нигде нет остекленевшего, как зеркало, снега, снова вытащил свой театральный пистолет, но пуля и в этот раз отказала ему. Неизвестно, где остановился актер в своем путешествии по России, но соседка Звороткина клялась, что он больше никогда не вернулся в свою удобную квартиру на Литейном проспекте.
И в доме доктора Честухина на Фонтанке снова царила суета. Собирали одежду в узлы: один будет нести доктор, один для тетки Маргариты, один для Настасьи и еще один, маленький, для Маруси. Честухины тоже слышали, как лучше всего собираться в дорогу, но вместо оружия доктор положил в свой узел самые необходимые медикаменты и инструменты. Все укоряли его за то, что он берет это с собой, но он настаивал: врач не отправляется в дорогу без своих инструментов. Ему уступили. Заторопились, почти сталкиваясь друг с другом, как в какой-то комедии, пытаясь что-нибудь добавить к уже отобранным вещам. В конце собрали семейный совет. Каждый перечислил то, что нужно взять с собой, и все не сводили глаз со стоящих на столе ценностей: посеребренного самовара, двух небольших икон, поддельного яйца Фаберже, двух больших гобеленов на буколистические сюжеты, двух Лизиных колец из золота пробы в двенадцать карат с небольшими рубинами, прекрасного янтаря с заточенной в нем пчелкой, подаренного Сергеем жене на новый 1915 год, Георгиевского креста, полученного Лизой на Восточном фронте, и двух любимых кукол Маруси. Сейчас семейный совет должен был решить, что они возьмут с собой. Инструменты доктора на этот раз не были выставлены на домашний аукцион.
Уже подошли к дверям и, подобно всем беглецам, задали себе вопрос, надо ли их запирать, но тут доктор Честухин хлопнул себя по лбу, словно что-то забыл. Остановился и сказал: «На этот раз мы никуда не едем». Никто не возражал. Казалось, всем стало легче. До вечера они распаковали все вещи, а ценности хорошо припрятали в дымоходы и под расшатанные пороги.
Честухины, может быть, и могли отказаться от поездки, но Романовы не могли. Одних караульных сменили другие, гораздо более жестокие и необразованные. Кто-то мимоходом сообщил им, что произошла новая, большевистская революция. И тогда царская семья отправилась в дорогу. Из Петрограда выехали все члены семьи, царский врач Боткин, одна служанка и один матрос, не желавший расставаться с цесаревичем. Вначале они ехали в каком-то бронированном автобусе, переоборудованном для целей революции. Первое путешествие длилось недолго. Их отвезли в пригород Петрограда. Разрешили взять с собой самое необходимое: иконы, часть фамильных украшений, серебряный чайник, небольшую бирюзовую птичку из мастерской Фаберже, по одной песцовой горжетке для царицы и великих княжон, некоторые книги из библиотеки Александры Федоровны, среди которых выделялся «Антихрист» преподобного Нила, а также носильные вещи. Никто не заставил их связывать одежду в узлы. Вначале революционеры пытались быть если не любезными, то хотя бы практичными и полезными. Романовым сказали, что их переводят в безопасное место.
На другой остановке, в сибирском Тобольске, утверждали, что они останутся там по меньшей мере на несколько месяцев, но царь, основываясь на своих снах, увиденных другими, понял, что это не тот самый приснившийся ему просторный дом, и поэтому сказал: «Не распаковывайте вещи, мы скоро уедем отсюда». Через несколько дней их снова посадили на поезд. Отдельный вагон, похожий на тот, в котором Николай подписал судьбоносный акт отречения от престола, был опечатан и прицеплен к обычному составу. Все занавески были задернуты. Если бы кто-то закричал и попытался приблизиться к окнам, его могли убить. Сейчас конвоиры уже даже отдаленно не напоминали любезную охрану из бронированного автобуса. В маленький городок на Урале они прибыли через три дня, питаясь только корками черного хлеба и бледным чаем из самовара.
Когда они наконец прибыли на место, царь и на этот раз не узнал дом из своих снов и снова приказал не распаковывать вещи. В третий раз они отправились в путь раздельно: вначале царь и царица, потом – дети. Последнее путешествие на повозках, запряженных волами, продолжалось почти неделю, но, когда они все-таки оказались в доме купца Ипатьева, выглядевшего точно таким, каким царь его видел во снах, он распорядился распаковать вещи. Это был их дом, последний – но все-таки дом…
Свой новый дом в Крыму обрел и великий князь Николай. Его еще считали главнокомандующим, многие еще видели в нем командира, но он чувствовал себя сломленным человеком. Отречение брата, десятидневное командование русской армией, а потом новые перемены, депортация в Крым и полная изоляция… Он тоже помнил свой шестидневный путь от Могилева до Киева, от Киева до Петрограда, от Петрограда до маленькой станции Симферополь в Крыму. И его встретили на бронированном автомобиле со словами: «Ваше высочество, это делается для вашей безопасности, в наше время по улицам шляются всевозможные банды». Сквозь прорезь в металлическом щитке водителя великий князь мог видеть лишь небольшую часть окрестностей. Он смотрел на пальмы, олеандры, бутенвиллеи и апельсиновые деревья и думал, что в этом природном раю революция невозможна, но ошибся.
Его поместили в большом доме колониального стиля в предместье Севастополя. Вероятно, когда-то это был красивый дом в мавританском стиле, поросший лианами и окруженный березами, но после смерти последнего владельца стал быстро приходить в упадок. Сад, окружавший дом, зарос сорняками и слился с ближайшим лесом. Огромные мрачные и сырые комнаты были оклеены уже изорванными обоями, из кранов текла грязная желтоватая вода, над заброшенным и наполовину развалившимся бассейном роились большие черные жуки… Вскоре после приезда к нему приставили караул и предоставили в его распоряжение старого татарина и татарку в качестве прислуги. Двое тихих и работящих людей быстро навели в доме относительный порядок, так что великий князь снова почувствовал себя аристократом, но уже под домашним арестом.
Он не мог выйти на улицу, гулять по набережной, вначале даже нельзя было принимать посетителей, но все это продолжалось недолго. Севастополь был далек от октябрьских беспорядков, а солдаты оказались ленивыми и склонными к подкупу. Город находился под властью большевиков, но в него регулярно как грабители наезжали казаки, которых никто и пальцем тронуть не смел. Поэтому и его караульные не видели причин, чтобы не закрыть один или оба глаза на происходящее. Вскоре они разрешили ему все, только бы не заметило начальство, а его и так не было. Потом они стали выдавать себя за господ и поклонников царской семьи. А по сути дела, выполняли обязанности посыльных и привратников. Вводили посетителей и важно провозглашали: «Адмирал Колчак, главнокомандующий Черноморским флотом», «Господа казаки с Кубани», «Господа представители города Ялты», «Его преосвященство Владыка Крымский Василий»…
Но что это были за аудиенции… Какие-то дикие, растрепанные, развязные и возбужденные люди приходили к великому князю и предлагали ему взять на себя командование то одним, то другим. Например, в понедельник к нему приходит адмирал Колчак. Появляется в грязных брюках и испачканных ботинках, беспрерывно повторяя: «Простите, ваше высочество». Говорит это, стреляет своими черными зрачками на фоне окровавленных белков и угрожающим тоном, не оставляющим никакого выбора, предлагает Николаю взять на себя командование Крымским флотом. Во вторник к нему заявляются казаки, только что вошедшие в город. У них кудлатые нечесаные бороды, словно у сатиров, и шашки, небрежно очищенные от крови. Они предлагают ему обновление Русского царства! В среду прибывает делегация от города Ялты. Три гражданина в заплатанных довоенных рединготах уселись напротив великого князя, а когда подали бледный чай и немного убогого, чуть сладкого печенья из гречневой муки, приготовленного заботливой татаркой, набросились на угощение так, словно не ели несколько дней. Только после третьей чашки чая они рассказали ему, что в старинной богатой Ялте – хотя власть там принадлежит большевикам – все в порядке, и они очень хотят, чтобы великий князь стал жителем их города и покинул этот жалкий дом в предместье Севастополя! В четверг его снова посещает какой-то морщинистый, за одну ночь поседевший человек, в пятницу – еще раз субъект со следами крови на одежде, в субботу – Владыка Крымский, погруженный в свое разочарование и обернутый в свой фанатизм.
Так же как и в начале 1917 года в Царском Селе у Николая II, аудиенций у великого князя в конце этого несчастного года было не счесть. Не лучше обстояли дела и на противоположной, большевистской стороне. В эти дни каждый принимал каждого или отправлялся поездом на назначенные переговоры. Переговоры вели между собой люди, которые никогда не стали бы жить под одной кровлей, вместе есть или хотя бы пить чай. Переговоры вели между собой гиены со львами, но гиены надевали на себя львиные шкуры, а львы скалились, как гиены… Лев Троцкий – тот, кому неизвестный пьяница в Женеве в 1916 году предсказал изгнание и смерть на равнодушной чужбине, – сейчас, в 1917 году, все еще находился на вершине власти и в качестве народного комиссара иностранных дел ехал в Брест-Литовск на переговоры с немцами и турками об окончании Великой войны на Восточном фронте.
Он тоже воспользовался поездом, но железнодорожная ветка, по которой он ехал через месяц после революции, больше не допускала опозданий поездов на несколько дней и никто, как разбойник, не останавливал паровозы в чистом поле. В красиво обставленном вагоне прежнего царского правительства товарищ Троцкий в одиночестве сидел за большим письменным столом, освещенным лампой под зеленым стеклянным абажуром. Двадцать второго декабря 1917 года Советская Россия подписала перемирие с Центральными державами, и комиссар думал, что переговоры станут простой формальностью. Он смотрел в окно на обледеневшую русскую землю, и ему казалось, что даже скудная зимняя растительность при новой власти выглядит по-другому. О пьянице из Женевы он совсем забыл. В кожаном костюме, с суховатым лицом и короткой козлиной бородкой, он полностью вписывался в свое время, и ему казалось, что ничто не может вывихнуть его из сустава, но он ошибался.
Когда он прибыл на вокзал Брест-Литовска, встречающих было немного. Он заметил немецких и турецких военных и, среди небольшой группы пассажиров, которые, казалось, заблудились на границе Белоруссии и Польши, четыре странные фигуры.
Первым бросается в глаза один худощавый господин. Твидовый костюм, перетянутый в талии ремнем, нервное переступание с ноги на ногу и взгляд бродяги – настоящий портрет русского за границей. У этого путешественника соломенно-желтые волосы, пухлые малиновые губы, слишком полные для мужчины, и бегающие глаза.
Рядом с ним стоит тучная женщина. Ее фигура напоминает грушу: остроконечная голова переходит в полные щеки, толстая шея – в огромную дряблую грудь, свисающую до живота, которая перетекает в похожую на мешок задницу. Она замотана в юбки и платки на русский манер, а ее толстые бедра, очерченные юбкой, напоминают внушительное основание огромной красной груши.
Возле нее стоит человек, который не может быть русским. Этот иностранец горд и прям, как кнут извозчика, у него голубые глаза и взгляд птичьего чучела. У него есть очки для чтения, для торжественных случаев, для зимы… Одни очки он опускает в карман, другие водружает на нос, чтобы получше рассмотреть товарища Троцкого.
Последний незнакомец из этой группы наркому иностранных дел кажется похожим на немца. У него щеки, надутые как шелковые шары, с красными прожилками. Он тяжело дышит, у него высокое кровяное давление; похоже, что он плохо переносит зиму. Русскую – особенно. Он одет в кожаное пальто и, поверх него, в две долгополые шубы, доходящие до подошв. Грузный, закутанный в меха песца и соболя, он похож на степного медведя.
Эти странная четверка сразу же отделяется от группы остальных встречающих и приближается к Троцкому. Наркому хочется избежать встречи, но ему это не удается. Они окружают его со всех сторон и шепчут на ухо: «Это будет нелегко, товарищ Троцкий, это будет совсем не просто». Он хочет сбежать от них, но они, к счастью, удаляются сами. С приличного расстояния смотрят на него с выражением некоей любви, как будто бы они его родители… Когда к товарищу Троцкому наконец подходят представители немецкого Генерального штаба, эти четверо продолжают смотреть на наркома иностранных дел с безопасного расстояния. На их лицах – улыбки, а в глазах – слезы, словно они провожают его в долгую и неизвестную дорогу…
Что будет непросто, что путь переговоров полон ловушек, нарком Троцкий увидел уже через несколько дней, проведенных за столом, покрытым зеленым сукном. Он прибыл, чтобы потребовать восстановления довоенной ситуации, но противная сторона, считавшая себя победительницей, даже не хотела слышать об этом. Через семь дней переговоры были прерваны, чтобы немцы могли вернуться домой и встретить новый 1918 год. Это обстоятельство Троцкий использовал для того, чтобы вернуться в Москву и представить Ленину первый отчет о переговорах. На обратном пути на вокзале Брест-Литовска он снова увидел проклятую четверку. Они не стали его окружать, даже не думали подходить, и только их лица – как ему показалось – были на этот раз еще более печальными…
Позже в Москве Троцкий, конечно, забыл о западном Новом годе и об этой четверке; дел было так много, что даже за столом удавалось поспать всего несколько часов в сутки.
Посыльный 16-го полка фон Листа Адольф Гитлер встретил новый 1918 год радостно. В отпуске он побывал в Берлине и вернулся с записной книжкой, полной чертежей и планов. В этой книжечке он «реорганизовал» Национальную галерею. Гитлер не мог понять, почему произведения баварского художника Петера Корнелиуса занимают в ней центральное место за счет – по его мнению – гораздо более значительных Адольфа Менцеля и австрийца Морица фон Швинда. Поэтому он взял в руки свой блокнот и начертил план новой Национальной галереи, где в центре поместил Менцеля и Швинда, а Корнелиуса «поселил» в одном, весьма скромном, зале. Друзьям он сказал, что это только начало и он намерен реорганизовать весь Берлин, в ответ они разразились громким хохотом и, пьяные, плевали в него пивом.
Последний австрийский император решил встретить Новый год на итальянском фронте вместе со своими победоносными частями. Решение он принял скоропалительно и без предупреждения прибыл на берег реки Пьяве, так что его подчиненные даже не успели убрать мертвецов с дороги. Император был несколько удивлен, ему было неприятно – все-таки это были мертвецы – но он нашел в себе силы поприветствовать храбрый батальон капитана Эрвина Роммеля, как и положено приветствовать героев.
В Париже на Новый год было весело. Дядюшка Либион из «Ротонды», дядюшка Комбес из «Клозери де Лила» и дядюшка Комбон из «Дома» поделили встречу этого, как они надеялись, последнего военного года: с семи до девяти – у Либиона, с девяти до полуночи – у Комбеса, а уже в новом 1918 году – у Комбона. Когда веселая процессия деятелей всех видов искусств, присутствовавших на свадьбе у Кислинга, в девять часов двинулись в путь, они еще могли ходить; когда в полночь отправились из «Клозери де Лила» в некогда прокаженный «Дом», они больше вопили и спотыкались, чем шагали. А когда под утро вышли из «Дома», они – в основном – просто блевали. Аполлинер много пил и ел. Останавливался, чтобы проблеваться и исторгнуть из себя целые куски непереваренной домашней колбасы. Когда к нему подбежал тощий пес и стал жадно их есть, пьяница мудро заметил: «Я знаю, что ел колбасу, но о том, что съел целого пса, понятия не имел…»
Кики с Монпарнаса в полночь страстно любила художника Фуджиту. Закрыв глаза, она водила по его губам своим маленьким язычком и мысленно уже представляла себе, как знакомится с кем-то новым. Она занимается любовью и думает: на Париж пал туман, и все решили, что могут поиметь любого, встреченного на улице. Она слоняется по мосту Руаяль, а навстречу ей идет ее новый кавалер. На этот раз пусть он будет фотографом. Сейчас это модно!
Сорок восемь процентов живого Фрица Габера в новом 1918 году завидовали пятидесяти двум процентам мертвой половины.
О том, как встретили новый 1918 год Флори Форд и Дитер Уйс, не стоит и говорить. Окружающая их тишина была для них страшнее смерти.
Новый 1918 год фон Бойна встретил спокойно и, по его мнению, в безопасности, но он ошибался. В новогоднюю ночь собственные ордена решили его убить. Как маленьким кусочкам сапфира, топаза и позолоченного никеля пришла эта идея, сказать трудно. Легче сказать, каким образом они собирались осуществить задуманное. Они надеялись, что фельдмаршал получит приглашение на какое-нибудь торжество, что его пригласит начальник штаба или очень симпатичный ему молодой офицер, и тогда фельдмаршал наденет парадную форму. На нее, ожидали они, он наденет ордена, которые уже давно не носит, а они исколют его своими иглами и острыми краями крестов, как стрелами, и отомстят за непростительное пренебрежение… Бойна получил целую кучу орденов, и многие – что и в самом деле непростительно – никогда не демонстрировал публично. Таким образом, было необходимо, чтобы состоялось празднование Нового года, чтобы он получил приглашение на бал в Триесте и сказал себе: «Теперь надо одеться». Но разве в прошедшем военном году он, когда при полном параде прибыл на площадь Биржи и почувствовал, как его колют собственные ордена, не зарекся больше никогда не надевать парадную форму? Да, и это делало задачу еще более трудной. Самостоятельно ордена не могли прикрепить себя к форме, однако в окружении Бойны и среди его подчиненных было много тех, кто хотел помочь людям, «обойденным признанием их заслуг», и они с самого Рождества уговаривали командующего, чтобы на новогодний офицерский бал для старших чинов он пришел в парадной форме и при всех наградах. На это ордена и рассчитывали. Заводилами среди разочарованных знаков отличия были: рыцарский крест ордена Марии Терезии, австро-венгерская «Серебряная лента с мечами», Золотая медаль Османской империи, «Крест за военные заслуги» Мекленбург-Шверина, «Большая звезда» Общества Красного Креста и прусский орден «За заслуги». Вначале все шло в пользу орденов. Приглашение прибыло. Фон Бойна все-таки вытащил два комплекта формы, две каски из черного бакелита с перьями и две пары сапог, сияющих, как черные цыганские глаза. Он принялся одеваться, но потом внезапно остановился. На праздник он отправился в обычной форме: без эполет, без каски и без единого ордена. Он был звездой вечера за столом фон Бюлова, а наградам, оставшимся скучать в темноте, пришлось дожидаться нового удобного случая.
Красный Барон праздновал свой последний Новый год в летной столовой. Поцелуи его возлюбленной были пьянящими, как смерть. Ее губы прижимались к его губам так, что ему казалось, они никогда не расстанутся. У губ девушки был вкус переспелой черешни, и, хотя это не обещало ничего хорошего, они соблазняли его продолжать любить их и дальше.
Портниха Живка встретила Новый 1918 год с сыном на руках. Она начала учить его первым словам, но Евгений вместо того, чтобы сказать «мама» или «тетя» (об отце он не слышал ни слова), прежде всего пролепетал что-то вроде «ка-ка-рман…».
Сергей Честухин Новый год по юлианскому календарю встретил у себя дома. В каком-то журнале он прочитал, что в Советской России обувь будут менять каждый месяц, и под Новый год разбудил Марусю со словами: «Маруся, Маруся, счастливого тебе нового 1918 года. А в следующем, 1919 году у нас будет по десять пар туфель». Маруся спросила, значит ли это, что в новой России у всех будет по двадцать ног, но Сергей только засмеялся и больше не мешал дочке спать.
Великий князь встретил Новый год в Севастополе. Он не радовался ему, и на его затвердевшем лице не появилось даже тени улыбки. Словно и Новый год явился к нему на аудиенцию. Что он сделал в предыдущем году? Не переселился в Ялту, не занял ни одной фантомной должности и отказался от всех почестей, словно пытаясь разорвать паутину или разогнать призраков. Он видел, что приближается час отъезда из России, и ему казалось, что на унылой чужбине он будет тосковать о своих редких охотничьих собаках, борзых, которых не сможет взять с собой.
Сухомлинов и Сухомлинова в… – но их в этой хронике упоминать больше не стоит.
Перед Новым 1918 годом король Петр принял необычного посетителя. Этот незнакомец в форме сербского майора предстал перед ним, чтобы, в отличие от других, появлявшихся со смесью скуки и бесчестья, сообщить старому правителю нечто, что он должен услышать, но никак не одобрить. Совсем наоборот. Майор Радойица Татич, герой многих сражений, три дня провел в Афинах, ожидая аудиенции. Сначала королю не сообщили о просьбе майора, а потом Петр должен был встретиться с несколькими делегациями на высшем уровне, члены которых с таким равнодушием кивали головами, что даже мухи, сидевшие на их лбах и щеках, не видели причины улетать. Так уж случилось, что король принял майора Татича в последний – по юлианскому календарю – день 1917 года. «Что я могу для вас сделать, майор?» – спросил король, на что Татич, к его удивлению, ответил: «Ничего, ваше величество. Я пришел рассказать вам историю». – «Историю?» – «Да, историю, одну военную историю. Обо мне, ваше величество, вы можете навести справки… Я герой сражений на Дрине и при Каймакчалане. За это вы наградили меня тремя орденами… Страшный мороз стоял на Каймакчалане, когда мы на вершине Святого Илии бросились в штыки на болгар, об этом вы, конечно, знаете. Но, возможно, вы не слышали, что во время этой атаки я был первым, как и всегда до этого, но ни в одном из боев я не был ранен ни штыком, ни пулей…» – «Везение или что-то другое?» – спросил король. «Что-то другое, ваше величество. У меня было волшебное зеркальце. Я передавал ему весь свой страх, а оно меня, храброго до сумасшествия, хранило от гибели». – «Какое интересное зеркало, – сказал король, – а как вы передавали ему свой страх?» – «Там, в отражении, мое испуганное „Я“ проглатывало весь мой страх и волнение, и это „Я“ старилось и старилось, а меня, остававшегося по эту сторону зеркальной мембраны, делало неприкосновенным и бессмертным». – «А не могли бы вы, майор, – доверительно спросил король, – одолжить мне это ваше зеркальце, ибо я, вы этому не поверите, боюсь очень многого, а больше всего – смерти». – «Не могу, ваше величество, это зеркальце я уже отдал другому». – «Кому?» – «Одному герою, майору Любомиру Вуловичу». – «Вуловичу… кажется, мне знакома эта фамилия… И теперь он с вашим зеркальцем герой, а вы – как эллинский Ахилл – уязвимы? Да, а что с Вуловичем?» – «Погиб, ваше величество». – «Как же так? Зеркальце испортилось, потеряло свою силу?» – «Вероятно, мой король. Наверное, смерть Вуловича была неизбежна, поэтому его не спасло даже волшебное зеркало». – «Мы поставим ему памятник, когда вернемся на родину». – «Да, ваше величество». Король встает и спрашивает героя войны: «А вы не останетесь поужинать со мной? Уже поздно, и скоро наступит новый 1918 год». – «Не могу, ваше величество, – отвечает ему майор Татич, – я обещал побратиму, что сообщу вам о его смерти, и выполнил свое обещание. А сейчас я спешу. Ночной скорый поезд на Салоники отходит меньше чем через час, а отпуск у меня только до утра. Прощайте». С этими словами Татич вышел. Он встретил новый 1918 год на перроне афинского вокзала. Когда около часа ночи подошел поезд, майор пробормотал про себя: «Побратим, теперь мы квиты. Я и к королю в ноги бросился, а он про тебя забыл…» – и вошел в вагон.








